Читать книгу "Ecce Homo. Как становятся самим собой"
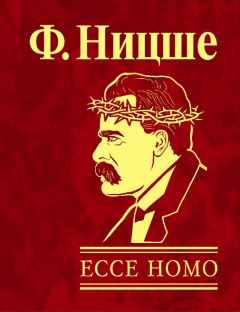
Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Рождение трагедии
1
Чтобы быть справедливым к «Рождению трагедии» (1872), надо забыть о некоторых вещах. Эта книга влияла и даже очаровывала тем, что было в ней неудачного, – своим применением к вагнерщине, как если бы последняя была симптомом восхождения. Именно поэтому это сочинение было событием в жизни Вагнера: лишь с тех пор стали связывать с именем Вагнера большие надежды. Еще и теперь напоминают мне иногда при представлении Парсифаля, что собственно на моей совести лежит происхождение столь высокого мнения о культурной ценности этого движения. – Я неоднократно встречал цитирование книги как «возрождения трагедии из духа музыки»: были уши только для новой формулы искусства, цели, задачи Вагнера – сверх этого не услышали всего, что эта книга скрывала в основе своей ценного. «Эллинство и пессимизм»: это было бы более недвусмысленным заглавием – именно как первый урок того, каким образом греки отделывались от пессимизма, – чем они преодолевали его… Трагедия и есть доказательство, что греки не были пессимистами. Шопенгауэр ошибся здесь, как он ошибался во всем. – Взятое в руки с некоторой нейтральностью, «Рождение трагедии» выглядит весьма несвоевременным: и во сне нельзя было бы представить, что оно начато под гром битвы при Верте. Я продумал эту проблему под стенами Метца в холодные сентябрьские ночи, среди обязанностей санитарной службы; скорее можно было бы вообразить, что это сочинение старше пятьюдесятью годами. Оно политически индифферентно – «не по-немецки», скажут теперь, – от него разит неприлично гегелевским духом, оно только в нескольких формулах отдает трупным запахом Шопенгауэра. «Идея» – противоположность дионисического и аполлонического – перемещенная в метафизику; сама история, как развитие этой идеи; упраздненная в трагедии противоположность единству, – при подобной оптике все эти вещи, еще никогда не смотревшие друг другу в лицо, теперь были внезапно противопоставлены одна другой, одна через другую освещены и поняты… Например, опера и революция… Два решительных новшества книги составляют, во-первых, толкование дионисического феномена у греков – оно дает его первую психологию и видит в нем единый корень всего греческого искусства. – Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, узнанный впервые как орудие греческого разложения, как типичный decadent. «Разумность» против инстинкта. «Разумность» любой ценой, как опасная, подрывающая жизнь сила! Глубокое враждебное умолчание христианства на протяжении всей книги. Оно ни аполлонично, ни дионисично; оно отрицает все эстетические ценности – единственные ценности, которые признает «Рождение трагедии»; оно в глубочайшем смысле нигилистично, тогда как в дионисическом символе достигнут самый крайний предел утверждения. В то же время здесь есть намек на христианских священников как на «коварный род карликов», «подпольщиков»…
2
Это начало замечательно сверх всякой меры. Для своего наиболее сокровенного опыта я открыл единственное иносказание и подобие, которым обладает история, – именно этим я первый постиг чудесный феномен дионисического. Точно так же фактом признания decadent в Сократе дано было вполне недвусмысленное доказательство того, сколь мало угрожает уверенности моей психологической хватки опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии, – сама мораль, как симптом декаданса, есть новшество, есть единственная и первостепенная вещь в истории познания. Как высоко поднялся я в этом отношении над жалкой, плоской болтовней на тему: оптимизм contra пессимизм! – Я впервые узрел истинную противоположность – вырождающийся инстинкт, обращенный с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм, как его типичные формы), и рожденная из избытка, из преизбытка формула высшего утверждения, утверждения без ограничений, утверждения даже к страданию, даже к вине, далее ко всему загадочному и странному в существовании… Это последнее, самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и самое глубокое, наиболее строго утвержденное и подтвержденное истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено, нет ничего лишнего – отвергаемые христианами и прочими нигилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, назвать хорошим инстинкт decadence. Чтобы постичь это, нужно мужество и, как его условие, избыток силы: ибо, насколько мужество может отважиться на движение вперед, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание, утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого, под давлением слабости, трусость и бегство от реальности – «идеал»… Слабые не вольны познавать: decadents нуждаются во лжи – она составляет одно из условий их существования. – Кто не только понимает слово «дионисическое», но понимает и себя в этом слове, тому не нужны опровержения Платона, или христианства, или Шопенгауэра, – он обоняет разложение…
3
В какой мере я нашел понятие «трагического», конечное познание того, что такое психология трагедии, это выражено мною еще в Сумерках идолов: «Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая в жертве своими высшими типами собственной неисчерпаемости, – вот что назвал я дионисическим, вот в чем угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением, – так понимал это Аристотель, – а для того чтобы, наперекор ужасу и состраданию, быть самому вечной радостью становления, – той радостью, которая заключает в себе также и радость уничтожения…»

В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого трагического философа – стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого пессимистического философа. До меня не существовало этого превращения дионисического состояния в философский пафос: недоставало трагической мудрости – тщетно искал я ее признаков даже у великих греческих философов за два века до Сократа. Сомнение оставил во мне Гераклит, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения и уничтожения, отличительное для дионисической философии, подтверждение противоположности и войны, становление, при радикальном устранении самого понятия «бытие» – в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор было помыслено. Учение о «вечном возвращении», стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, – это учение Заратустры могло бы однажды уже существовать у Гераклита. Следы его есть по крайней мере у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления. —
4
Из этого сочинения говорит чудовищная надежда. В конце концов у меня нет никакого основания отказываться от надежды на дионисическое будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперед, предположим случай, что мое покушение на два тысячелетия противоестественности и человеческого позора будет иметь успех. Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач, более высокое воспитание человечества, и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на земле преизбыток жизни, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние. Я обещаю трагический век: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия, возродится, когда человечество, без страдания, оставит позади себя сознание о самых жестоких, но и самых необходимых войнах… Психолог мог бы еще добавить, что то, что я слышал в юные годы в вагнеровской музыке, не имеет вообще ничего общего с Вагнером; что, когда я описывал дионисическую музыку, я описывал то, что я слышал, – что я инстинктивно должен был перенести и перевоплотить в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому – настолько сильное, насколько доказательство может быть сильным, – есть мое сочинение «Вагнер в Байрейте»: во всех психологически-решающих местах речь идет только обо мне – можно без всяких предосторожностей поставить мое имя или слово «Заратустра» там, где текст дает слово Вагнер. Весь образ дифирамбического художника есть образ пред существующего поэта Заратустры, зарисованный с величайшей глубиною, – без малейшего касания вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. – Равным образом «идея Байрейта» превратилась в нечто такое, что не окажется загадочным понятием для знатоков моего Заратустры: в тот великий полдень, когда наиболее избранные посвящают себя величайшей из всех задач, – кто знает? призрак праздника, который я еще переживу… Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос; взгляд о котором идет речь на седьмой странице, есть доподлинный взгляд Заратустры; Вагнер, Байрейт, все маленькое немецкое убожество суть облако, в котором отражается бесконечная фатаморгана будущего. Даже психологически все отличительные черты моей собственной натуры перенесены на натуру Вагнера – совместность самых светлых и самых роковых сил, воля к власти, какой никогда еще не обладал человек, безоглядная смелость в сфере духа, неограниченная сила к изучению, без того чтобы ею подавлялась воля к действию. Все в этом сочинении возвещено наперед: близость возвращения греческого духа, необходимость анти-Александров, которые снова завяжут однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры… Пусть вслушаются во всемирно-исторические слова, которые вводят понятие «трагического чувства»: в этом сочинении есть только всемирно-исторические слова. Это самая странная «объективность», какая только может существовать: абсолютная уверенность в том, что я собою представляю, проецировалась на любую случайную реальность, – истина обо мне говорила из полной страха глубины. На стр. 55 описан и предвосхищен с поразительной надежностью стиль Заратустры; и никогда не найдут более великолепного выражения для события Заратустра, для этого акта чудовищного очищения и освящения человечества, чем на стр. 41–44.

Несвоевременные
1
Четыре Несвоевременных являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был «Гансом-мечтателем», что мне доставляет удовольствие владеть шпагой, – может быть, также и то, что у меня рискованно ловкое запястье: Первое нападение (1873) было на немецкую культуру, на которую я уже тогда смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное «общественное мнение». Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу ее победы над Францией… Второе Несвоевременное (1874) освещает все опасное, все подтачивающее и отравляющее жизнь в наших приемах научной работы: жизнь, больную от этой обесчеловеченной шестеренки и механизма, от «безличности» работника, от ложной экономии «разделения труда». Утрачивается цель – культура: средства – современные научные приемы – низводят на уровень варварства… В этом исследовании впервые признается болезнью, типическим признаком упадка «историческое чувство», которым гордится этот век. – В третьем и четвертом Несвоевременном, как указание к высшему пониманию культуры и к восстановлению понятия «культура», выставлены два образа суровейшего эгоизма и самодисциплины, несвоевременные типы par excellence, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось «Империей», «образованием», «христианством», «Бисмарком», «успехом», – Шопенгауэр и Вагнер, или, одним словом, Ницше…
2
Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Шум, им вызванный, был во всех отношениях великолепен. Я коснулся уязвимого места победоносной нации – что ее победа не культурное событие, а возможно, возможно, нечто совсем другое… Ответы приходили со всех сторон, и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я сделал посмешищем как тип филистера немецкой культуры и satisfait[13]13
Довольный (фр.).
[Закрыть], короче, как автора его распивочного евангелия о «старой и новой вере» (– слово «филистер культуры» перешло из моей книги в разговорную речь). Эти старые друзья, вюртембержцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я нашел смешным их чудо, их Штрауса, отвечали мне так честно и грубо, как только мог я желать; прусские возражения были умнее – в них было больше «берлинской хмели». Самое неприличное выкинул один лейпцигский листок, обесславленные «Grenzboten»; мне стоило больших усилий удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно высказались за меня лишь несколько старых господ, по различным и отчасти необъяснимым основаниям. Между ними был Эвальд из Геттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Точно так же высказался старый гегельянец Бруно Бауэр, в котором я имел с тех пор одного из самых внимательных моих читателей. Он любил, в последние годы своей жизни, ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получать сведения об утраченном им понятии «культура». Самое глубокомысленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По моему сочинению он предвидел для меня великое назначение – вызвать род кризиса и дать наилучшее разрешение проблемы атеизма; он угадывал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. – Лучше всего была выслушана и с наибольшей горечью воспринята чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обыкновенно столь мягкого Карла Гиллебранда, этого последнего немецкого гуманиста, умевшего владеть пером. Раньше его статью читали в «Augsburger Zeitung», а теперь ее можно прочесть, в несколько более осторожной форме, в собрании его сочинений. Здесь моя книга представлена как событие, как поворотный пункт, как первое самосознание, как лучшее знамение, как действительное возвращение немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Гиллебранд был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в различении личности и вещи: он отмечал его как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки, – именно в столь опасном для немцев искусстве, как полемика, которое не следует им рекомендовать. Безусловно утверждая, даже обостряя то, что я осмелился сказать о порче языка в Германии (теперь они разыгрывают пуристов и не могут уже составить предложения), высказывая такое же презрение к «первым писателям» этой нации, он кончил выражением своего удивления моему мужеству, тому «высшему мужеству, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых»… Последующее влияние этого сочинения совершенно неоценимо в моей жизни. Никто с тех пор не спорил со мною. Теперь все молчат обо мне, со мною обходятся в Германии с угрюмой осторожностью: в течение целых лет я пользовался безусловной свободой слова, для которой ни у кого, меньше всего в «Империи», нет достаточно свободной руки. Мой рай покоится «под сенью моего меча»… В сущности я применил правило Стендаля: он советует ознаменовать свое вступление в общество дуэлью. И какого я выбрал себе противника! первого немецкого вольнодумца!.. На деле этим был впервые выражен совсем новый род свободомыслил; до сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская species «libres penseurs». С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами «современных идей», нахожусь я даже в более глубоком разногласии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему «улучшить» человечество, по собственному образцу; они вели бы непримиримую войну против всего, в чем выражается мое Я, чего я хочу, если предположить, что они это поняли бы, – они еще верят совокупно в «идеал»… Я первый имморалист. —
3
Я не хотел бы утверждать, что отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера Несвоевременные могут особенно служить к уяснению или хотя бы только к психологической постановке вопроса об обоих случаях – исключая, по справедливости, частности. Так, например, с глубокой уверенностью-инстинктом здесь обозначен главный элемент в натуре Вагнера, дарование актера, извлекающее из своих средств и намерений свои собственные следствия. В сущности, вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях: несравнимая ни с чем проблема воспитания, новое понятие самодисциплины, самозащиты до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам еще требовали своего первого выражения. В общем, я притянул за волосы два знаменитых и еще вовсе не установленных типа, как притягивают за волосы всякую случайность, дабы выразить нечто, дабы располагать несколькими лишними формулами, знаками и средствами выражения. Это отмечено напоследок с особой тревожной прозорливостью на стр. 350 третьего Несвоевременного. Так Платон пользовался Сократом, как семиотикой для Платона. – Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния, свидетельством которых являются эти сочинения, я не стану отрицать, что, в сущности, они говорят исключительно обо мне. Сочинение «Вагнер в Байрейте» есть видение моего будущего; напротив, в «Шопенгауэре как воспитателе» вписана моя внутренняя история, мое становление. Прежде всего мой обет!.. То, чем являюсь я теперь, то, где нахожусь я теперь, – на высоте, где я говорю уже не словами, а молниями, – о, как далек я был тогда еще от этого! – Но я видел землю – я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности – и успехе! Этот великий покой в обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обещанием! – Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно; нет недостатка в самом болезненном чувстве, есть слова прямо кровоточащие. Но ветер великой свободы проносится надо всем; сама рана не действует как возражение. – О том, как понимаю я философа – как страшное взрывчатое вещество, перед которым все пребывает в опасности, – как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических «жвачных животных» и прочих профессорах философии: на этот счет дает мое сочинение бесценный урок, даже если, в сущности, речь здесь идет не о «Шопенгауэре как воспитателе», а о его противоположности – «Ницше как воспитателе». – Если принять во внимание, что моим ремеслом было тогда ремесло ученого и что я, пожалуй, хорошо понимал свое ремесло, то представится не лишенный значения суровый образец психологии ученого, внезапно выдвинутый в этом сочинении: он выражает чувство дистанции, глубокую уверенность в том, что может быть у меня задачей, что только средством, отдыхом и побочным делом. Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и многосущим для умения стать единым – для умения прийти к единому. Я должен был еще некоторое время оставаться ученым.

Человеческое, слишком человеческое. С двумя продолжениями
1
«Человеческое, слишком человеческое» есть памятник кризиса. Оно называется книгой для свободных умов: почти каждая фраза в нем выражает победу – с этой книгой я освободился от всего не присущего моей натуре. Не присущ мне идеализм – заглавие говорит: «Где вы видите идеальные вещи, там вижу я – человеческое, ах, только слишком человеческое!..» Я лучше знаю человека… Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово «свободный ум»; освободившийся ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился: книгу найдут умной, холодной, при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность аристократического вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти Вольтера как бы извиняет издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего grandseigneur духа: так же, как и я. – Имя Вольтера на моем сочинении – это был действительно шаг вперед – ко мне… Если присмотреться ближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, где идеал чувствует себя дома, где находятся его подземелья и его последнее убежище. С факелом в руках, дающим отнюдь не «дрожащий от факела» свет, освещается с режущей яркостью этот подземный мир идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов – перечисленное было бы еще «идеализмом». Одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается – он замерзает… Здесь, например, замерзает «гений»; немного дальше замерзает «святой»; под толстым слоем льда замерзает «герой»; в конце замерзает «вера», так называемое «убеждение», даже «сострадание» значительно остывает – почти всюду замерзает «вещь в себе»…









































