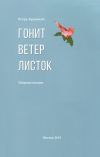Текст книги "Наша ИЗРАша"

Автор книги: Галина Щербакова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Степь (Израильская)
Признаюсь сразу в своем географическом идиотизме. Пустыня и степь – разные, как говорят в науке, биомы. Это я из словаря взяла. Но вот я еду по израильской пустыне – и степные воспоминания делают со мной что хотят. А я не девочка, я уже бабушка, но широта пространства по-прежнему делает со мной что хочет. Хочется растирать в руках траву из желтой земли пустыни и пробовать ее на вкус. На абсолютно синем небе я вижу пустыню как бы в зеркале, и там она у меня другая, грудастая, пышущая, сочная. Мы едем на машине по хорошей дороге, справа от нас, достаточно далеко, чтобы разглядеть подробности, стойбище бедуинов. Бродят верблюды, черные пятна лиц мужчин подчеркивают белизну одеяний. Им нет до нас дела, и это спокойное сосуществование мчащихся колес и величественных горбов навевает какие-то странные для меня мысли. Мир сочетаем, он не враждебен, и это тем более странно, что на севере Израиля стреляют вовсю. Я смотрю на пышную грудь пустыни в небе. Я идиотка – это облака. Но откуда у них соски, готовые дать нам молоко жизни? Я отдаю отчет, что это мой обычный бред – видеть на небе некие стигматы и вздымающиеся к нему руки земли.
Мой племянник и его жена озабочены дочерью, которую тошнит в машине, и мы останавливаемся. Я выхожу на кромку дороги и вижу на ней какие-то странные проводочки, они убегают в желтую бесконечность, а я трогаю их пальцем. Их невозможно растереть в руке, чтоб понюхать и лизнуть. Они людской природы, в том смысле, что их сделали люди.
– Что это? – спрашиваю я.
– Это вода для бедуинов.
Желтая степь напоена водой, но никто не посягнул на ее исконную пустынную сущность. И это торжество здешнего правила над дурью русских засух наполняет меня странным чувством зависти к разуму, оставленному этой земле. Богатейшие пространства России умирают от безводья, а тут какие-то полудикие народы пользуются высочайшей технологией. И я, украинка, плачу на обочине еврейской дороги и думаю о странном: на меня здесь не обрушивается небо и не встает дыбом пустыня. Я гожусь здесь такая, какая я есть, меня принимает эта природа, и мне не надо с ней бороться. Тогда как в родном отечестве я всю свою уже долгую жизнь участвовала в какой-нибудь остервенелой борьбе. Против суши или половодья, за урожай или его спасение после жатвы. В моем отечестве идет постоянная борьба – то за природу, то против нее. И всем от этого становится не лучше, а хуже. А если бы у нас еще бродили бедуины с верблюдами?.. Но у нас же есть цыгане, и они делят с нами наше все.
Я подымаю голову. Мне так легко дышится, пустыня спокойна, горда и величава.
Где-то здесь, думает моя голова, только и могла зародиться жизнь. Но Боже мой! О чем это я? Причем тут это? Разве я не знаю, что именно здесь сын первого человека на земле уже убил своего брата? Дальше – не сосчитать… Но об этом я подумаю потом. Слишком хорошо сейчас. Божественно хорошо. Синее небо, дивные облака и воздух, исполненный какого-то необъяснимого смысла (воздух – смысла? Что это со мной?).
Но я заговариваюсь, вернее замысливаюсь дальше. Меня настигает, постигает или просто обрушивает ощущение веры, веры в единое начало меня и песка, бедуина и машины, солнца и земли.
Ан, не все так просто, хоть в степи под Херсоном, хоть в пустыне Негев. По шоссе, с обратной от нас стороны, едет машина. Она тормозит возле нашей, и мужчина, выйдя, спрашивает, не случилось ли что.
– Ничего, – отвечает жена племянника, – дочку укачало.
Меня, сидящую на обочине, не видно. Из машины выходит женщина и подходит к девочке.
– Хочешь сока? Минералки?
Девочка качает головой.
А я смотрю на женщину. Это дочь моей подруги Жанна Клячкина. Но это ее фамилия по отцу, потом она была, дай Бог памяти, Ситченко, потом не то Шпуцер, не то Штуцер. Кто она сейчас, я не знаю. Как не знает и ее мать. Уже лет десять тому, в самый что ни на есть дефолт, дочь бросила неудачливого в делах мужа, свою дочь-подростка, родителей со всеми их проблемами старости и уехала с этим Шпутуцером в Израиль. Дочери она пообещала, что заберет ее как только, так сразу. Родителям не сочла нужным сказать даже до свидания (такой бы подняли вой – себе дороже, объясняла она другим). С тех пор о ней ни слуху, ни духу. Одно время она слала открытки дочери, сообщая, что как только так сразу приближается неукоснительно. Потом и эта связь прервалась.
Мужчина, что вышел из машины, Шпу-Шту не был. Я видела того и даже немного знала: старый, некрасивый еврей, лживистый, хитроватый и без понятия добра и зла (они у него менялись местами в зависимости от обстоятельств); у него были деньги, а Жанка по внешности была вполне презентабельна для роли жены-содержанки. Кто был тот, что стоял по ту сторону машины, я могла только предполагать. Новый муж? Любовник?..
Какое мое дело? С ее родителями я давно не общалась. Они продали квартиру в Москве и купили домик в деревне. Опростились, стали рьяными прихожанами церкви. Внучка вышла за финна и живет где-то там, где мне было бы холодно.
Никакой удивительности судьбы, рядовой русский развал бывшей советской семьи, где нелюбовь друг к другу заложена в основание. Слишком много Ленина, слишком много Сталина, избыток красного и недостаток всего остального, продуктов, штанов, доброты. Откуда ей быть в стране победившего ГУЛАГа?..
И не мне осуждать кого-то, мой сын, единственный и обожаемый, спрыгнул с родного сеновала одним из первых. Врачует жителей Миннесоты и говорит по телефону так раздраженно, будто мы у него на хлеб просим. И где-то там растут неведомые мне внуки. Очень долго их мордочки висели у меня на стенах, пока они не выросли, но других фотографий я так и не дождалась.
Я поднялась и без надежды помахала рукой Жанне. Она шла мне навстречу неуверенно, видимо, лихорадочно соображая, что за тетка возникла у нее на пути.
– Привет! – сказала она. – Вы тетя Катя или я ошиблась?
– Нет, – ответила я и подошла, чтобы ее обнять, как ту девочку, которая росла у меня на глазах. Но она отстранилась, не демонстративно, а будто ей надо нагнуться и поправить запавший задник туфли. Я поняла, хотя в сердце кольнуло и подумалось о Миннесоте.
– Какими судьбами? – спросила она.
– Племянник здесь. Помнишь его – Миша-поехала крыша?
– Ну да, он ведь первый рванул в Израиль. А мы еще все надеялись, что в России есть умные… Это его девчонку вырвало? Я помню, Мишка тоже был тошнильный. А где ваш красавец?
Тут я вспомнила, как моя подруга вынашивала мысль поженить наших детей. И мой «красавец» сказал: «Мать, я что, мешком ударенный? Она же сука по определению».
– В Миннесоте, – сказала я. – Все у него путем.
Я увидела, как искривилось ее лицо от моей лжи. Разве я знаю, как там у сына? Разве я видела внуков? Разве он приглашал нас с отцом в гости? Наше общение – телефон на проводах раздражения. Так что не имело смысла так уж ей расстраиваться.
– У тебя-то все в порядке? Ты в новом замуже или просто тебя подвозят?
– Это мой третий. Но, судя по всему, не избежать и четвертого. Думаю, не рвануть ли в Финляндию к дочке. Ей там нравится, но, боюсь, мне будет холодно. Я полюбила солнышко.
– Детей нет?
– Вы всегда меня держали за идиотку. Я помню. Вы все время в меня тыкали Диккенсом…
– Да господь с тобой! Хотя виновата… Я сыну его тыкала, и многих других тоже. Ну, прости меня, старую дуру… Скажи (вот ведь идиотка, прости господи, ну кто меня за язык тащил щипцами моего детства), а может, вернешься домой? Знаешь, родину не дураки придумали…
– Я кто? – спросила она грубо и громко, можно сказать, на всю степь-пустынушку, и мне даже показалось, что та всколыхнулась рыжим своим цветом и как бы чуть приподнялась.
– Родители-идиоты продали квартиру в Москве. Ехать к ним в деревню? Я что, ужаленная? Еще три раза замуж выйду, но назад ни ногой.
– Ну, хоть бы в гости приехала. Россия совсем другая стала (ну, кто из меня извлекает банальности?).
– С чего бы это она другая? С денег? С нефти?
– Вот бы и вышла дома за олигарха, раз тут не все получилось.
– С чего вы взяли? Может, я с этим еще останусь. Он хороший дядька, родители его – сволочи. Я им не подхожу. Он, дурак, страдает. Я ему говорю: насри! Чтоб задохнулись, жабы. Но у него понятия. Какой идиот придумал понятия? Бог? Так у него первый же внук – убийца. (Боже мой, я ведь только что об этом думала.) Ну, и где были понятия, если три человека на земле не могли в них разобраться. Каждый за себя. И нет закона слушать и почитать родителей. За что? За то, что родили? А я просила об этом? Это же им хотелось трахаться, ребенок – побочный случайный продукт. Вот и все.
И вдруг она зарыдала, громко так, по-русски, во всю ивановскую. Ее какой-то звериный вой поднял всех, вышел из машины ее мужчина, подошли мои, повернули головы верблюды, и только желтая пустыня не вставала стеной, не корчилась своим роскошным разноцветным телом, а Жанна, не переставая выть, пошла по дороге, за ней медленно ехал на машине муж-не муж, мои тоже стали мне махать руками: садись, мол. Так это и выглядело: две разъезжающиеся машины и идущая с открытым воющим ртом женщина.
– Надо ее догнать, – сказала я племяннику.
– Ей есть кому. А нам в другую сторону.
– Но я хочу знать, сядет она в машину или нет, здесь же степь да степь кругом.
– Это не степь, а пустыня, – сказала жена племянника. – Здесь другие правила. Она сядет в машину. Деваться ей некуда.
«Ну да, – думаю я. – Не всколыхнулась пустыня, не встала дыбом. В царстве покоя и высокого, высокого неба вопль русской бабы, потерявшей себя и во времени, и в пространстве, – ничто. Я все время смотрела в заднее окно, я все-таки увидела, что она села в машину. Может, и сладится у нее тут в третий раз и не придется ехать к холодным финнам, которые вряд ли поймут идущее горлом горе. Именно оно шло из нее, а то я не знаю плач русских баб? Оказывается, куда бы ни занесла их судьба, кричат они одинаково. Великое русское плаканье, начавшееся в Путивле на городской стене. И нет ему конца. Степь ли, пустыня ли… Стонет русская баба во всех одеяниях и при разнообразных мужиках одинаково. Как волк в ночи… И это не интеллигентный цветаевский вскрик «Мой милый, что тебе я сделала». Тут кричит сама русская суть. Кричит Русь.
Скажут: клевета на русских женщин! Они некрасовские! Они тургеневские!
Да бросьте вы! В пустыне выла та русская, что способна на раз бросить детей, на два – родителей, на три – выбросить младенца в сортир. И это только часть правды о ней. Вот и кричит в ней вселенский стыд и позор страшней волчьего воя… Я слышала… Я видела… Я знаю.
«Разве что евреев можно поставить с русскими рядом»
Когда немцы оккупировали Украину, я была еще ребенком. Детское восприятие, оно, как известно, наиболее острое. Я не знала, что мама и отчим были партизанами, но хорошо помню состояние страха, в котором жили бабушка и дед – они-то знали. Помню, как угоняли немцы (куда – этого мы, дети, не понимали) мальчика-еврея, моего друга. А мы, ребятня, радостно так его провожали, долго махали вслед. Запомнила и то, как кормили нас немцы супом, и как мы, дети, этому супу радовались. Потом, когда пришли эсэсовцы, я поняла, какой разной бывает война.
(«И вся остальная жизнь»)
…Война – в этом ее ужас – открывает для человека право убийства независимо от человеческих качеств ни убиенного, ни убивающего. В момент войны люди как бы не люди.
Старую еврейку немцы, подвязав веревками под мышки, опускали в шахты, чтобы проверить, есть ли в шахтах газ. Это повторялось много раз, каждый раз старушка оставалась живой и, бросив законченное дело, они оставляли ее с веревками на земле. Я это видела. Никто, ни один русский или украинец – евреи все были убиты, – не кинулся к ней, чтобы хотя бы узнать, жива ли она еще. Она была жива, но в конце концов сошла с ума и не снимала с себя веревки.
Я дергала свою бабушку за юбку. Мне хотелось снять с нее веревки. Она поняла меня и строго велела идти домой. И мы пошли. И бабушка сказала мне: «Каждого, кто подошел бы, расстреляли». Значит, мы думали об одном и том же: ей тоже хотелось снять веревки.
Сейчас половина моих друзей живет в Израиле. Мы уже плохо понимаем друг друга, когда друзья объясняют мне, что с арабами дружить нельзя. Как бы неприлично.
Девчонкой я поняла: можно сотворить большие безобразия, но улицы будут стоять как вкопанные. Как они не пошевелились, когда пришли немцы. А вот когда по улице повели евреев со звездами на рукавах, дома осели, заборы выгнулись, мир стал отвратительно другим на те двадцать минут прохода евреев по улице. Мы стали другими. Мы были уродами в этот момент, потому что есть вещи, изменяющие саму природу мироздания.
<…> И если завтра по улице поведут клейменых евреев ли, чеченцев или цыган, боюсь, что не вздрогнет мой народ, не исказит его внутренняя боль. Он теперь другой. Он сам не один раз ходил на заклание. Он давно жертва, а потому и жесток до крайности.
(«Печалясь и смеясь»)
…Он рассказывает о себе, что в девяностом году в Израиль эмигрировала его жена с родителями, а он уперся рогами, хотя увозился мальчик, сын… Потом не выдержал разлуки, рванул к ним через год – и выдержал месяц.
– Очень сильно восток, – объясняет он, – низкорослый, широкий в бедрах. Оговариваюсь, не о Тель-Авиве и Иерусалиме речь. О провинции, которая и есть страна. Шумная, с русско-украинским акцентом. Религиозные еврейки в черном выглядят среди олимок, как принцессы крови на Привозе. Застал войну. Надевал противогаз сыну. Хотелось умереть сразу. Стал уговаривать жену вернуться. Видели бы вы ее потрясенно гневные глаза. Я понял, что понятие голос земли, крови – это, конечно, мистическое, но одновременно абсолютно физиологическое понятие. Ей, девочке из Москвы, именно эта страна была по размеру, в ней ей было удобно, комфортно, принцесс на Привозе она не замечала, она сама была принцессой в ее понятии. Я, конечно, уехал с тем, что называется разбитым сердцем. Потихоньку оживляюсь. Жизнь здесь, как бы ее ни назвать, идет, на мой взгляд, в нужном направлении. Я переучился, познал банковское дело, кончаю академию экономики и бизнеса. Сейчас мог бы дать своей семье и здесь самое необходимое, все, кроме родины, которую они обрели. Евреи – это ведь, по сути, те же русские, живут с тараканами в голове. Ах, березки! Ах, черный бородинский! Ах, шабад – ты моя религия! Два великих придурковатых народа и между ними Христос, величайший диссидент своего времени, ставший между ними китайской стеной.
(«Время ландшафтных дизайнов»)
Нет более спаянных в средостении народов, чем больше мы разбегаемся, тем сильнее натяжение. Есть в этом божеское предопределение: евреи не поняли Христа, не признали за своего, а мы стали христианами. Русский с китайцем братья навек – это песня. А русский с евреем – это жизнь, это – никуда не денешься, даже если разобьешь к чертовой матери горшок и эмигрируешь. Все равно он – там! – будет сидеть, прильнув ухом к приемнику, а я здесь вымерять кусочек пространства на карте, которое никакого географического отношения ко мне не имеет, но что делать – это кусочек меня.
…Нелепое слово «выкрест» мать как-то коробило. Глупое слово. Потому как по нынешним временам смысла в нем ни грамма. Ну, скажи «еврей», что плохого? Непьющий народ, культурный, вежливый, взял десятку до десятого – день в день вернет. Зачем же она это подчеркнула? Мол, не бойся, мама, не украинец-велосипедист засратый, не этот промежуточный кацап Олег, играющий на баяне… Значит, был в этом слове «выкрест» еще не ведомый матери смысл, но ведомый дочери. Может, он любил ее крепко, может, играл не на баяне, а на скрипке, может само слово с корнем крест несло некоторую положительность изначально. И тут она вспомнила, что Соня не раз проговаривалась, что есть у них на работе мужчина, серьезный такой, как папа. А еще однажды спросила: как ты относишься к евреям? Хорошо, ответила мать, даже очень. «А некоторые люди нет». – «Ей Богу, такого не видела и не слышала. Вот наоборот, знаю: многие еврея ищут, хорошие мужья, хорошие отцы».
(«Нескверные цветы»)
(Из письма Людмиле и Борису Коварским, Беэр-Шева, Израиль)
…Люди кидаются друг на друга в прямом смысле, каждый готов как бы убить. Каждый как бы созрел. В этом апокалипсисе живем…
Впрочем, у вас тоже не рай. И глядя на вашу толпу, я не вижу большого отличия. Более того, оказывается – я так вывела – у еврейской и русской толпы есть три общих признака: эмоциональность, самомнение и дурь. По отдельности все такие умные (евреи в смысле), а русские как бы ленивые и нелюбопытные, а вместе – то самое слово… Опровергните меня, я все еще природа обучаемая.
(Из письма Аиде Злотниковой, Реховот, Израиль)
…Я понимаю, сколь раздражающи могут быть мои советы, тогда плюнь на них. Ибо нет ничего проще учить жить, уж кто-кто, а мы в этом преуспели больше других народов. Разве что евреев можно поставить с русскими рядом. Про всё все знают, умники!
Лизонька и все остальные
Фрагменты романа
…С мужем своим Иваном Ниночка уже к этому времени разошлась, паразит Сумской даже успел погулять и снова жениться во второй раз, жена его вторая, еврейка, жила совсем недалеко, в одном водопроводе воду с ней брали. Нюра испытывала ко второй женщине бывшего зятя даже некоторую нежность. Нашлась же, скажите, еще большая, чем Ниночка, дура и подобрала этого шаромыгу. Ко времени немцев росла уже у еврейки девочка Роза, кудрявенькая и губастенькая, как негр. Ниночка же возьми и приведи в дом Розу. Не своим голосом закричала Нюра: «Ты что ж себе думаешь, дочь моя дубиноголовая?» Ниночка же только глазом зыркнула, а потом под нуль сняла у Розы волосы, можно сказать, соскоблила их до белого цвета кожи, одела девчонку черт знает в какие ремки, посадила на тачку и отвезла в неизвестном направлении.
Хитрость заключалась в том, что ни один человек не мог заподозрить в спасении именно этого ребенка Ниночку. Тем более что на еврейку она всю довойну просто не смотрела и, когда той на спину нацепили желтую звезду, делала вид, что так, мол, ей и надо. Люди очень хорошо понимали Ниночку: все-таки хоть и нестоящий Сумской человек, а уходить к еврейке от Ниночки, даже через промежуточных женщин, значит наносить последней сильный удар по самолюбию и даже слегка по национальной гордости. Поэтому, когда энтузиасты движения за чистоту рас стали искать пропавшую Розу, во двор Рудных никто и зайти не думал, а ведь видели, как Ниночка рано утром везла кого-то на тачке.
– Кого это ты везла, Нинок, во вторник?
– Здрасьте вам! Это ж я Лизку катала!
– А чего это ты такую здоровущую девку катаешь, надрываешься?
– Здоровущая, скажете? – тараторила Ниночка. – Больная вся! Малокровная, сил нет! А аппетита никакого ни на что…
Ниночка подтаскивала для убедительности Лизоньку, которая, ничего не подозревая, читала себе в углу любимую книжку «Барышня-крестьянка» – на ней она и грамоте выучилась, – заворачивала дочке веко так, что смотрящему на это делалось страшно, и ничего не оставалось, как убедиться в разрушительной силе детского малокровия.
Но когда Ниночка перестала ходить ночевать домой, Нюре пришлось придумать для людей, будто Ниночка по молодости тела стала погуливать. На всех углах плакала она горючими слезами над пропадающей Ниночкиной женской порядочностью. Кого у нее только нет, плакала, говорят, даже итальянец один есть… Не гребует, сучка такая, никем…
Тут, надо сказать, в легенде произошел перебор. Поэтому, когда пришли наши и чистосердечную деятельность отряда имени Щорса райком партии не утвердил, поскольку не было там их представителя, слухи о плохом поведении Ниночки, распространенные лично матерью, не просто остались, а хорошо проросли.
Пришлось Ниночке даже уехать, так как молодежь из их шалашового отрядика, которая рисовала там какие-то листовки, защитить ее не смогла, их тогда тоже взяли к ногтю.
– Не было вас, и все!
Уханев, здоровенький и крепенький, как раз к тому времени вернулся и появился у них во дворе, весь такой гордый и брезгливый, и уже в больших орденах.
Нюра сказала Уханеву то, за чем он и пришел.
– Никаких отрядов тут и близко не было. Нинка? Да бросьте вы и думать! Шалава она у нас. Вот еврейского ребенка спасла, то чистая правда.
И она вывела вперед Розу, которая жила уже у них, обросла черным волосом и не имела ничего общего со своим отцом-украинцем, а была с виду типичным представителем материной национальности.
Уханев тяжело задумался, что само по себе ничего хорошего сулить не могло. Вот тогда собрали Ниночку по-быстрому и купили ей билет в Москву, где к тому времени сильно пошла вверх по партийной линии их младшенькая, Леля.
…А в апреле, когда копали огород, у Розы случилась тяжелая пневмония, думали, не спасти девчонку. Детский врач Полина Николаевна так им и сказала: «Девочка не жилец, а медицина тут бессильна. – И добавила: – Но она же не ваша?» Нюра просто спятила и все кричала: «Ищи Фигуровского! Ищи Фигуровского! Не наша! Кто ж тогда наш?»
Господи, нашла что предложить. Как и где найти этого еврея, что лечил еще их детей? Да его и на свете, наверное, нету. Тут и время шло, и события были непростые. Фашизм, например… Но оказалось, Фигуровский был жив, правда, уже не практиковал, а занимался на старости лет тем, что составлял картотеку своих пациентов. Чтоб было понятно – всего один пример. «Ф. И. О. Баранов Олег Николаевич. 1913 г. р. Асфикция. Пупочная грыжа. Водянка яичка. Короткая уздечка. Золотуха. Коклюш – 1918. Свинка – 1919. Скарлатина – 1923. Грипп – 1918, 1921, 1923, 1924. Онанизм – замечен 1922. Перелом ключицы – 1925. Предположительный срок жизни – 53 года. Причина смерти – почечная недостаточность».
Вся «баловная» деятельность старика Фигуровского вскрылась тогда, когда пошла эта кампания против врачей-евреев. Тут ему лыко и поставили в строку. Факт назначенной предположительной смерти был квалифицирован как заранее задуманный врачом-убийцей акт, который готовился им еще со времени нежной водянки яичка. Кстати, в жизни конкретного Баранова О. Н. вся эта трагическая история зимы пятьдесят третьего сыграла роль роковую. Местные чекисты показали Баранову, начальнику тамошнего ОРСа, выписку из дела его детского врача. Кстати, при этом присутствовал сам Уханев, который уже давно мелочевкой не занимался, но в истории с Фигуровским встал в центр нападения, так в нем взыграло ретивое. Так вот, в шутейной форме – там ведь у нас работают больше хохмачи – они Баранову по дружбе возьми и сунь в лицо бумажку: предположительный срок жизни – 53 года. Если уж совсем быть точным, то их всех до колик развеселил детский онанизм Баранова, потому как был он мужик огромный, могучий, килограмм сто двадцать живого веса, а по части мужских органов, то, как теперь говорят уже наши дети, – ва-аще! Ну, как тут было не повеселиться. Кто ж знал, что у Баранова такие слабые нервы. Он только-только успел отметить сорокалетие, после которого имел такую почечную колику, что катался прямо по полу. Он тогда еще не пришел в себя от страха той боли, от кореженья собственного бессильного тела, которое в минуты приступа было похоже на тушу перед разрубкой. Одним словом, Баранов умер от инфаркта прямо в кабинете Уханева, что лишний раз подтверждает, с одной стороны, наивность Фигуровского, который в своих прогнозах исключал наличие уханевых и их влияние на продолжительность жизни, а с другой, говорит о потаенном коварстве людей еврейской национальности, которые могут косить, оказывается, наших могучих людей при помощи одной всего строчки в истории болезни. Ну? Это же надо так уметь! Уханевской команде для этого приходится ночами не спать, а этот старый, рассыпающийся на перхоть и суставы Мойша пишет одно слово, и мощный русский богатырь падает, как серпом подрезанный. Ох, и рассердился тогда Уханев, обидно ему стало за Баранова и за весь русский народ. Фигуровский же… Смешно сказать, он эту историю с убийцами-евреями пережил, и вернулся откуда надо, и стал требовать свою картотеку, и топал ногами на все того же Уханева, отчего тот был просто в шоке, потому что перестал понимать хоть что-то в этой раскоряке-жизни и выдал от непонимания и минутной растерянности картотеку, о чем очень пожалел лет через десять-двенадцать, кинулся ее искать, а уже ни Фигуровского, ни картотеки… Все! На месте же домика, где жил старый врач, разбили, будто назло Уханеву, розарий. Тогда их шахтная область стала всю себя покрывать цветами. Такой был общественный настрой. Вот не росло, а будет! Розарий на месте Фигуровского ко всему прочему оказался образцово-показательным, что и спасло его от справедливого гнева Уханева. Будь он просто обыкновенный цветник, он бы вытоптал его, как то самое просо, которое сеяли-сеяли – вытопчем-вытопчем, а этот, куда водили иногородних гостей, тыча им в лица особенно удавшиеся сорта темно-малинового цвета, был уже вне его юрисдикции, или как там еще говорят по-ученому. Но это мы как-то очень убежали во времени, а когда Роза болела (Боже мой, опять Роза, бедный Уханев, сколько многозначительных совпадений может устроить жизнь) пневмонией, то Баранов еще только-только закармливал кабанчика для будущего своего сорокалетия.
Фигуровский приехал к ним на стареньком фаэтоне. Фаэтон стоял у него во дворе уже много лет. На случай. Лошадь же он брал у цыгана, который в обычное время впрягал ее в линейку и со своим выездом считался рабочим хлебозавода. На линейку ставили фанерный ящик с хлебом, и цыган развозил его по магазинам. В случае с Фигуровским цыган надел новую синюю косоворотку с поясом-шнурком и в таком красивом виде доставил знаменитого доктора к тяжело больной девочке. Врач Полина Николаевна со своего двора видела фаэтон и с насмешкой сказала своему мужу:
– Конечно, за живые деньги он пообещает им жизнь. Если бы мне платили в руки, я бы тоже была оптимисткой.
Фигуровский вылечил Розу. Уезжая в последний раз, когда Роза уже сидела в подушках, хотя большая ее головка еще не держалась на тонкой шее и сообразительная Нюра подкладывала ей на плечо вышитую крестом «думочку», он сказал старику:
– Память моя стала сдавать. Я не сразу вспомнил, что уже лечил вашу внучку. Она была до войны сильно кудрявой?
– Вот именно, – ответил старик. – Как африканский негр. Мы ее побрили перед тем, как спрятать в деревне. Ниночка, дочь моя, отвозила… А когда приехали забирать, волос рос уже прямой. Куда что делось. Так разве бывает?
– Ну, есть же! Почему вы, русские, задаете вопросы, если факты у вас перед глазами? Вам что, обязательно выдать справку?
– Но вы же тоже засомневались, не признали, – настаивал старик, значит…
– Я не сомневался, – важно сказал Фигуровский, – я не полагался на свою старческую память. Я их столько видел, этих детей, кудрявых и всяких. Что, я обязан всех помнить? В конце концов!
– Но, согласитесь, факт странный, – настаивал старик.
– Мало ли, – махнул цыгану Фигуровский, мало ли…
– Что я тебе говорила? – сказала мужу врач Полина Николаевна. – Я тебя уверяю – это был безнадежный случай. Я этих пневмоний навиделась, наслышалась!
С Полиной Николаевной потом в деле Фигуровского произошла непредвиденная Уханеву странность. Полина Николаевна стала кричать ему, что таких врачей забирать – совести не иметь, что на Фигуровского надо им всем молиться, что только такое бездетное – ты, случаем, не кастрированный? – мурло, как Уханев, может поднять на выдающегося Доктора руку. «Молюсь на него, молюсь!»
Полина Николаевна из тех мест, которые определил ей Уханев, не вернулась… Дочь Полины Николаевны стала впоследствии крупным специалистом в области мелиорации. Там у нее тоже возникла целая история, но ведь стоит только пойти по чужим следам, как не заметишь – уйдешь от своих. Поэтому с ними – все. Про мелиорацию другие знают лучше.
Роза же ела мед с алоэ и собачьим жиром, но считала его свиным. Нюра держала купленный целебный жир в отдельной банке и думала: Господи, и сбрешешь, и напридумаешь, и исхитришься, только чтоб спасти ребенка.
Поэтому Роза не ведала, что ест, и набиралась собачьей силы, которая впоследствии в жизни весьма пригодилась.
…Как ни странно, с Розой говорить легче. Может, Роза хитрее? Может, она думает: а перетерплю я нотацию бабки, меня ж не убудет? И терпит.
Они с дедом как дорвутся, самим потом тошно, сколько они девочке наговорят. И про то, и про се…
– Ты, Роза, пойми, евреев у нас не любят… Это не нами заведено… Откуда я знаю, почему? Я лично ни одного плохого еврея не видела, а русских и украинцев сколько угодно… Но так нельзя, Роза, понимать, что вы какие-то особенно хорошие… Это мне не попадались, а другим, наверное, попадались… Хотя что я говорю? Я тоже знаю за евреями черту – они неаккуратные. У нас заврайфо, Финк по фамилии, я им мед носила. Кровать у них – тихий ужас. Тяп-ляп одеялом накрыта, простыня из-под него торчит, подушки в кучу свалены, никакой самой простой накидки. Кровать, Роза, лицо квартиры. Вошел – и сразу видишь, какие тут люди… Да ладно, дед, я кончила, но это девочке тоже знать не мешает, у нее будет семья, и она должна будет знать, что что-то другое может подождать, а пикейное одеяло надо купить в дом сразу, и накидку, и чтоб все было на постели ровненько, ничего не дыбилось и не торчало… А вообще, евреи – хорошие люди, ты, Роза, это помни и сама такой будь. В том, что они не работают в шахте, я их не обвиняю. Зато они портные. Или взять врача Фигуровского… Ну? Это же он тебя спас. Но ты себя в жизни гордо не ставь из-за национальности. Взять меня, я – русская, дед – украинец, а какая разница? Даже взять тех же немцев… Я тебе скажу, среди них были замечательные люди. Один, Ганс, приносил нам во время оккупации гороховый суп в своем котелке… Просто так, ни за что… Так плакал, так плакал, когда уходил под Сталинград. «Капут, говорит, матка, капут!» Ладно, кончим эту тему, но ведь не мы ее начали? Не мы… Еще я тебе хочу сказать, главное в жизни – образование. Какая-то у человека собственность должна быть обязательно, иначе он, как голый на морозе… Ну, других собственностей не стало, значит, пришла пора набивать голову… Вот и старайся, учись… Я не знаю, что там ты себе надумала, но, по мне, эта твоя зоология и ботаника – не дело. Роза, это все само по себе живет, и без человека даже лучше. А дело должно быть такое, чтоб без человека оно просто не шло… Стояло как вкопанное… Это учитель. Или врач. Или инженер техники безопасности. Или строитель. Такое мое мнение. Не буравь меня, дед, глазами. Я не так часто разговариваюсь. Просто Роза – умница, слушает… А я плохого не скажу.
– Она, конечно, плохого не скажет, но в смысле профессий она человек темный. Нюра, не обижайся, у тебя даже церковно-приходская не кончена, а девочка уже в десятом. Я как раз за ботанику и зоологию. И так скажу – с людьми хорошо, а без них лучше. Нет, Роза, нет! Не в смысле против коллектива, куда ж без него, если на него ставка… Хотя… Хорошо, не буду… Живите так… Время покажет… Я в том смысле, что природа, она способствует умнению. Если с ней наедине… Взять ту же пчелу… Между прочим, коллектив… Только сейчас в голову стукнуло… Но у них так все разумно, и обязательно есть результат… Да не буду, не буду. Я к тому, что, если это изучать, то это не менее важно, чем врач или учитель… А ты, Нюра, придумала – инженер техники безопасности. Да сроду на этой должности у нас сидят полудурки. Потому как – какая там безопасность? Во всех делах по краю ходим, потому что ум давно отключен в работе. Не он царь и бог. Ты, Роза, не все слушай, что говорим, но слушай тоже. И буся, и я плохому учить не будем… Да иди гулять, иди! Кто ж тебя, дурочку, держит… Это мы что-то разговорились.