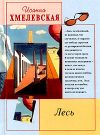Текст книги "Поздно. Темно. Далеко"

Автор книги: Гарри Гордон
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Гарри Борисович Гордон
Поздно. Темно. Далеко
© Гарри Гордон, текст
© ООО «Издательство АСТ»
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
От автора
Эту книгу нельзя считать автобиографией, тем более, мемуарами, хоть и написана она на основе жизненного и духовного опыта автора. Другого материала у него нет. Ради художественной правды пришлось исказить образы и факты, бороться если не со временем, то с хронологией, так что в некотором смысле роман можно назвать историческим.
Первое прозаическое произведение стихотворца, данное повествование – по существу – последняя книга. В процессе работы автор с удивлением и удовольствием обнаружил, что концы с концами не сводятся, а смысл жизни стал еще туманнее, чем прежде. Оказалось, что это книга о любви. Ко всем персонажам сущим и вымышленным, узнаваемым и неузнаваемым.
Написав Последнюю книгу, можно с легкой душой предаваться теперь литературному творчеству.
Гарри Гордон, июль 2000 года
Пролог
«Кибитка ехала по узкой дороге»
А. С. Пушкин
Горная речка называлась Ходжа-Бакырган, в переводе с таджикского – Бешеный Паломник. Мой ослик переходил ее с трудом, задумчиво, сомневаясь. Я вел его, слабо защищенный его тонкими ножками, камни лупили меня по голеням. Холодея, я ждал своего дня рождения. Неделю назад, хлебнув спирта из НЗ, выклянченного Володей, специалистом по костям, у начальницы экспедиции, я торжественно обещал двенадцатого июля, в день рождения, искупаться в Ходжа-Бакыргане. Начальница косо посмотрела на меня и, отвернувшись, заскучала. Володя, даром что кандидат наук, стал подпрыгивать в своих тренировочных штанах с оттянутыми коленями, гоготать и делать неприличные жесты. Этнограф Вера мрачно покрутила пальцем у виска. Зато девочки, повариха и лаборантка, что девочки, – они смотрели на меня как надо. Речка прыгала по уклону градусов в пятнадцать, и валунов в ней было больше, чем воды. Вода, разумеется, была ледяная.
Оставалось недели две, и я теперь не ходил со всеми через мост на раскоп и с раскопа, а переходил вброд с помощью ослика. Кто кому помогал, неизвестно. Ослика я назвал Изя, даже нет – Иззя, с чувством. Он был мой, не экспедиционный, мне его то ли подарил, то ли дал на время мальчишка, нанятый рабочим. Привел, похлопал по холке, сказал: «Хутук», старый значит, и ткнул в меня пальцем. То ли «дарю», то ли «хутук» – это я.
Ослик мне очень понравился и, чтобы все было по-настоящему, я понемногу его нагружал: сумка с овощами, тючок с рабочей одеждой… Изя не был упрямым, как полагается ослам, напротив, был податливый и застенчивый, городской какой-то. В свободное время пасся он на большом хозяйском подворье, цепляя ушами развешанные для просушки табачные листья. Там и ночевал.
Темными таджикскими ночами я выводил команду на прогулку. Начальница слегка обижалась: был я, как сейчас говорят, теневым лидером. Но утром все вставали вовремя, и Ирина Анатольевна терпела.
Десятиклассники-рабочие называли ее «Ирина Анатольевич», пылили на отвале и, когда она морщилась и сердилась, пылили сильнее, радостно и возбужденно, кричали: «Пил! Пил!»
Мы карабкались на гору, с которой видны были огни Ленинабада, в тридцати километрах от нас. Иногда Каюм-Джон, колхозный шофер, мой личный приятель, привозил из райцентра Аучи-Калачи несколько бутылок отвратительного сладкого вина, и мы пили его из горлышка, шатаясь по бесконечному кремнистому пути. Ровно в полночь осел пел. В ярком полнолунии, в тени карагача, он, лежащий, был незаметен.
Начиналось с покашливания, робкого, деликатного, как бы намекающего о его присутствии. Потом он тяжело вздыхал. Вздохи становились все глубже, все горестнее. Затем осел с трудом поднимался на ноги, опускал голову и задыхался, как неисправный насос. Постепенно работа насоса налаживалась, ноги осла напрягались, он задирал длинную фаллическую шею, ноздри его раздувались, и черный, громадный, обсидиановый, ассиро-вавилонский, шумерский зверь оглушал расцвеченную цикадами тишину. Это продолжалась долго, бесконечно, минут пять, и жизнь в это время меняла свои очертания.
И был его полночный крик
Тревожен, жалобен, восторжен—
Он пел, как о любви старик…
– Стоп! – сказал Мастер. – Вот я – старик. Неужели я осел, когда пою о любви?
– Если тревожно, жалобно, восторженно, – то да.
Мастер покрутил кайзеровскими усами:
– Продолжайте.
А что касается купания в речке, то я выполнил свое обещание. Просто набрал побольше воздуха, лег и прошелестел по валунам метров триста. Голые фиолетовые ребятишки прыгали на берегу, как лягушки и кричали: «Хашпока! Хашпока!». Кажется, это черепаха.
За подвиг свой я удостоился сомнительного комплимента просвещенного таджика, архитектора.
– Карл, – сказал он, – орел с подрезанными крыльями.
Часть первая
Речь не о том,
Но все же, все же, все же…
А. Твардовский
1
Эдик проснулся рано, часов в десять. Было душно, хотя балконная дверь открыта, и форточка в кухне, кажется, тоже.
Во рту пересохло, это было привычно, но противно, и называлось «рот болит». В этом состоянии говорить было бы трудно, а главное – не о чем. Слава Богу, разговаривать не с кем. Валя ушла на работу давно, к восьми, а Ленка, – Ленка будет спать до посинения. Проснется она часа в четыре, а то и в пять, будет хлопать дверьми, шаркать тапочками, цепляться халатиком за какие-то появляющиеся на глазах гвозди, громко наполнять чайник водой. Сколько можно говорить, что незачем так сильно открывать кран, что клювик его аж подпрыгивает, и брызги летят вверх вертикально.
– Так быстрее, – огрызалась Лена.
Можно подумать, что она когда-нибудь куда-нибудь спешила. Лена ложилась спать под утро. Ночами она сидела на диванчике, курила папиросы «Сальве», или «Приму», или «Пегас», – что было под рукой, или доставала из высокой банки окурки, если сигарет под рукой не было. Она, стесняясь, сочиняла стихи, переписывала, перечеркивала, сочиняла другие; когда уставала или было пусто на душе, печалилась, что она – «пришелец», и поэтому одинока, и нет на земле, в Одессе, другого пришельца, мужского пола, который понимал бы ее всегда, без разговоров и понтов, не то что какой-нибудь дегенерат из литобъединения.
Когда-то давно, года два назад, пыталась Лена работать, писала какие-то корреспонденции для радио, еще работала в цехе, набитом бабами, на ювелирной фабрике, но ничего из этого, разумеется, не вышло. Ну и ладно, ей двадцать лет и жизнь, как говорят на фабрике, еще впереди.
Мать не беспокоилась, говорила, что в состоянии прокормить родное дитя и, если надо, мужа. Муж в ответ неизменно спрашивал: «А надо ли?» – и был посылаем к черту.
Эдик прошел в кухню. Из-под диванчика бешено, зубами вперед, выскочил Шарик и тяпнул за тапок.
– Гамно, – подумал Эдик, но рта не открыл.
За окном, на уровне четвертого этажа и выше, висели черешни, белые и розовые. Деревья были огромные, как тополя, ими был усажен весь микрорайон вперемежку с акациями и платанами.
Эдик запрещал Лене есть эти черешни: «Канцероген!», – говорил он. Лена и не собиралась – не лезть же на дерево.
Эдик сел на узкий диванчик. Дед называл такие сооружения «кейвеле» – могилка значит. «Как же не могилка, – думал Эдик, – двадцать лет я просидел здесь, и Ленка выросла, и Валя потолстела, а я все сижу».
Недавно, года три назад, стала болеть нога под коленкой и позвоночник. Надо сходить к врачу. А что врач скажет? – Усиленное питание и витамины. Да ну их. А ходить, правда, трудно, до магазина и то два раза остановишься, и это в сорок-то восемь лет.
Ленка талантливая. Если б она была графоман, она бы писала много. А так – два раза в день по столовой ложке. У нее нет усидчивости. И у Карлика нет усидчивости. Но он в Москве, ему легче. Изька тоже – великий поэт! Зараза.
Эдик закурил. Ему сорок восемь, а он все – «Эдик» – и в котельной, откуда недавно уволился, и дома. И Ленкины друзья его называют «дядя Эдик». А что? – сам виноват. Ну, ничего. Враг будет разбит, победа будет за нами.
Роман продвигался быстро. Во-первых, об оккупированной Одессе еще никто не писал, а во-вторых, Эдик, и только он, знает такое…
Ой, надо ехать к Вовке, просить пишущую машинку. Вовка машинку даст, но долго и весело будет говорить, что пить вредно, и к врачу надо сходить, и курить надо меньше, – «Вот я…», – скажет он… Придурок. Все пишут, дегенераты. Ему-то зачем? Детей нет, и пенсия полковничья. Лежал бы на пляже целыми днями. Так нет – час полежит, свернет аккуратно подстилку, покажет пальцем в высокое солнце: «Режим!»
Если б Эдик мог, он целыми днями торчал бы на море. Так не доберешься. Карлик говорит: «Собирай бутылки, это такие бабки, и у моря». Что он понимает? – там же мафия. Бутылкой по голове и под скалу. Ходит там один, доцент университета бывший, так у него все схвачено.
Когда-то у Эдика была лодка на Бугазе, баркас или фелюга. Нет, все-таки фелюга. Стационарный мотор от зисовского автобуса, двенадцать узлов только так… Шесть человек на одном борту, а она едва накренится. Напарник, правда… Все норовят быть шкиперами. И приводил, приводил своих кугутов с самогоном. А море пьяных не любит.
Куда что девалось. Рыба ушла, скумбрии лет пятнадцать нет уже у берегов, пропал луфарь, камбалу и бычка сожрала экология. Мидии, даже мидии кушать нельзя, это же гроб, сплошной стронций. Одна ставридка плавает для дачников, мелкая, как тюлька. Продал Эдик свою половину лодки, деньги растаяли, Ленке только курточку купили.
Эдик глянул в угол: странное дело, рот болит, а посуды – кот наплакал.
Вовка. Вовка машинку даст, а попроси у него мелочь, с понтом на трамвай – даст талончики: «Удобно, правда?» Умник. Валя оставила на сигареты. Правильно, так сигареты ж нужны. Надо посмотреть в тех штанах, но на них спит кошка, жалко стряхивать.
Раздался звонок, залаял Шарик. На пороге стоял Парусенко.
– А, папуас! – поздоровался Эдик, – проходи.
Парусенко тяжело прошел в кухню, сел на «кейвеле».
Он был в сером костюме, нейлоновая рубашка и темный галстук надежно крепили шею.
– Не жарко? – спросил Эдик. – Где взял гудок? – он потрогал галстук.
– Отстань, – отмахнулся Парусенко.
– Ню? – вопрошал Эдик.
Парусенко закатил глаза, сделал трагический жест:
– Что «ню»?!
Это было что-то вроде пароля, игра такая, изображающая диалог старых евреев.
Парусенко извинился, что ничего не принес, его две недели не было в Одессе и он не знал, дома ли Эдик, телефон давно пора иметь…
– А где же я должен быть, если не на кейвеле, – усмехнулся Эдик, – так ты идешь? Посуду на обмен захвати.
– Прекрати, – сказал Парусенко и вышел.
Вот, тоже, Паруселло. Геодезист занюханый, а ходит всегда при пакете. Врет напропалую, но – одессит, ничего не скажешь, хоть и пацан еще. Сколько ему? Тридцать два, тридцать три?.. Кажется, младше Карлика на год. Торчит в баре «Красном», со всеми знаком, брешет девочкам, что писатель. Но, слава Богу, не пишет. Интересно, что он возьмет. На Первой станции вчера был «три семерки», но он туда не пойдет, далеко, а здесь, на Массиве…
– Папа, – окликнула Лена из комнаты, – кто там приходил?
– Какая тебе разница! Ну, Парусенко, пошел за сигаретами, сейчас вернется.
– Тогда закрой двери в комнату, – угасающим голосом попросила Лена.
Парусенко медленно шел на Первую станцию Люстдорфской дороги.
«Эдик, Эдик, – размышлял он. – Сколько лет пьет и не спивается. Вот порода. А талантливый, собака, те главы, что он читал, просто блеск. Непрофессионально, конечно, но здорово. Надо бы где-то пристроить, но это дохлый номер. В Москве разве, но Карл пристроит, как же. Он и себя никак не протолкнет. Надо будет подумать… Пусть хотя бы допишет…»
Лена не могла заснуть, да и что толку, – опять позвонит этот чертов Парусенко, залает Шарик. Потом они начнут говорить, все громче и громче, потом капризный Парусенко постучится, начнет требовать закуски и ехидничать насчет творческих планов. Интересно, что он принесет. Хорошо бы сухого, хотя, если портвейн, можно и поспать, но поспать, гады, не дадут, поэтому, хорошо бы сухого, но не «Алиготе» и, не дай Бог, не «Ркацители», кислое очень, хорошо бы «Перлину степу», но оно дороже, или хотя бы «Каберне».
– Алиготе! – сказал дядя Изя.
Он стоял среди арбузов на сумеречной пристани. Баркас мачтой ковырял в просвете между туч. Тусклые блики лежали на арбузах, человек в капюшоне вытащил из моря дохлую рыбу и приблизил к Лениному лицу. Рядом какие-то монахи рубили мясо, холодный осколок упал ей на руку и зарычал…
Шарик тыкался в руку и норовил стащить простыню. В кухне спорили. Журчал баритон Парусенко, медленно, убеждающе. Затем Эдик громко произнес:
– Лев Николаевич – поц!
Лена вздохнула и подобрала с пола халатик.
Парусенко принес две бутылки – крепленое «Буджакское» и «Каберне». Пили из чашек – вчерашние стаканы и рюмки лежали в раковине, под тарелками, мисками, банками. Эдик сидел на своем месте на кейвеле в углу, сплетя ноги косицей, и посыпал пеплом колени.
«Надо Ленке сказать, – подумал он, – чтоб прибрала со стола и разогрела голубцы».
– Кто будет вчерашнюю картошку? – спросила Лена.
– Гретую! – возмутился Эдик, – ты с ума сошла!
Лена нашла чашку и налила себе «Каберне».
– А «Буджакское»? – спросил Парусенко.
– Нет, я сухого.
– Тогда ты лишаешься, – назидательно произнес Парусенко, – ты сухое выпьешь, а нам замутить будет нечем.
– Правильно, – громко сказал Эдик и прищурился, как будто вдаль глядел. Это называлось «мелкий глаз» и обозначало пристальное внимание к происходящему, подозрительность даже. Лена не возражала.
Парусенко рассказывал, что провел две недели на круизном судне «Тарас Шевченко», куда был приглашен на симпозиум геодезистов всех времен и народов. Теплоход шел по крымско-кавказской линии, было, конечно, скучно, но две датчанки… – Эдик сделал «мелкий глаз». – Да и не в датчанках дело, может, они и вовсе норвежки, так или иначе, – отдохнул и от проклятой конторы, и от этого гнусного бара, где сидят Карликовы друзья и выясняют между собой отношения.
Он сидел безвылазно в каюте, а волны плескались за иллюминатором… На этот раз Лена с Эдиком переглянулись, но «мелкий глаз» почему-то не сделали. Вечера он проводил в баре, где у него и вытащили двести рублей вместе с бумажником. Бумажник с документами, правда, подкинули, положили ночью под дверь каюты. Зато в Новороссийске, о, в Новороссийске, чуть было не забыл…
Судно стояло два дня в Цемесской бухте, было жарко и припоцанные иностранцы варились в маленьком бассейне. Парусенко же прыгал в море, прямо с борта, с разрешения капитана, разумеется, – учились в одной школе, капитан, правда, старше года на два, нет, кажется, на три, – прыгал в море и нырял под аплодисменты команды и пассажиров. Под водой он увидел несметные стада непуганых лобанов. И тогда он придумал. Выпросив у главного механика кусочек лески, сантиметров тридцать, ну сорок, и бычковый крючок, насадив на крючок шарик белого хлеба, он нырял и, затаив дыхание, ждал. На каждый нырок выходило по лобану. Сняв лобана с крючка, Парусенко размахивался изо всех сил и выбрасывал рыбу на палубу. «Сорок таких нырков, – и сорок лобанов были поджарены на камбузе к ужину. Лобаны, правда, небольшие, – Парусенко потупился, – килограмм, полтора, не больше, что делать…»
– Брехня, – сказал протрезвевший Эдик.
– Что брехня? – вежливо спросил Парусенко.
– А все. От галанских блядей до лобанов. Я уже не говорю про симпозиум.
– А что ты имеешь против симпозиума? – побледнел Парусенко.
– Та хрен с ним, с симпозиумом, – горячился Эдик, – ты кому тюлю гонишь? Во-первых, – Эдик стал загибать пальцы, – никто тебе не разрешит прыгать с корабля. Это подсудное дело. Во-вторых…
– Папа, перестань, – смеялась Лена, – Паруселло, рассказывай.
– Не буду я ему ничего рассказывать, – Парусенко встал и попытался пройтись по кухне, но было тесно, и он снова сел.
– И не рассказывай, – кричал Эдик, – сорок лобанов. Да ты и плавать-то не умеешь!
– Я не умею плавать? Дал бы я тебе по морде, если б ты не был такой больной и старый!
– Я больной и старый? Да я тебя так изметелю, что ты своих не узнаешь, хоть ты молодой и боксом занимался, что тоже врешь!
– Эдмунд, вы подлец! – выпрямился Парусенко. – Я тебя вызываю!
– Стукаться? – обрадовался Эдик. – Когда?
– Да хоть сейчас.
«Это серьезно, – подумала Лена, – надо замять». Она быстро разлила. Не чокаясь, выпили, словно поминая друг друга.
– Пошли, – сказал Эдик.
– Идиоты паршивые, – кричала Лена, – алкаши вонючие…
Эдик обернулся:
– Лена, – сказал он строго, – убери со стола.
Июньское солнце стояло колом, пронизывало темя и уходило в землю, не давая сойти с места. Беспорядочные дворы юго-западного массива за двадцать лет своего существования обросли, помимо деревьев, рощицами сирени, черемухи, лавровишни. В каждой такой рощице играли в домино старики во фланелевых ночных рубашках, пили из сифонов сельтерскую воду.
Женщины с полными сумками останавливались «в тенечке», ставили сумки на землю, обтирались платочком, говорили «Ой, мамочки»…
– Поедем в Люстдорф, – сказал Эдик, – там на Тринадцатой станции я знаю одно место. Деньги на трамвай есть?
Парусенко кивнул.
До войны Люстдорфом называлась немецкая колония, расположенная в степи, у моря, километрах в восемнадцати к югу от Одессы. Когда-то туда ходила конка, и было пятнадцать коночных станций. Позднее они стали остановками трамвая. Немцев, огородников и виноградарей, изгнали во время войны, организовали колхоз и назвали его именем Карла Либкнехта. Добротные, великолепной кладки дома из ракушечника до отказа набили колхозниками. Теперь это место называлось Черноморкой, но для старых одесситов Люстдорф оставался Люстдорфом.
Толпа в трамвае разлучила их, и вышли они на тринадцатой станции с разных площадок.
– Как будем, – спросил Парусенко, – до первой юшки или до пощады?
– До юшки хватит, – снисходительно ответил Эдик.
Парусенко остыл, ему было даже любопытно, но, зная серьезный нрав Эдика, он побаивался. Не бить же его в конце концов, ну а что делать, если он… Кроме того, старый-то он старый, больной-то он больной, но детство и юность его окрашены такими подвигами, что нам и не снилось.
Эдик же думал только об одном: его назвали подлецом, честь его задета, Парусенко надо побить, но не сильно, для науки.
Место, которое знал Эдик, нашли не сразу. Блуждали вдоль каких-то зеленых заборов, забрели на автобазу, было жарко, начиналось похмелье, заболевал рот. Вернулись к трамвайной линии. В затормозившем трамвае женщина у окна, блондинка лет тридцати, долго и хорошо смотрела на Эдика. Эдик мужественно поджал губы. В этот момент Парусенко ударил. Удар был несильный, к тому же реакция сработала, – кулак по касательной задел скулу. Эдик, собравшийся было провести двойной удар, левой крюком под дых и правой в наклонившуюся челюсть, ограничился ударом левой в нос. Потекла слабая юшка. Парусенко потрагивал ее пальцем, удивленно улыбаясь.
– Платок есть? На, возьми мой, – Эдик протянул что-то серенькое, похожее на мышку.
– Нет уж, не надо, – засмеялся Парусенко, уворачиваясь, как матадор.
Обернувшись, Парусенко увидел рядом, в двух шагах, место, которое знал Эдик. Возле трамвайной остановки, над глубоким подвалом зеленым по желтому было написано: «Вино».
– Открыто? – несмело спросил Эдик, спустившись на несколько ступенек.
– А где ты видишь «закрыто»? – сердито откликнулся из глубины нежный голос.
2
Костя Плющ медленно брел вверх по Нарышкинскому спуску. Собственно, брести у него не получалось. Маленький свой корпус он держал прямо, а маленькие ноги передвигались сами по себе, на этот раз медленно.
Было жарко, пропотевшая фетровая шляпа, отцовская, наползала на лоб. Снять ее было нельзя – Костя держал марку. Страсть к старым и настоящим предметам, будь то шляпа, или кожаный портфель, оттягивающий сейчас руку, или подсвечник, или даже книга, – Плющ книг не читал, ссылаясь на маленькие буковки и шесть классов советской школы, – одолевала его давно, сколько себя помнил. А помнил он себя с двухлетнего возраста, целых двадцать девять лет. Ничего себе.
Трамвая не дождешься, да они все переполненные. Идти «в город» с Пересыпи приходилось, если не торопишься, пешком. Одесситы, где бы они ни жили, хоть на Дерибасовской, выходя из дома, шли «в город».
Костя Плющ торопился часто. В городе он назначал несколько деловых свиданий где-нибудь на углу, «у двух Карлов» например, – так назывался винный подвальчик на перекрестке улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта. Или у Главпочтамта – Плющ был убежден, что настоящий мужчина обязан раз в месяц приходить на Главпочтамт и в окошке «до востребования» осведомляться, нет ли для него корреспонденции. Настоящий мужчина обязан также, если он повернул голову в сторону проходящей женщины более чем на сорок пять градусов, следовать за ней.
Деловые свидания, как правило, делами не кончались, так, иногда удавалось договориться об обмене песочных часов на золингеновскую стамеску. Плющ обиделся бы, если бы его назвали коллекционером, ему нравилось трогать хорошие вещи и пользоваться ими. У него были кисти начала века, старинный этюдник и палитра талантливого, но забытого художника, и поэтому картинки писались с особым, дополнительным наслаждением.
Иногда перепадала небольшая роспись или мозаика, иногда друзья, получавшие заказы в Худфонде, брали его в долю. В Художественный фонд его не принимали, обещали не принимать никогда. И дело не в недостатке образования, на это можно было закрыть глаза, – Плющ был одарен и профессионален, – а в безобразной выходке, совершенной им и Славой Филиным пять лет назад.
Молодой и маленький Плющик с великовозрастным Филиным устроили в Пале-рояле, дворике возле Оперного театра, ни много ни мало, а выставку своих произведений. Просто прибили веревочки к известняковой стене и развесили картины. Картины были хорошие, в основном одесские пейзажи, в духе и стиле южнорусской школы. Намерения были бескорыстные, живопись тогда никто не покупал, кроме немногочисленных коллекционеров, но коллекционеры знали авторов в лицо. Было это еще до знаменитой «бульдозерной» выставки.
Продержалась экспозиция долго, часа полтора, после чего пришли дружинники, не милиционеры даже, что оскорбило Плющика и Филина. Работы посрывали, но позволили взять с собой, груженых художников отвели в отделение, где весело и вежливо, не тронув пальцем, составили протокол. На этом и закончилось, если не считать крест, поставленный на них Художественным фондом и Союзом художников. Слава Филин после этого пил неделю, громадный и волосатый, в баре «Красном», пытался подбрасывать столик к потолку и кричал: «У-жа-са-ю-ще-е сос-то-я-ние».
Плющик же к этому времени был в глухой завязке, как он утверждал, на всю жизнь. «Я становлюсь дурной, когда напьюсь, – объяснял он, – то в чужую драку вляпаюсь, как тогда под Пересыпским мостом, а то и похуже. Представляешь – прихожу в себя на каком-то пыльном чердаке, рассвет в овальном таком красивом окошке, а на фоне, падла, рассвета – синяя задница с пупырышками!»
На этот раз Плющ никуда не торопился, просто дома бабушка, работать не хочется, – пройтись в город, повидать кого-нибудь. На всякий случай бросил в портфель несколько стамесок, мозеровские часы. Проходя мимо картинной галереи, подумал, не зайти ли, глянуть на Нилуса и Головкова, а может, и Костанди. Но было так жарко, что даже свернуть с дороги казалось большим и трудным делом. «Идется, – подумал Плющ, – ну и хорошо».
На Приморском бульваре было прохладно под платанами, платаны были огромными, в три, а то и четыре обхвата, самые, наверно, большие в мире. Пусто было на бульваре, только в конце аллеи томились на солнышке возле памятника Пушкину разноцветные пионеры.
Плющ сел на скамейку, снял шляпу и закурил. Происходят в общем-то не очень приятные вещи. Галка прислала письмо из Питера, обещала приехать в июле, это недели через две, а куда с ней деваться, непонятно. Переговоры с ЖЭКом на Балковской улице затянулись. То ли дадут подвал в аренду под мастерскую, то ли не дадут. Надо срочно давать на лапу, а денег нет, и занять, главное, не у кого. Все ребята сидят на дикофте, у Дюльфика наверняка есть, но он, падла, не даст. Галка, Галина Грациановна, наверняка притащится с кучей денег, только он ей не альфонс. Плющ вспомнил, как они познакомились, и усмехнулся. Было это в Питере, года четыре назад. Многие ребята учились тогда в Мухинском, – и Морозов, и Кока, и Карлик.
Плющ приехал в Ленинград зимой, в длинном отцовском кожане, таком устрашающем, что богемные мальчики из «Сайгона», на углу Невского и Владимирского, разбегались при его появлении. Целые дни проводил Плющ в мастерской, его узнавали преподаватели и раскланивались с ним. Он писал, рисовал, изучал технологию фрески, мозаики, энкаустики.
Занятия эти перемежались хождениями по Эрмитажу, где он бывал от открытия до закрытия, отдыхал, сидя в зале со старинным оружием. Однажды в лютый мороз его перехватил на Дворцовой площади турист с фотоаппаратом и, указывая на Александрийский столп, спросил: «Кому этот памятник?» Плющ, не сбавляя темпа отдельно идущих своих ножек, ответил: «Памятник Зусману!» – «Спасибо», – обрадовался турист.
В какой-то компании, куда затащил его Морозов, Плющ скучал среди благовоспитанных девушек и восторженных любителей джазовой музыки. Вдруг отворилась дверь и вошла… Плющ, конечно же, прибеднялся, ссылаясь на мелкий шрифт и советскую школу. Книги он время от времени почитывал, а Пушкина так просто любил. Так что образования хватало, чтоб назвать вошедшую даму хоть мимолетным видением, но она была ужасна. Плющ громко и неприлично расхохотался при ее появлении и долго не мог успокоиться. Даму вынули из дорогой волосатой шубы, она была черна, раскрашена яркой помадой и какими-то напоминающими синяки пятнами, морщины ее лица были густо набелены. Предполагалось, что если она выглядит на шестьдесят, ей по крайней мере лет восемьдесят. Дама нисколько не обиделась на смех Плюща, а стала сама смеяться, еще громче, показывая на него пальцем.
Маленький Плющ, в курточке, с черной челочкой и раскосыми глазами выглядел четырнадцатилетним. В тот же вечер и образовалось гремучее соединение старческой инфантильности, доверчивости, неопытности и требовательной умудренности нового поколения. Они были такими разными, что между ними полыхали синие молнии, воздух рвался над ними с треском обивочной ткани, пахло озоном и серой…
Муж Галины Грациановны был капитаном дальнего плавания, и эта романтическая профессия ложилась «ложкой мэда на живит» приморского хлопчика.
За эти годы Галина Грациановна наезжала в Одессу несколько раз, кипучая, могучая, с кучей подарков и все нарастающей жаждой жизни. Плющ принимал ее в мастерских и квартирах друзей, о чем надо было долго и трудно предварительно договариваться. Только их красочная несовместимость и убеждала в конце концов посторониться какого-нибудь крепкого Кирилюка или Пасько. Две-три недели ее сокрушительного гостевания Плющ много и вкусно ел, но выматывался физически и, главное, нравственно. Мало того, что он не брал в руки кисть, Галка вышибала из-под него почву, меняла скорость его жизни, а самостоятельность свою, отдельность от всех, Плющ ценил больше всего.
В ранней юности, занявшись живописью по-настоящему, Костя много времени провел в гостях, в родительских домах своих друзей. Его кормили, укладывали спать и почему-то жалели.
У него были отец и мачеха, и бабушка, и полдома на Пересыпи, рабочей окраине, славившейся некогда темными ночными разбоями. Отец его, капитан порта Каролино-Бугаз (одно название – землечерпалка, баржа и два крана), был недоволен новым Костиковым увлечением, он считал рисование делом не мужским и позорным, и, встретив однажды своего сына с красавцем художником Эдом Павловым, принял того за педика и категорически запретил Костику с ним встречаться.
Новая жизнь требовала непрерывного общения с новыми друзьями, споров за стаканом вина и ослепительных озарений. Уже тогда чувствовал Плющ свою отдельность.
Друзья учились в художественном училище. Поступить туда Плющу мешало два досадных обстоятельства: не на что было купить аттестат зрелости или хотя бы справку об окончании восьми классов, и главное – чудовищная врожденная безграмотность. Он мог сделать в слове «абрикос» четыре ошибки: «оберкоса». Друзья пытались помочь, заставляли писать диктанты, он соглашался даже, но неизменно писал, как слышал, вернее, как хотел.
В училище Плющик был своим человеком, он мог зайти в мастерскую любого курса, ему давали место, и преподаватель распекал его, как и всех. Маленький рост, безукоризненная бандитская вежливость и имя «Костик», мешали многим относиться к нему серьезно. Между тем он в двенадцатилетнем возрасте складывал самостоятельно печь-голландку.
Море над портом пропадало, превращалось в небо, появлялось вновь у горизонта небрежной голубой растяжкой. «Прямо Рауль Дюфи», – подумал Плющ равнодушно, с некоторой даже досадой. Он поднялся со скамейки. Надо пойти в «Бристоль» отметиться.
Интуристовская гостиница «Красная» действительно называлась до революции «Бристоль». Располагалась она на улице Пушкинской – на этот раз без понта, действительно самой красивой улице в мире, так по крайней мере заявляли постояльцы гостиницы, туристы со всех сторон света. Был при гостинице ресторан, был и бар, обыкновенная, на первый взгляд, стекляшка с двумя дверями на улицу.
После знаменитого «Гамбринуса», потерявшего свое значение в незапамятные времена, по смерти не так даже Сашки-музыканта, как Александра Ивановича Куприна, после, особенно, переселения «Гамбринуса» с Преображенской на другое место, на престижную Дерибасовскую, бар «Красный» стал местом, где собиралась вся Одесса. Да и «вся Одесса» изменила свой облик.
Вместо рыбаков, биндюжников и щипачей, ее представляли теперь фарцовщики, валютчики, художники и поэты. Проститутки, разумеется, остались, но и те претерпели изменения, называясь теперь манекенщицами, танцовщицами филармонии и продавщицами книжных магазинов.
Валютчиков и фарцовщиков, естественно, привлекала сюда зарубежная клиентура. Молодых художников и поэтов – дешевизна напитков и демократически настроенные бармены. Можно было вести себя кое-как, иногда лишь бармен Аркадий покрикивал: «Слава, выведу. Карлик, тебе хватит». Маститые же члены творческих «Спилок», Союзов значит, бывали здесь и потому, что рядом (Союз писателей находился в соседнем доме, где жил О. С. Пушкш, как гласила мемориальная доска), и потому, что это Пушкинская, и пес его знает еще почему.