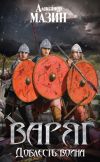Текст книги "Огнем и мечом. Часть 1"
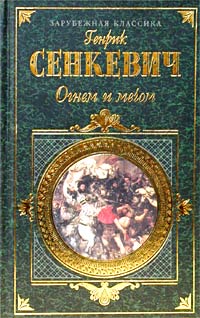
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Глава XXXI
Воины, сойдясь совсем близко, остановили коней и принялись первым делом поносить друг друга.
– Здравствуйте! Здравствуйте! А вот мы сейчас собак вашей падалью накормим! – закричали княжеские солдаты.
– А ваша и собакам не в корм.
– Сгниете в пруду этом, громилы подлые!
– Кому писано, тот и сгниет. Вас небось первых рыбы обглодают.
– А ну-ка вилами навоз ковырять, хамы! Вам оно привычнее, чем сабля.
– Хотя ж мы и хамы, зато сынки наши шляхтой будут, потому как от паненок ваших породятся!
Какой-то казак, видать заднепровский, выскочил вперед и, сложив ладони у рта, заорал оглушительным голосом:
– У князя две племянницы! Скажите, чтобы Кривоносу их прислал…
У пана Володы„вского, едва услыхал он такое кощунство, от бешенства аж в глазах потемнело, и он тотчас повернул коня на запорожца.
Скшетуский, стоя на правом фланге с гусарами, признал его издали и крикнул Заглобе:
– Володы„вский пошел! Володы„вский! Гляди же, сударь! Вон! Вон!
– Вижу! – закричал пан Заглоба. – Уже подскакал! Сражаются! Раз! Раз! Бей его! Вон они! Ого, вс„! Ну и хват, трава на нем не расти.
И правда, со второго замаха кощунник, как громом пораженный, рухнул наземь, причем головою к своим, что было недобрым знаком.
Меж тем выскочил второй, одетый в червонный кунтуш, снятый с какого-то шляхтича, и налетел на пана Володы„вского несколько сбоку, однако лошадь под ним в момент самого удара споткнулась. Пан Володы„вский оборотился, и сразу стало ясно, что такое мастер, ибо одною только кистью шевельнул он, произведя движение столь легкое и мягкое, что просто-таки незаметное, – и сабля запорожца порхнула в воздух. Пан же Володы„вский за шиворот его схватил и вместе с конем помчал к своим.
– Брати рiдни…, спасайте! – вопил пленник.
Однако сопротивляться не сопротивлялся, зная, что пошевелись он, и тотчас будет посечен саблею, так что он даже и коня своего колотил пятками, чтобы скакал соответственно. И пан Володы„вский мчал его, как волк козу.
Завидя такое, кинулись друг на друга человек по пятнадцать с каждой стороны – большему количеству на узкой запруде было не поместиться. Так что сходились противники поодиночке. Воин схлестывался с воином, конь с конем, сабля с саблей, и череда поединков этих являла собой поразительное зрелище, на каковое оба войска взирали с величайшим любопытством, пытаясь угадать по нему, что сулит им фортуна. Утреннее солнце сияло над сражавшимися, а воздух был так прозрачен, что можно было различить лица в обоих построениях. Издали все выглядело, как некий турнир или игрища. Порою разве что из толчеи вдруг выбегал конь без седока, иногда труп срывался с дамбы в ясное стекло воды, и та раскалывалась золотыми искрами, а потом расходилась волнообразными кругами все дальше и дальше от берега.
В обоих станах сердца солдат радовались мужеству своих рыцарей и ратному их запалу. Каждый желал своим победы. Вдруг Скшетуский всплеснул руками, так что звякнули нараменники, и воскликнул:
– Вершулл погиб! С конем упал… Глядите: он на белом том сидел!
Но Вершулл не погиб, хоть и в самом деле упал вместе с конем; опрокинул его огромный Полуян, бывший казак князя Иеремии, а сейчас второй после Кривоноса военачальник. Был это знаменитый поединщик, никогда забавы сей не пропускавший. Столь могучий, что без труда ломал по две подковы сразу, в одиночной схватке он прослыл непобедимым. Опрокинув Вершулла, он ударил на бравого офицера Курошляхтича и страшно, почти до седла, разрубил его надвое; остальные, потрясенные, отпрянули, и, завидя это, пан Лонгинус повернул к казаку свою лифляндскую кобылу.
– Погибнешь! – крикнул Полуян дерзновенному мужу.
– Что поделать! – ответил Подбипятка, замахиваясь.
Увы, при нем не было Сорвиглавца, ибо, предназначив его для весьма великих подвигов, он не желал пользоваться мечом в поединках, и Сорвиглавец находился в хоругви при верном оруженосце; с собою же у пана Лонгина была только легкая сабля-баторовка с голубоватым и вызолоченным клинком. Первый ее удар Полуян отразил, хотя сразу понял, что имеет дело с незаурядным бойцом, так как сабля в его руке прямо задрожала; отбил он еще и второй удар, и третий, после чего или большую сноровку противника в фехтовании угадал, или перед обеими армиями страшною своей силой похвастаться захотел, или, припертый к краю плотины, под напором огромной коняги пана Лонгина опасался упасть в воду, но, отбив очередной удар, он свел коней боками и литвина в могучие объятия поперек схватил.
И сцепились они, точно два медведя, когда те из-за медведихи во время течки борются, обвились один вокруг другого, как две сосны, когда, из одного ствола вырастая, они взаимно обвиваются и почти единый ствол составляют.
Все, затаив дыхание, в молчанье наблюдали схватку этих борцов, из которых каждый за величайшего силача среди своих почитался. А те и впрямь, можно сказать, срослись в одно тело, потому что долгое время пребывали в неподвижности. Только лица их сделались красны, только по жилам, выскочившим на их лбах, по изогнутым, как луки, хребтам, за страшной этой неподвижностью угадывалось нечеловеческое усилие рук, напрягшихся во взаимном обхвате.
Вот уже оба стали судорожно дергаться. Лицо пана Лонгина постепенно делалось все багровее, а лицо атамана все синее. Прошла еще минута. Волнение зрителей возрастало. Внезапно в тишине послышался глухой, придушенный голос:
– Пусти…
– Нет… братушка!.. – ответил второй голос.
Еще минута, и вот что-то ужасно хрустнуло, послышался стон, донесшийся словно из-под земли, поток черной крови хлынул из уст Полуяна, и голова его откинулась на плечо.
Тогда пан Лонгин вытащил его из седла и, прежде чем зрители поняли, что произошло, перекинул поперек своего, после чего рысью двинулся к своим.
– Vivat! – крикнули вишневичане.
– На погибель! – ответили запорожцы.
И нет чтобы обескуражиться поражением своего вождя – они еще ожесточеннее ударили на противника. Закипела беспорядочная стычка, из-за недостатка места делавшаяся все более остервенелой. И, несмотря на всю отвагу свою, дрогнули бы молодцы перед большей фехтовальною сноровкой противника, если бы из Кривоносова табора не затрубили внезапно трубы, призывающие поединщиков отойти.
Они тотчас же ретировались, а противник их, постояв мгновение, чтобы показать, что выиграл поле, тоже поворотил к своим. Дамба опустела. На ней остались только человеческие да лошадиные трупы – предвестие того, чему быть дальше, и эта тропинка смерти чернелась меж обоими войсками, а легкое дуновение ветра морщило гладкую воду пруда и жалобно шумело в листве верб, склоненных там и сям по берегу.
И тотчас, словно бы необозримые взглядом стаи скворцов и ржанок, двинулись Кривоносовы полки. Впереди – чернь, за нею скученная пехота и конные запорожские сотни, далее татарские добровольцы и казацкая артиллерия. И вс„ без большого порядка. Одни напирали на других, шли «навалом», стремясь бессчетным множеством преодолеть плотину, а затем захлестнуть и затопить княжеское войско. Дикий Кривонос верил не в военное искусство, но в кулак и саблю, поэтому шел в наступление всею армией и велел полкам, идущим сзади, напирать на передних, чтобы те хоть бы и противу воли, но шли вперед. Пушечные ядра стали плюхаться в воду на манер диких лебедей и гагар, не нанося по причине недолета никакого ущерба княжеским войскам, построенным в шахматном порядке по другую сторону пруда. Людское половодье захлестнуло плотину и катилось вперед беспрепятственно. Отдельные отряды лавины этой, достигнув реки, стали искать брода и, не найдя, снова возвращались к плотине. Шли они столь густо, что, как позже заметил Осинский, по головам на лошади проехать было можно, и таково они покрыли дамбу, что не осталось и пяди свободного пространства.
Иеремия глядел на все это с высокого берега и морщил брови, а очи его метали в мятежные толпы молнии. Наблюдая же беспорядок и сутолоку в Кривоносовых полках, он сказал оберштеру Махницкому:
– По-холопски неприятель с нами решил воевать и, искусством воинским пренебрегая, всем скопом идет, да не дойдет.
Между тем, словно бы вопреки этим словам, казаки достигли уже середины дамбы и остановились, удивленные и обеспокоенные бездействием княжеских войск. Однако в ту минуту среди княжеских сделалось движение: они отошли, оставив между собою и плотиной обширное пустое полукружие, которому надлежало стать полем битвы.
Затем пехотинцы Корицкого расступились, открыв нацеленные на дамбу жерла Вурцелевых пушек, а в углу, создаваемом Случью и плотиною, поблескивали в прибрежных зарослях мушкеты немцев Осинского.
И тотчас для людей военных стало очевидно, на чьей стороне будет победа. Лишь такой бесшабашный атаман, как Кривонос, мог дерзновенно решиться на битву в подобных условиях, ибо со всеми своими силами не смог бы овладеть даже и переправой, пожелай Вишневецкий этому воспротивиться.
Но князь умышленно решил пропустить несколько его полков за плотину, дабы окружить их и уничтожить. Великий военачальник просто пользовался безрассудством противника, который даже не принял в расчет, что своим людям, сражающимся за рекой, сможет посылать помощь только по узкому проходу, через который более или менее значительных подкреплений переправить будет невозможно. И умудренные знатоки военного искусства с недоумением взирали на действия Кривоноса, которого столь безрассудно поступать ничто не понуждало.
Понуждала его лишь амбиция и кровожадность. Атаман недавно узнал о том, что Хмельницкий, несмотря на численное превосходство посланных с Кривоносом полков, тревожась за исход битвы с Иеремией, шел со всеми своими силами на помощь. Кривонос получил приказ от сражения уклониться. Но именно поэтому Кривонос решил не уклоняться и торопился.
Взявши Полонное и опьянев от крови, он уже ни с кем не желал делиться ею, потому и спешил. Ну, потеряет половину войска, что из того! Оставшаяся половина захлестнет малочисленные княжеские силы и разгромит их. Голову Иеремии он поднесет Хмельницкому в подарок.
Между тем бурлящая лавина черни достигла оконечья дамбы, спустилась с нее и растеклась по тому самому полукружию, которое освободили, отступив, подразделения Иеремии. В ту же секунду укрытая сбоку пехота Осинского дала залп, пушки Вурцеля процвели долгими полосами дыма, земля содрогнулась от грохота, и битва началась по всей линии.
Дымы затянули берега Случи, пруд, плотину и само поле, поэтому мало что можно было разглядеть; порой лишь мелькали красные мундиры драгун, иногда сверкали гребни над летящими шлемами, в основном же в туче этой все кишмя кишело. В городе звонили все колокола, и скорбные стоны их смешивались с басовитым ревом пушек. Из казацкого расположения валили к дамбе все новые и новые полки.
Те, кто ее перешел и перебрался на другой берег пруда, во мгновение растянувшись долгою линией, с яростью ударили на княжеские хоругви. Бой завязался от самой кромки пруда до поворота реки и заболоченных лугов, в это мокрое лето покрытых водою.
Черни и низовым предстояло или победить, или погибнуть, имея за собою воду, к которой теснил их натиск пехоты и конницы.
Когда двинулись вперед гусары, пан Заглоба, хотя страдал одышкой и толчеи не любил, бросился, зажмурившись, вместе с остальными, ибо ничего другого делать ему не оставалось, а в голове его только и мелькало: «Здесь не надуешь! Никак не надуешь! Дурак с удачей, умный с потерей!» Потом взяла его злость и на войну, и на казаков, и на гусар, и вообще на весь свет. Он стал ругаться и молиться. Ветер свистел у него в ушах, спирая дыхание. Вдруг лошадь его на что-то наткнулась, он ощутил какую-то преграду, открыл глаза – и что же увидел? Вот они, косы, сабли, цепы, глаза, усы и сплошь багровые лица… И все какое-то неотчетливое, неизвестно чье, все дергающееся, скачущее, бешеное. Тогда обуяло его крайнее остервенение и по поводу этого самого противника, и потому, что они не убираются ко всем чертям, а наскакивают и вынуждают Заглобу сражаться. «Желали – получайте!» – подумал он и принялся без разбору махать саблей направо и налево. Иногда сабля просто рассекала воздух, а иногда чувствовалось, что клинок врезается во что-то мягкое. Вместе с тем он понимал, что все еще жив, и это необычайно ободряло его. «Бей! Убивай!!» – ревел Заглоба, как буйвол, и в конце концов лютые мужицкие обличья исчезли из глаз, вместо них увидел он множество спин, шапочных донцев, а вопли – разве что ушей ему не раздирали.
«Бегут! – пронеслось у него в голове. – Они же бегут! Бегут!»
Тогда вскипела в нем небывалая отвага.
– Воры! – крикнул он. – Так-то вы шляхте сопротивляетесь!
И кинулся вслед бегущим, многих опередил и, вмешавшись в их гущу, с большим уже толком взялся за дело. Между тем соратники его приперли врагов к густо поросшему деревами берегу Случи и гнали их вдоль этого берега к дамбе, из-за недостатка времени никого не беря в плен.
Внезапно пан Заглоба почувствовал, что лошадь под ним стала упираться, и вместе с тем что-то тяжелое, свалившись на него, обмотало ему голову, так что оказался он в полной темноте.
– Милостивые государи! Спасайте! – крикнул он, колотя лошадь пятками.
Конь, как видно уставши нести тучного всадника, только постанывал, но с места не сходил.
Пан Заглоба слышал вопли и клики мчавшихся мимо всадников, затем весь этот ураган пролетел, и установилось некоторое затишье.
И снова мысли, словно быстрые стрелы татарские, замелькали в его мозгу.
«Что это? Что случилось? Иисусе Христе! В плен меня взяли, что ли?»
И на лбу его выступил холодный пот. Похоже, ему обмотали голову в точности так же, как сам он в свое время сделал это Богуну. А тяжесть, ощущаемая на плече, – рука гайдамака. Но почему его никто не уводит или не приканчивает? Почему он стоит на месте?
– Пусти, хамское отродье! – крикнул пан Заглоба сдавленным голосом.
Молчанье.
– Пусти, хам! Я дарю тебе жизнь!
Никакого ответа.
Пан Заглоба снова ударил пятками в конские бока. Безрезультатно! Упнувшаяся животина раскорячилась еще больше и осталась стоять.
Тогда крайнее бешенство охватило несчастного пленника и достав нож из висевших на поясе ножен, он нанес страшный удар в тыл за собою.
Нож, однако, пропорол только воздух.
Тут Заглоба схватился обеими руками за обмотавший ему голову плат и решительно сорвал его.
Что такое?
Гайдамаков не видать. Вокруг ни души. Лишь вдали в дыму виднеются летящие красные драгуны Володы„вского, а в нескольких верстах за ними поблескивают доспехи гусар, сгоняющих с поля к воде недобитых.
Зато у ног пана Заглобы лежит полковое запорожское знамя. Как видно, удиравший казак отшвырнул его, и случилось так, что древком оно легло на плечо пану Заглобе, а полотнищем накрыло ему голову.
Увидев все это и поняв что к чему, сей муж сразу же опомнился.
– Ага! – сказал он. – Я захватил знамя. А что? Может, я его не захватил? Ежели справедливость в этой битве не прикончат, тогда награду я получу всенепременно. О хамы! Счастье ваше, что подо мною конь упнулся. Ошибался я, думая, что на хитрость следует полагаться более, чем на храбрость. Сгожусь в войске и я кой для чего – сухари есть каждый может. О господи! Снова сюда какая-то свора мчится. Не сюда, сучьи дети, не сюда! Чтоб этого коня волки съели!.. Бей!.. Убивай!..
И в самом деле, новый отряд казаков, завывая нечеловеческими голосами, мчался к пану Заглобе, а по пятам за ними неслись латники Поляновского. И весьма вероятно, что пан Заглоба нашел бы смерть под копытами, когда бы гусары Скшетуского, перетопивши тех, кого преследовали, не возвращались теперь, намереваясь взять в клещи отряды, мчавшиеся к Заглобе. Завидев это, запорожцы попрыгали в воду затем лишь, чтобы, избежав мечей, найти смерть в трясинах и глубоких омутах. Те из них, кто, упав на колени, молил о пощаде, погибали под ударами. Погром сделался страшный и повсеместный, но ужасней всего было на дамбе. Отряды, перешедшие запруду, были уничтожены в полукружье, созданном княжескими войсками. Те же, кто дамбу не перешел, погибали под непрерывным огнем пушек Вурцеля и залпов немецкой пехоты. Они не могли двинуться ни вперед, ни назад, так как Кривонос подгонял все новые полки, которые, напирая, расталкивая впереди идущих, заперли единственный путь к отступлению. Могло показаться, что Кривонос поставил себе целью уничтожить собственных людей, а те скучивались, давили друг на друга, дрались между собой, падали, прыгали по обе стороны в воду – и тонули. У одного конца плотины чернели множества отступавших, у другого – полчища наступавших, посреди же – горы и валы трупов, стоны, вопли воистину нечеловеческие, безумие страха, растерянность, хаос. Весь пруд наполнился человеческими и лошадиными трупами. Вода вышла из берегов.
Иногда канонада замолкала. Дамба тогда, как из пушки, выбрасывала толпы запорожцев и черни, которые рассеивались по полукружию и шли под меч ожидавшей их конницы, а Вурцель затевал пальбу снова, ливнем железа и свинца перекрывая дамбу и останавливая подход подкреплений.
В кровавых этих борениях проходили часы.
Кривонос, озверевший, взмыленный, не сдавался и швырял тысячи молодцев смерти в пасть.
На другом берегу Иеремия, закованный в серебряные латы, верхом на коне стоял на высоком кургане, звавшемся в те времена Кружей Могилой, и озирал поле боя.
Лицо его было спокойно, взгляд же охватывал всю дамбу, пруд, берега Случи и достигал даже туда, где, повитый голубоватой дымкой отдаленья, расположился огромный Кривоносов табор. Очи князя не отрывались от этого скопища телег. Наконец он обратился к тучному киевскому воеводе и сказал:
– Сегодня нам обоза не взять.
– Как? Ваша княжеская милость собираешься?..
– Время быстро летит. Поздно очень! Гляди, сударь, уже и вечер.
И правда, с момента выезда поединщиков битва, не прекращавшаяся из-за упорства Кривоноса, продолжалась уже так долго, что у солнца было довольно времени пройти каждодневную свою дугу и склониться к западу. Легкие высокие облака, обещавшие погоду и, как стада белорунных овечек, рассеянные по небу, начали алеть и стаями исчезать из полей небесных. Приток казачья к дамбе постепенно шел на убыль, а те полки, которые уже на нее вошли, отступали в сумятице и беспорядке.
Сражение закончилось, и закончилось оно потому, что озверевшие толпы обступили в конце концов Кривоноса, взывая в ярости и отчаянии:
– Предатель! Погубишь нас! Пес кровавый! Сами тебя свяжем и Яреме выдадим, чем и жизнь купим. На погибель тебе, не нам!
– Завтра отдам вам князя и все его войско или сам погибну, – отвечал Кривонос.
Но ожидаемое это «завтра» имело только наступить, а уходящее «сегодня» стало днем разгрома и поражения. Несколько тысяч лучших низовых молодцев, не говоря уже о черни, либо полегли на поле брани, либо утонули в пруду и реке. Тысячи две попали в плен. Погибло четырнадцать полковников, не считая сотников, есаулов и прочего казацкого чина. Второй после Кривоноса военачальник живьем, хоть и с переломанными ребрами, попал в руки неприятеля.
– Завтра всех вырежем! – повторял Кривонос. – Ни еды, ни горелки до тех пор в рот не возьму.
В это время в стане его противника к ногам грозного князя бросали вражеские знамена. Каждый из захвативших кидал свой трофей, так что образовалась куча немалая, ибо всех знамен оказалось сорок. А когда наступил черед пана Заглобы, свою добычу он швырнул с таковою силой и шумом, что даже древко треснуло. Завидя это, князь остановил его и спросил:
– Собственными руками ты, сударь, захватил сей знак?
– Служу вашей княжеской милости!
– Ты, как я погляжу, не только Улисс, но и Ахиллес.
– Я простой солдат, под началом Александра Македонского воюющий.
– Поскольку жалованья ты, сударь, не получаешь, скарбник тебе еще двести червонных золотых за столь доблестный подвиг отсчитает.
Пан Заглоба колени князя обнял и сказал:
– Ваше сиятельство! Большая это милость, нежели мужество мое, каковому желал бы я, будучи человеком скромным, не придавать значения вовсе.
Чуть заметная улыбка блуждала на потемневшем лице пана Скшетуского, однако рыцарь помалкивал и даже потом ни князю, ни кому другому о смятении пана Заглобы перед битвой не рассказал. Пан же Заглоба отошел с миною столь сердитой, что жолнеры из других хоругвей указывали на него и говорили:
– Вот он, который отличился сегодня более прочих.
Наступила ночь. По обоим берегам реки и пруда зажглись тысячи костров, и дымы столбами поднялись к небесам. Усталые солдаты подкреплялись едою, горелкой или воодушевлялись перед завтрашней битвой, вспоминая события нынешней. Громче остальных распространялся пан Заглоба, похваляясь тем, сколь отличился, и тем, сколько бы еще мог отличиться, если бы конь под ним не упнулся.
– Уж вы, судари, знайте, – говорил он, обращаясь к княжеским офицерам и шляхте из хоругви Тышкевича, – что большие сражения для меня не новость, намахался я уже достаточно и в Мультянах, и в Турцех, а то, что в бой нынче не рвался, так потому, что боялся не неприятеля, – ибо не хватало еще хамья этого бояться! – но собственной горячности, ужасно опасаясь, что чересчур распалюся.
– И распалился же, ваша милость.
– И распалился! Спросите Скшетуского! Как увидел я Вершулла, с конем упавшего, никого, думаю, спрашиваться не стану, поскачу на выручку. Еле-еле товарищи меня сдержали.
– Точно! – сказал пан Скшетуский. – И правда, пришлось вашу милость сдерживать.
– Однако, – прервал Карвич, – где же Вершулл?
– Уже в разъезд поехал, угомону просто не знает.
– Послушайте же, судари мои, – продолжал пан Заглоба, недовольный, что его прервали, – как я знамя это самое захватил…
– Значит, Вершулл не ранен? – снова спросил Карвич.
– …Не первым оно было в жизни моей, но ни одно еще мне с таким трудом не доставалось…
– Не ранен, помят только, – сказал пан Азулевич, татарин, – и воды наглотался – он же в пруд головою упал.
– Тогда удивительно, что рыба не сварилась, – в ярости сказал пан Заглоба. – От такой огненной головы вода закипеть могла.
– Что ни говори, а знаменитый он кавалер!
– Не такой уж знаменитый, если довольно было на него полу-Яна. Тьфу ты, судари мои, слова сказать не даете! Могли бы и у меня тоже поучиться, как вражеские знамена захватывать…
Дальнейший разговор был прерван молоденьким паном Аксаком, подошедшим в этот момент к костру.
– Новости принес я вашим милостям! – сказал он звонким, почти детским голосом.
– Мамка пеленки не постирала, кот молоко слопал, и горшок разбился! – буркнул пан Заглоба.
Однако пан Аксак пропустил мимо ушей намеки на свой отроческий возраст и сказал:
– Полуяна огнем припекают…
– То-то собакам гренки будут! – сразу встрял пан Заглоба.
– …и он дает показания. Переговоры прерваны. Воевода из Брусилова чуть с ума не сходит. Хмель со всем войском идет на помощь Кривоносу.
– Хмель? Ну и что, Хмель! Кто тут вообще про Хмеля думает? Идет Хмель
– пиво будет, бочка полушка! Плевать нам на Хмеля! – тараторил пан Заглоба, грозно и горделиво водя очами по присутствующим.
– Идет, значит, Хмель, но Кривонос его ждать не стал, а потому и проиграл…
– Играл дударь, играл – кишки и проиграл…
– Шесть тысяч молодцев уже в Махновке. Ведет их Богун.
– Кто? – вдруг изменившимся голосом спросил Заглоба.
– Богун.
– Не может быть!
– Так Полуян показывает.
– Вот те на! – жалобно воскликнул пан Заглоба. – И скоро они сюда могут быть?
– Через три дня. В любом случае, идучи на битву, спешить они не станут, чтобы коней не загнать.
– Зато я буду спешить, – пробормотал шляхтич. – Ангелы божьи, спасите меня от этого злодея! Я бы не раздумывая отдал свое захваченное знамя, только бы этот буян по дороге шею себе свернул. Spero[120]120
Надеюсь (лат.).
[Закрыть], мы тут не станем засиживаться. Показали Кривоносу, что умеем, а теперь самое время отдохнуть. Я этого Богуна так ненавижу, что без отвращения слышать его бесовского имени не могу. Вот, называется, приехал! Разве же не мог я в Баре отсидеться? Лихо меня сюда принесло…
– Не тревожься, ваша милость, – шепнул Скшетуский, – стыдно оно! Среди нас ты в безопасности.
– Я в безопасности? Ты, сударь, его не знаешь! Он, быть может, сейчас между кострами к нам ползет. – Здесь пан Заглоба беспокойно огляделся. – На тебя он тоже зуб имеет!
– Дай боже нам повстречаться! – сказал пан Скшетуский.
– Ежели сие следует полагать милостью божьей, то я бы предпочел ее не удостоиться. Будучи христианином, я ему все обиды прощу, но при условии, что его за два дня до этого повесят. Я-то ни о чем не тревожусь, но ты, ваша милость, не поверишь, какое небывалое омерзение меня пробирает! Я люблю знать, с кем дело имею: со шляхтичем – так со шляхтичем, с холопом – так с холопом; но это же дьявол во плоти, с которым неизвестно, чего держаться. Отважился я на нешуточную с ним проделку, но какие он глаза сделал, когда я ему башку обматывал, этого я вашей милости описать не берусь и до смертного часа помнить буду. Пускай лихо спит, я его будить не собираюсь. Один раз сошло с рук. Вашей же милости скажу, что ты человек неблагодарный и о сердешной нашей не думаешь…
– Это quo modo?
– Потому что, – продолжал Заглоба, отводя рыцаря от костра, – своему воинскому пылу и отваге потрафляя, воюешь и воюешь, а она там lacrimis[121]121
слезами (лат.).
[Закрыть] всякий день заливается, тщетно респонса ожидая. Другой бы, имея в сердце истинные чувства и к тоске ее сострадание, чего бы только не придумал, чтобы давно меня отправить.
– Значит, ты в Бар возвратиться хочешь?
– Хоть сегодня, потому как мне ее тоже жаль.
Пан Ян глаза печальные к звездам вознес и сказал:
– Не обвиняй же меня, ваша милость, в лукавстве, ибо бог свидетель, что я куска хлеба в рот не беру, телом усталым ко сну не отхожу, о ней прежде не подумав, и уж в сердце моем никто, кроме нее, резиденции прочней иметь не может. А то, что я вашу милость с ответом не отрядил, так это лишь потому, что сам ехать собирался, дабы любови волю дать и, не откладывая долее, браком вековечным с милой соединиться. И нету таких крыл на свете и полета такого нету, каким бы я туда лететь не желал к сердешной моей…
– Отчего ж не летишь?
– Оттого, что перед битвой поступать мне так не пристало. Я солдат и шляхтич, потому и о долге помнить обязан…
– Но теперь-то битва позади, ergo… можем двинуться хоть сейчас…
Пан Ян вздохнул.
– Завтра ударим на Кривоноса…
– Вот этого я, сударь, не понимаю. Побили вы молодого Кривоноса, пришел старый Кривонос; побьете старого Кривоноса, придет молодой этот (не ко сну будь помянут!)… Богун; побьете его, придет Хмельницкий. Что же, черт побери! Если так дальше пойдет, тогда тебе, ваша милость, лучше на одной сворке с паном Подбипяткой ходить; простофиля с целомудрием плюс его милость Скшетуский, summa facit[122]122
итого (лат.).
[Закрыть]: два простофили и целомудрие. Уймись, сударь, не то, ей-богу, я первый княжну подбивать стану, чтобы она тебе рога наставила; ведь там же пан Енджей Потоцкий, как увидит ее, аж искры из ноздрей сыплет: того и гляди, заржет по-лошажьи. Тьфу, дьявольщина! Ежели бы мне какой сопляк говорил, который в битвах не бывал и репутацию завоевать себе хочет, я бы его понял, но ты-то, ваша милость, крови налакался, что волк, а под Махновкой, как мне рассказывали, прикончил не то дракона какого-то адского, не то людоеда. Juro[123]123
Клянусь (лат.).
[Закрыть] этим месяцем голубым, что ты, ваша милость, чего-то крутишь или же таково вошел во вкус, что кровь брачному ложу предпочитаешь.
Пан Скшетуский невольно глянул на месяц, плывший по высокому сверкающему небу, точно серебряный кораблик.
– Ошибаешься, сударь, – сказал он, помолчав. – Ни кровью я не упиваюсь, ни репутацию тоже не зарабатываю, а только не пристало мне бросать товарищей в тяжелую минуту, когда хоругвь nemine excepto[124]124
в полном составе (лат.).
[Закрыть] должна быть. В том честь рыцарская, а это дело святое. Что же войны касательно, она наверняка затянется, ибо слишком уж голытьба из грязи в князи полезла; однако, если на помощь Кривоносу идет Хмельницкий, будет передышка. Или Кривонос нам завтра проиграет, или нет. Если проиграет, то с божьей помощью надлежащую науку получит, а нам потом следует идти в места поспокойнее, чтобы тоже отдышаться немного. Что ни говори, уже два месяца мы не спим, не едим, только сражаемся да сражаемся день и ночь, крова над головою не имея, всем капризам стихий подвергаясь. Князь – полководец великий, но и благоразумный. Не пойдет он на Хмельницкого, располагая несколькими тысячами против тьмы. Известно мне также, что двинется он на Збараж, там откормится, солдат новых соберет, шляхта со всей Речи Посполитой к нему сойдется – и лишь тогда только мы пойдем на решающее сражение, так что завтра последний трудовой день, а послезавтра уже смогу я с вашей милостью и с легким сердцем в Бар двинуться. И еще скажу я для успокоения твоего, что Богун этот самый никоим образом к завтрему не поспеет и в битве участия не примет, а хоть и примет, я полагаю, что его холопская звезда не только рядом с княжеской, но и рядом с моей, рыцарской, померкнет.
– Он же просто Вельзевул во плоти. Говорил я тебе, что толчеи не люблю, но он толчеи похуже, хотя, repeto, не столько страх, сколько омерзение я к нему испытываю. Ладно. Поговорили, и хватит! Завтра, значит, мужикам спины выдубим, а потом ходу в Бар! Ой! Станут же те прелестные глазки сиять, conspicientes[125]125
завидев (лат.).
[Закрыть] вашу милость! Ой! Будет же это личико пылать! Признаюсь я тебе, сударь, что и меня по ней тоска терзает, ибо я ее, как отец, люблю. И неудивительно. Сынов legitime natos[126]126
законнорожденных (лат.).
[Закрыть] у меня нету, имение аж в Турцех, где поганские комиссары его разворовывают, так что живу я на белом свете сиротою и на старости лет, наверно, к пану Подбипятке в Мышикишки в приживальщики пойду.
– По-другому будет оно, об этом не беспокойся. За то, что ты сделал для нас, не знаю даже, сумеем ли мы сполна благодарностью отплатить.
Дальнейшему разговору помешал какой-то офицер, спросивший, проходя мимо:
– А кто там такой стоит?
– Вершулл! – воскликнул Скшетуский, узнав его по голосу. – Из разъезда?
– Точно. А сейчас от князя.
– Что нового?
– Завтра битва. Неприятель запруду расширяет, мосты на Стыри и Случи наводит, добраться до нас непременно хочет.
– А князь что на это?
– «Ладно» – говорит!
– И ничего больше?
– Ничего. Мешать не велел. А там топоры аж гудят! До утра будут работать.
– Языка привел?
– Семерых. Все показывают, что о Хмельницком слыхали, мол, идет, но еще якобы далеко. Ночь-то какая!
– Да уж светлее светлого! А как ты себя чувствуешь после незадачи сегодняшней?
– Кости болят. Иду благодарить Геркулеса нашего, а потом спать, устал очень. Вздремнуть бы часика два!
– Спокойной ночи!
– Спокойной ночи!
– Ступай и ты, ваша милость, – сказал пан Скшетуский Заглобе. – Поздно уже, а завтра потрудиться придется.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.