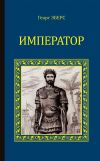Текст книги "Тернистым путем [Каракалла]"
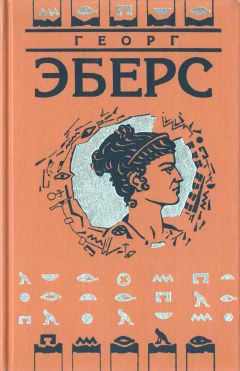
Автор книги: Георг Эберс
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Затаив дыхание, она прислушивалась к шуму колес экипажа, выкрашенного синею краской, и увидала теперь серебряный жезл Эскулапа и чашу на широкой средней двери этого дома на колесах. Возле нее в открытом окне показалось приветливое старческое лицо, обрамленное белыми кудрями, и Мелисса вздрогнула в испуге, так как в этот момент донесся издали, от Серапеума, крик: «Стой!», и снова: «Стой!» Кортеж остановился, конюхи держали коней, синие колеса перестали двигаться, колесница остановилась в нескольких шагах перед девушкой, и ее взгляд встретился со взглядом старца.
Тогда в ее уме промелькнула мысль, что сама судьба остановила именно здесь этот экипаж, и когда она услышала восклицание мозаичиста: «Великий римский врач!» – то и кони, и колесницы, и все вокруг нее слилось в ее глазах в одно, и с внезапною решимостью она вырвала свою руку из руки вольноотпущенника и очутилась на улице.
Несколько мгновений спустя она стояла против достойного старца.
Она, конечно, слышала предостерегающий зов Андреаса, видела смотревшую на нее толпу, ей, конечно, пришлось выдержать короткую борьбу с девическою застенчивостью; но она выполнила то, что начала. Мысль, что сами всемогущие боги способствуют ей в ее намерении обратиться к единственному человеку, который может спасти ее возлюбленного, помогла ей победить все препятствия.
Мелисса стояла уже возле колесницы, и едва ее милое, раскрасневшееся от смущения лицо с трогательно-боязливым выражением мольбы посмотрело на седовласого римлянина и взгляд ее больших глаз, увлажненных слезами, встретился с его взглядом, как он кивнул ей и приятным, участливым голосом спросил, что ей нужно.
Тогда Мелисса решилась задать ему вопрос, не он ли знаменитый римский врач, на что польщенный римлянин отвечал с ласковою улыбкой, что так его иногда действительно называют.
Благодарный взгляд, который Мелисса бросила к небу, показывал, как отрадно подействовали на нее эти слова. Алые губы ее зашевелились, и она наскоро, с постоянно возраставшею смелостью, сообщила ему, что ее жених, сын одного почтенного александрийца, римского гражданина, тяжело раненный в голову камнем, лежит больной и что врач, теперь лечащий его, говорит, что больного можно спасти только при помощи его, великого римского врача.
Она призналась также, что Птоломей желает, чтобы Диодора, для которого необходимее всего спокойствие, перенесли в Серапеум и вверили его попечениям более искусного коллеги, но что она опасается дурных последствий для своего жениха, когда его потревожат перемещением в другое место.
Затем она посмотрела с такою мольбою в глаза римлянина, говоря, что его приветливый вид внушает ей надежду, что он сам посетит, а следовательно, и спасет от смерти больного, который благодаря счастливой случайности лежит не очень далеко от Серапеума и пользуется хорошим уходом.
Старик прерывал ее по временам только немногими лукавыми и веселыми вопросами, относившимися к ее любви и к ее религии, потому что, когда она сказала ему, что больной находится на попечении христиан, то ему пришла мысль, что эта просто, но прилично одетая девушка со скромными манерами и кротким прекрасным лицом – христианка.
Его почти удивило ее уверение в противном; однако же, по-видимому, он с удовольствием услышал его и обещал исполнить ее просьбу. Идти в дом, занимаемый императором и его свитой, совсем не следует молодой девушке ее лет; но он будет ждать ее вот здесь. При этом он указал ей на небольшой круглой формы храм Афродиты, с левой стороны расширявшейся в том месте улицы Гермеса.
Завтра утром, через три часа по восходе жаркого африканского солнца, полуденные лучи которого невозможно выносить, он в своем экипаже остановится у маленького храма.
– Только смотри, будь там как раз вовремя, – прибавил он и погрозил ей пальцем.
– Если ты придешь даже часом раньше, то уже найдешь меня! – отвечала Мелисса.
Он весело хихикнул и сказал:
– Какая красивая девушка опоздала бы на свидание в присутствии богини любви? – Затем весело крикнул ей: – До свидания! – и откинулся в глубину экипажа.
Сияя от счастья, Мелисса несколько мгновений оставалась неподвижною, затем пошла к месту, где они были прежде вместе со своим спутником, но Андреас несмотря на запрещение ликторов последовал за нею, взял ее под руку и пошел через поредевшую толпу в переулок, который, идя от озера, впадал в улицу Гермеса, против храма Афродиты.
Мелисса шла с ним окрыленною поступью. Радость по поводу того, что она так легко достигла своей цели, овладела ею вполне, и, находясь еще среди толпы, она пыталась сообщить Андреасу, какое прекрасное обещание она получила от великого врача.
Но крики народа заглушали ее слова, потому что как раз в это время нумидийские рабы вели ручного льва императора, которого Каракалла называл «Персидским мечом».
Все смотрели на великолепного хищного зверя, и когда она тоже взглянула на него, ее взгляд встретился с глазами какого-то высокого бородатого мужчины, стоявшего у окна дома, который находился позади маленького храма богини любви.
Она тотчас узнал в нем мага Серапиона и шепнула об этом отпущеннику; но тот, даже не оглянувшись, быстро повлек ее дальше и перевел дух только тогда, когда они очутились в тихом, безлюдном переулке.
Маг заметил Мелиссу еще тогда, когда она пошла к колеснице римлянина, и разговор, который он вел со своим товарищем, сирийцем средних лет, касался ее.
Насколько фигура Серапиона была благородна и внушительна, настолько невзрачною казалась фигура его собеседника. Только выражение хитрости в резких чертах сирийца отличало его от других, ему подобных; но великий маг, по-видимому, считал его достойным внимания, потому что охотно отвечал на вопросы и возражения его.
С самоуверенным жестом, свойственным его соплеменникам в тех случаях, когда они настаивают на своем, сириец махнул рукой вверх и сказал:
– К чему послужило бы мне десятилетнее пребывание в Риме, если бы я не знал Серена Саммоника? Это величайший библиоман в империи. При этом он считает себя вторым эскулапом и даже написал одну медицинскую книгу в стихах, которую беспрестанно читал и перечитывал Гета, умерщвленный брат императора, между тем как здешние врачи объявили ее ничего не стоящим изделием. Он страшно богат, и его колесницей пользуется также и великий Гален, которого император вызвал сюда. Только чего хочет от него девушка?
– Гм… – промычал маг и полным достоинства жестом задумчиво погладил свою бороду. – Эта девушка хорошей нравственности и только что-нибудь важное, настоятельное могло заставить ее обратиться к римлянину.
– Твой Кастор сумеет разузнать и это, – отвечал сириец Анниан. – Этот, имеющий знакомства всюду малый проберется сквозь замочные скважины и уже завтра будет добрым другом окружающих римлянина людей, если это тебе нужно.
– Мы увидим, – отвечал маг. – Но, может быть, сегодня вечером ее брат выдаст нам, что там происходит.
– Философ? – спросил Анниан с протестующим жестом. – Ты, Серапион, великий мудрец, как тебя называют люди, но многое шьешь ты иголками, которые для меня слишком тонки. Почему теперь, когда император находится здесь и когда для подобных тебе золото и почет лежат на улице, ты тратишь драгоценные часы на этого мудрилу из музея, это пусть поймет кто-нибудь другой, только не я.
На губах мага мелькнула надменная улыбка превосходства. Он отошел в глубину пустой комнаты, Анниан последовал за ним, и Серапион начал:
– Ты знаешь, как много людей, называющих себя магами, проберется к цезарю, а слава Сосибия, Анании и Каимиса только немного уступает моей. Каждый отправляет свое ремесло по-своему, хотя бы он назывался пифагорейцем или как-нибудь иначе. Никто не может причислять себя к какой-нибудь признанной школе, а цеховые ученые тщеславятся своим презрением к чародеям. Между тем Каракалла в юности прошел через школу философов. Он гнушается Аристотелем и возится с Платоном и пифагорейцами. Что Филострат, по его поручению, пишет биографию Аполлония Тианского, об этом я знаю от тебя самого, и хотя Каракалла морщит нос при упоминании о буквоедах и празднословах музея, но у него в крови ожидать от привилегированных ученых чего-нибудь особенного. Его мать снова дала им доступ ко двору, а он, ожидающий всего от тайных искусств, еще не встречал ни одного мага, который бы принадлежал к числу этих ученых.
Сириец захлопал в ладоши и вскричал:
– И ты намерен сделать Филиппа щитом для твоей вылазки и заставить его рассказать императору о чудотворце, который идет рука об руку с ученостью музея? Восхитительно умная мысль! Но сын резчика не похож на простофилю. Притом он скептик и не верит ни во что. Если ты поймаешь его, то я серьезно и безусловно уверую в твою чудодейственную силу.
– Есть нечто более трудное, чем овладеть этим человеком.
– Ты хочешь, – спросил сириец, и его глаза со смущением опустились в землю, – посредством взглядов и наложения рук уничтожить его волю, как это ты сделал со мною и Трифисом два года тому назад?
– Это завязало уже первый узел союза между нами, – отвечал Серапион. – Теперь мне нужно еще только твое ораторское искусство. Главное мне доставит сам Филипп.
– Что же это такое?
– Ты называешь его скептиком, и он в самом деле похваляется тем, что он зашел дальше, чем старые учителя этой школы. Ревностное размышление привело его к тому, что он не считает ничего верным и, следовательно, наоборот, признает все возможным. Последний результат, к которому он пришел, это вероятность при невозможности знать наверняка что бы то ни было. Он всегда будет с интересом следить за доказательствами способности души умершего являться живущим в своем бывшем земном виде и иметь с ними сношения, так как для него невозможно было бы указать на уничтожение чего бы то ни было. Мои же аргументы более осязательны. Умершая Коринна, точный портрет которой Кастор уже открыл, явится перед ним во плоти, а твое ораторское искусство заставит его убедиться, что с ним говорит ее голос, которого он никогда не слыхал прежде. Все это неизбежно возбудит в нем желание видеть ее снова и чаще. Таким образом, скептик приобретет полную уверенность вопреки своему собственному учению. Здесь, как и в других случаях, убеждение будет обязано своим существованием страстному желанию.
– И когда тебе удастся убедить его, то что ты намерен сделать с его помощью? – спросил сириец с напряженным интересом.
– Тогда, – отвечал маг, – он оружием своей победоносной диалектики поможет мне убедить и цезаря; и мы – я рассчитываю при этом на твое искусство чревовещания – мы будем иметь возможность удовлетворить страстное желание властителя иметь сношение с душами умерших.
Маг замолчал, а сириец одобрительно посмотрел на него и скромно сказал:
– Ты умен, Серапион, и я буду помогать тебе. Теперь, конечно, прежде всего нужно будет позаботиться о появлении Великого Александра, Аполлония Тианского, брата, тестя и жены императора.
– Не забывая Папиньяна, достойнейшего из умерщвленных, – прибавил маг. – А, вот и ты, Кастор.
Эти слова относились к высокому, по-видимому, престарелому человеку в длинной белой одежде, который бесшумно вошел в комнату. При этом он держался так серьезно и с таким достоинством. Но едва он дошел до середины комнаты и степенно поклонился магу, как тотчас с громким «уф!» стащил свой хитон через голову, стер со щек краски, делавшие его старше на двадцать лет, начал сгибать и вытягивать свои гибкие члены и весело вскричал:
– Она у меня в руках! Старая Дорофея приведет ее в твой театр.
При этих словах подвижная физиономия юноши сияла радостным блеском по поводу достигнутого успеха.
Казалось, что в жилах этого молодого человека течет бродящий виноградный сок вместо крови. Как только он сделал магу свой отчет, и Серапион наградил его горстью золотых монет, он начал бросать их вверх и ловить, как мух, ладонью, а затем несколько раз ловко прошелся колесом по комнате.
Снова став на ноги, он с таким же ровным дыханием, как прежде, вскричал:
– Извините меня, господа. Натура требует своих прав! Играть три часа сряду роль благочестивого… вечные боги, это значит что-нибудь, и придется еще опять…
– Я знаю, – прервал его Серапион и с улыбкой погрозил ему пальцем. – Теперь ты делаешь кошачьи прыжки, а потом разделишь так легко приобретенное золото с флейтистками. Однако же сегодня вечером ты мне нужен, и если ты чувствуешь себя слабым, то я тебя запру.
– Запри, – сказал Кастор тоном такой настойчивой просьбы, как будто ему пообещали какую-нибудь милость. – Дорофея приведет красавицу в надлежащее время. Все в порядке.
С этими словами он, напевая веселую песенку и легко подпрыгивая, вышел из комнаты.
– Драгоценный парень, – сказал сириец и посмотрел благосклонно ему вслед.
– Жаль его, – заметил Серапион, – он был бы способен на лучшие дела, но у него решительно нет совести, которая положила бы границы его беспутным влечениям. Да и откуда ему было приобрести ее? Его отец принадлежал к труппе эфесских пантомимных лицедеев, а мать была танцовщицей с Кипра. Но он знает всю Александрию, и притом эта память!.. Что за актер вышел бы из этого малого! Даже без переодевания, единственно посредством игры физиономии, он превращается в старика, идиота или философа.
– А чутье, чутье! – вскричал сириец, воодушевляясь. – Как только он увидал изображение Коринны, он уже знал, что видел ее живой портрет на другом берегу озера, между христианами. Сегодня утром он нашел ее, и вот теперь она попадается в тенета ловцу. И как это умно, что он поручил привести ее Дорофее!
– Это, а также и то, чтобы ее позвали от имени епископа Димитрия, он сделал по моему приказанию, – заметил маг. – С чужим человеком она никогда бы не пошла, а Дорофею она должна знать по собраниям своих единоверцев.
IX
Во время этого разговора Мелисса дошла со своим спутником до Мареотийского озера, которое омывало южную часть города и служило для якорной стоянки нильских судов. От широкой реки Агатодэмон, искусственного нильского рукава, соединявшего озеро с царскою гаванью на Средиземном море, отходили суда, отвозившие пассажиров к садам Полибия, и, чтобы добраться до них, Мелисса и Андреас должны были довольно долго идти по берегу.
Заходящее солнце бросало косые лучи на сияющую поверхность гладких вод, в которых отражалось множество нильских кораблей, изобиловавших мачтами. Большие и малые суда с белыми и пестрыми латинскими парусами, сиявшими ослепительно ярко при блеске заката, большие весельные боты, легкие челноки и устойчивые паромы шли туда и сюда по озеру, и между ними, подобно грузовым телегам между быстро едущими всадниками и экипажами, едва заметно двигались тяжелые плоскодонные корабли для перевозки зернового хлеба, на которых лежали высокие, точно дома, массы соломы и зерна в виде усеченных пирамид.
Движение на набережной в другое время было оживленнее, чем в этот день, потому что всех свободных людей любопытство привлекло в город. Но все-таки было довольно рабов, на дневную работу которых приезд императора имел так же мало влияния, как на движение солнца. Сегодня, как и всегда, они должны были заниматься погрузкою и разгрузкою; и если было мало кораблей, предназначенных к отправлению, то многие подходили с юга, бросая деревянные сходни на берег.
Напротив того, число яликов было, пожалуй, больше обыкновенного, потому что дела остановились, и многим, которых тяготила городская толкотня, доставляла удовольствие прогулка в собственной лодке. Другие отправлялись посмотреть на императорские только что вооруженные корабли на Ниле, великолепие которых привлекало внимание даже избалованных александрийцев. Золото, слоновая кость, пурпурные паруса, бронзовые и мраморные статуи на носу кораблей и у маленьких храмов на шканцах представляли здесь в общей картине блистательное зрелище, прелесть которого увеличивалась блеском послеполуденного солнца, усиливающим яркость каждого цвета.
Путешествие вдоль берега было приятно в этот час, потому что сикоморы с широко раскинувшимися ветвями и короны пальм, изобиловавшие вееровидными листьями, бросали тень на дорогу. Дневной жар спал, и легкий ветерок, все еще веявший с моря, приносил прохладу.
Не было ни тесноты, ни большой пыли на хорошо политой улице, однако же Мелисса, несмотря на неожиданный успех ее смелого поступка, утратила свой жизнерадостный вид, и Андреас шел возле нее тоже невеселый и неразговорчивый.
Она не понимала его, потому что с тех пор как она научилась думать, его серьезный взгляд смягчало все, что радовало ее мать или ее. Ведь успех у римского врача должен был послужить в пользу также и Диодору, которого отпущенник так любил.
По временам она замечала, что его взгляд безмолвно останавливается на ней с сожалением, и когда она спрашивала, не тревожит ли его опасение за раненого, он, в противоположность ее решительной манере, давал уклончивые ответы, усиливавшие ее беспокойство.
Наконец его недоступная молчаливость раздосадовала девушку, обыкновенно столь терпеливую, и она дала ему понять это. Она не подозревала, как болезненно действовала ее радость, вызванная смелым поступком, на ее правдивого друга.
Он знал, что она говорила не с великим Галеном, а с богатым Сереном Саммоником, потому что благородная внешность величайшего врача своего времени была ему хорошо знакома по медальонам, статуям и бюстам, а Саммоника ему показывали в Антиохии, причем называли его медицинское сочинение в стихах ничтожным. Какою малостоящею казалась ему помощь этого человека! Несмотря на его обещание, Диодора, по мнению Андреаса, нужно было перенести в Серапиум, однако же отпущенник не имел духа разрушить надежду своей любимицы. Правда, он знал ее уже давно как настойчивую и верную долгу девушку, но сегодня он увидел, с какою ни перед чем не останавливающеюся твердостью она сумела выполнить свое намерение, и потому должен был бояться, что если откроет ей глаза на ошибку, то она, несмотря ни на какие препятствия, проберется в помещение императора, чтобы просить помощи у настоящего Галена.
Приходилось оставить ее в заблуждении, но это было ему не по нутру, потому что ни к какому искусству он не был менее привычен, чем к притворству. Как трудно было ему найти подходящий ответ, когда она спрашивала его, неужели не ожидает он лучших последствий от помощи великого врача, или когда она выражала желание знать, чему обязан Гален своею знаменитостью.
Когда они подходили к пристани, она спросила, сколько лет, по его мнению, врачу, и он опять уклонился от прямого ответа. Галену было восемьдесят лет, а Серену только недавно исполнилось семьдесят.
Тогда она печально посмотрела на него удивленными глазами и вскричала:
– Не оскорбила ли я тебя, или же ты скрываешь от меня что-нибудь?
– Чем ты могла меня оскорбить? – отвечал он. – Жизнь полна забот, дитя. Ты должна научиться терпению.
– Научиться терпению? – повторила она с грустью. – Это единственная наука, в которой я сделала кое-какие успехи. Когда мой отец целую неделю бывает угрюмее, чем ты теперь, я едва замечаю это. Но когда у тебя, Андреас, такой мрачный вид, то это происходит не без причины, и вот это именно и беспокоит меня.
– Дитя, мы имеем больного, которого любим, – ласково отвечал он, стараясь ее успокоить.
Но она не позволила обмануть себя и вскричала с уверенностью:
– Нет, нет, это не то! Что нового узнали мы относительно Диодора, и как охотно ты отвечал мне, когда мы оставили его в доме христиан! С тех пор не случилось ничего, кроме хорошего, и, однако же, ты смотришь так, как будто саранча напала на твои сады.
Теперь они подошли к тому месту берега, где разгружали корабль, который привез обтесанные гранитные плиты из Сиены в Александрию. Черные и коричневые рабы тащили эти камни на берег. Какой-то слепой старик наигрывал на дудке из тростника жалобную песню, предназначавшуюся для подбадривания их; но двое более светлокожих, которые почувствовали, что ноша для них сделалась слишком тяжелою и опустили на землю капитель колонны, которую они несли, подверглись беспощадным ударам безжалостного надсмотрщика и были им понуждены к новой попытке сделать невозможное.
Взгляд вольноотпущенника следил за этой сценой. Его щеки покраснели от быстро вспыхнувшего гнева, и, охваченный сильным волнением, он вскричал:
– Посмотри, вот саранча, которая портит мои растения, вот град, побивающий мои семена. Он попадает во все, что называется человеком, а следовательно, и в меня и в тебя. И так будет до тех пор, пока не придет царство, для которого время исполнилось.
– Но ведь они уронили столб, я видела это, – возразила Мелисса.
– Видела? – спросил Андреас. – Да, да, плеть должна была оживить разбитую силу. Вот как смотришь ты на самую возмутительную несправедливость! Ты, неспособная раздавить даже маленького червячка своим нежным пальцем, находишь это естественным!
При этих словах Мелисса вспомнила, что и сам Андреас был когда-то рабом, и мысль, что она оскорбила его, больно отозвалась в ее сердце. Она часто слыхала его строгую и серьезную речь, но никогда еще он не говорил таким едко-насмешливым тоном, как сейчас, и это тоже огорчило ее. Не находя надлежащих слов для оправдания происшедшей несправедливости, она только смотрела с мольбою на него увлаженными глазами и тихо сказала:
– Прости меня.
– Мне не в чем прощать тебя, – отвечал он изменившимся тоном. – Ты выросла среди несправедливых, которым принадлежит теперь власть. Каким образом могла бы ты видеть яснее, чем они, которые все бродят во тьме? Но как только тебе будет показан свет кем-нибудь, для кого он открыт, он не скоро погаснет. Неужели ты не в состоянии находить прекрасною жизнь среди братьев и сестер, вместо жизни среди угнетателей и угнетенных? Или в душе женщины нет места для священного гнева, который создал Моисей для еврейского народа? Впрочем, от кого могла бы ты услыхать имя это великого человека?
Здесь Мелисса хотела прервать речь взволнованного Андреаса возражением, что в городе, в числе граждан и рабов которого находилось так много евреев, она, разумеется, слышала, что Моисей был великий законодатель; но он остановил ее восклицанием:
– Вот и паром! Заметь, девушка, одно и унеси это правило с собою домой из настоящего путешествия. Тягчайшие бедствия, которые человек причиняет себе подобным, происходят от эгоизма, а из добра возникает высшее благо, когда человек приобретает над собою такую власть, что забывает себя самого ради счастья и благополучия других.
Здесь он замолчал, потому что паром был уже готов к отплытию, и им нужно было поскорее войти на него.
Большое плоское судно было почти пусто, потому что въезд императора задержал многих в городе, и оставалось много пустых скамеек, где Мелисса могла сесть.
Андреас беспокойно ходил взад и вперед. По знаку девушки он подошел к ней ближе и, опираясь на будку каюты, выслушал ее уверение, что она теперь хорошо понимает его желание сделать рабов свободными людьми. Он больше, чем кто-нибудь, должен знать, каково на душе у этих несчастных.
– Знаю ли я это! – отвечал он, покачав головой. Затем, бросив быстрый взгляд на немногих пассажиров, сидевших на заднем конце большого парома, продолжал с грустью: – Чтобы почувствовать это, нужно самому носить позорное клеймо.
При этих словах он показал верхнюю часть своей руки, прикрытую длинным рукавом туники, и Мелисса с горечью вскричала:
– Но ведь ты родился свободным! Из наших рабов ни один не отмечен никаким знаком. Ведь ты попался в руки сирийских пиратов?
Он утвердительно кивнул и отвечал:
– Я и мой отец.
– А он, – прибавила Мелисса с горячностью, – был большой господин?
– Пока не отвернулась от него судьба.
– Но, – спросила Мелисса с глубоким и теплым участием, – как могло случиться, что его не выкупили ваши родные? Ведь твой отец, наверное, был римским гражданином, а закон…
– Закон запрещает, – прервал ее вольноотпущенник, – продавать таких людей в рабство, однако же римские власти оставили его в несчастии… позволили…
Большие спокойные глаза Мелиссы засверкали от негодования и, возмущенная до глубины души, она вскричала:
– Но каким образом была возможна такая ужасная несправедливость? О расскажи мне это! Ты знаешь, как я тебя люблю, и здесь никто не услышит тебя.
Ветер усилился; волны большого озера с громким плеском ударялись о берег судна, а гребная песня рабов могла бы заглушить более громкую речь, чем слова Андреаса, который сел возле Мелиссы, чтобы исполнить ее желание.
То, что он рассказал, было печально. Его отец принадлежал к сословию всадников и в царствование Марка Аврелия служил при высокодаровитом наместнике Азии, Авидии Кассии, его земляке, в качестве прокуратора всего делопроизводства.
Находясь в этой высокой должности, он был замешан в заговоре Авидия против императора. После казни своего покровителя, которого войска провозгласили уже цезарем, отец Андреаса был лишен своих должностей и званий, а также и права гражданства; его имения были конфискованы, и он был сослан на остров Анафе. Он обязан был жизнью только снисходительности императора.
На пути в ссылку отец и сын попали в руки морским разбойникам и были проданы в Александрии, на рынке рабов, разным господам. Андреаса купил один содержатель гостиницы, а бывший прокуратор, получивший в рабстве имя Смарагда, достался отцу Полибия, и этот достойный человек скоро научился ценить нового слугу так высоко, что купил и его сына и таким образом возвратил его отцу.
Все попытки некогда так высоко поставленного человека освободиться от рабства посредством решения сената оказались напрасными, и он, с разбитыми надеждами и ослабевшим телом, исполнял свои обязанности относительно своего господина и своего единственного ребенка. Он таял от жгучей скорби, пока не нашел в христианстве нового счастья и утраченной надежды, а также высочайшего из всех знаний того, которое дается христианину его верой.
Здесь Мелисса прервала рассказ своего друга, за которым следила с глубоким участием, и, указывая пальцем на озеро, вскричала:
– Там… там… посмотри туда! В лодке там… ну да, разумеется, это Александр! И он направляется к городу.
Андреас вздрогнул и, когда убедился, что Мелисса не ошиблась, а юноша тоже узнал сестру, делавшую ему знаки, воскликнул с досадой: «Безрассудный!»
При этом он повелительными жестами делал Александру знаки, чтобы он повернул свою лодку к парому, который подходил уже к берегу.
Но Александр сделал отрицательный жест и затем, послав Мелиссе воздушный поцелуй, снова взялся за весла и начал грести так сильно, как будто дело шло о призе во время гонки.
Как быстро и смело киль его лодки прорезывал слегка возмущенные пенистые волны, которые то поднимали, то опускали ее! У энергичного юноши не было недостатка в силе; и двум людям, смотревшим на него в волнении с парома, скоро сделалось ясным, что он старается догнать другую лодку, больших размеров, которая была впереди его на значительном расстоянии. Несколько рабов у весел сильными руками довольно быстро подвигали ее вперед; под холщовым навесом, занимавшим середину лодки, виднелись две женские фигуры.
Отблеск солнца, пылающий круг которого только что исчез за пальмовою рощей к западу от озера, озарял небо рубиновым цветом и бросал на белые одежды женщин, на светлый верх балдахина над их головами и на всю поверхность озера розовое мерцание. Но ни Андреас, ни его спутница не обращали внимания на этот прекрасный прощальный привет заходившего светила.
Мелисса указала Андреасу на странную одежду брата, плащ с капюшоном, яркую оконечность которого вечерний свет обрамлял точно золотым позументом.
На Александре была та галльская накидка, которая утвердила за императором насмешливое прозвище Каракаллы, и в этом переодевании было нечто успокоительное, потому что стоило Александру поглубже надвинуть на голову капюшон, чтобы он скрыл большую часть его лица и сделал его неузнаваемым для преследователей.
Легко было угадать, откуда он достал эту одежду: слуги императора роздали целые горы подобных накидок толпе. Цезарь желал ввести их в моду и теперь мог ожидать, что завтра же он увидит многих александрийцев в «каракалле», ношение которой он не мог навязать никаким повелением.
Пусть Александр носит каракаллу, лишь бы только она скрыла его от глаз сыщиков!
Но кто были женщины, которых он преследовал?
Прежде чем Мелисса успела задать этот вопрос, Андреас указал на переднюю лодку и вскричал:
– Это – христианки; судно, на котором они плывут, принадлежит Зенону, брату Селевка и верховного жреца в храме Сераписа. Там его пристань. Он со своим семейством и страждущими единоверцами живет в длинном белом доме, который выдвигается вон там из пальмовой рощи; виноградники на той стороне принадлежат тоже ему. Если я не ошибаюсь, одна из женщин в этой лодке его дочь Агафья.
– Но что же может быть нужно Александру от христианки?
Андреас вздрогнул, и жила на его широком лбу вздулась, когда он отвечал с неудовольствием:
– Мало ли что! Он и ему подобные слепцы считают высочайшим благом то, что тешит глаз. Вон там угасает блеск, который только что озарял и покрывал золотом озеро и его берег. Такова и красота! Суетное сияние, которое мерцает только для того чтобы угаснуть; но для безумцев это – божество, наиболее достойное поклонения.
– Значит, дочь Зенона красива? – спросила девушка.
– Говорят, – отвечал Андреас и, немножко подумав, прибавил: – Да, Агафья замечательно красивая девушка; но я знаю, что она обладает еще лучшими качествами. Во мне поднимается желчь, когда я вижу, что даже и ее святая чистота возбуждает нечистые желания. Я люблю твоего брата, уже ради его матери, я простил ему многое, однако же, когда он намеревается раскинуть сети и для Агафьи…
– Не беспокойся, – прервала его Мелисса. – Правда, Александр мотылек, который перепархивает с одного цветка на другой и часто легко относится к серьезным вещам, но теперь он находится вполне под влиянием одной мечты и в прошлую ночь, кажется, сблизился с дочерью нашего соседа Скопаса, хорошенькой Ино. Прекрасное он ставит выше всего; но ведь он художник! Из-за красоты он готов подвергнуться всяким опасностям. Если ты не ошибся, он гонится за дочерью Зенона. Но, может быть, он делает это не для того чтобы устроить ей западню, а по другим побуждениям.
– Наверное, эти побуждения не принадлежат к числу похвальных, – сказал вольноотпущенник. – Вот мы и пришли. Достань платок из корзины раба. По заходе солнца здесь будет сыро и свежо, в особенности вон там, где я теперь осушаю болото. Земля, которую мы приобретем посредством этого осушения, со временем будет приносить твоему будущему мужу хорошие доходы.