Читать книгу "Бэлпингтон Блэпский"
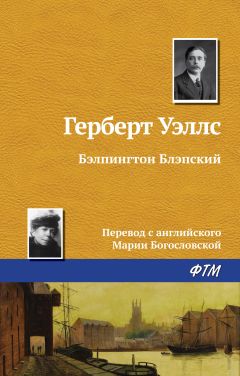
Автор книги: Герберт Уэллс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
2
Расхождения с профессором Брокстедом
Теодору не приходило в голову, что его сверстникам тоже случается блуждать иногда в этом бурном, чудовищном и знойном мире снов. Он не отдавал себе отчета в том, что эти грубые воспитательные методы матери-природы распространялись на всех. Его собственные переживания быстро улетучивались из его памяти: он не любил о них вспоминать и еще того меньше рассказывать о них. Он вычеркивал их из своего сознания, как что-то непонятное и постыдное. Он приучался все больше и больше вычеркивать неприятные вещи из своего сознания. Он не замечал того, что их насильственное вторжение приводит к некоторому сдвигу и искривлению в его мыслях. Чем больше он бывал Бэлпингтоном Блэпским, тем эти вещи становились менее реальными.
Фрэнколин и Блеттс тоже помалкивали о тех бурных переживаниях, в которые повергали их сновидения. Фрэнколину не доставляло удовольствия шутить на эту тему, а Блеттс не получал от них никакого удовлетворения; их надо было скорей заглушать шутками или преодолевать подлинными наслаждениями; что же касается Тедди и Маргарет, они так откровенно и прямо рассуждали обо всем на свете, что Теодор и мысли не допускал, что они могут умалчивать о чем-то.
Случайное знакомство на пляже перешло в знакомство домами. Клоринду давно уже привлекал высокий интеллектуальный престиж профессора Брокстеда. Она много слышала о нем в Лондоне и с радостью ухватилась за возможность встретиться с ним в Блэйпорте. Сначала в одном доме, потом в другом состоялись званые обеды. Долгие разговоры с профессором Брокстедом и жаркие споры о нем на следующий день.
Прославленный биолог оказался совсем не таким, каким ожидал его увидеть Теодор. Он был маленького роста, коренастый: у него не было и следа того изящества, которым отличались черты его жены и детей, но он был такой же рыжий, как Тедди, и еще более веснушчатый. Глаза у него были красновато-карие. Маргарет унаследовала свои синие глаза и открытый взгляд от матери. У Тедди были выпуклые, как у отца, надбровья и такое же задумчиво сосредоточенное выражение лица. Живые маленькие карие глазки быстро двигались под нависшими профессорскими бровями, а его голос, не имевший ничего общего с мягкими, плавными интонациями, которыми отличались голоса его семейства, звучал отрывисто и резко и по временам даже напоминал лай. Он разговаривал с Бэлпингтонами уверенным, невозмутимым тоном, а жена его говорила очень мало. Но слушала сочувственно, со скрытым одобрением.
Дома он казался всецело поглощенным своей работой: когда он бывал в Блэйпорте, лаборатория была закрыта для чужих мальчиков; он отвечал на вопросы, которые задавал ему Тедди, с лаконической точностью, но как будто вовсе не нуждался в Тедди. У него была привычка рассеянно похлопывать Маргарет или жену, когда он проходил по комнате, словно он хотел дать им понять, что замечает их присутствие и займется ими попозже.
Вечер, в который состоялся званый обед, выдался жаркий, а после обеда они сидели на окруженной тамарисками лужайке сада, в то время как закатное сияние летних сумерек, бледнея, переходило в лунный свет. Они сидели на скрипучих плетеных стульях за маленьким столиком, куда им подали кофе, зеленый шартрез и папиросы, а Теодор незаметно пристроился сзади, на корточках, на подушке, намереваясь оттянуть на час-другой время, когда ему полагалось идти спать, и изо всех сил стараясь не упустить ничего из их разговора.
Уимпердик пришел после обеда. Он встречался и не раз спорил с Брокстедом и раньше, а сейчас профессор был уже раззадорен Раймондом, который кротко, но с мягкой настойчивостью выражал сомнение в пользе современной науки.
– Какой смысл во всем этом, я вас спрашиваю? Разве человек станет хоть сколько-нибудь счастливее оттого, что жизнь будет идти быстрее или он будет жить дольше, чем раньше?
Брокстед пропагандировал экспериментальную науку и как преподаватель, и как общественный деятель. Для него современная наука была светом, побеждающим тьму, это была заря Истины, всходившая над миром, который до сих пор копошился в живописной, но опасной полумгле. Все остальное, он считал, должно будет в конечном итоге приспособиться к научной истине. Все остальное второстепенно – законы морали, социальное устройство; прежде всего надо узнать, что представляют собой мир, мы сами, жизнь, материя и т. п., а затем уже приступать к обсуждению, как подойти к этому и что с этим делать.
– Это не входит в интересы человека науки, – отвечал Брокстед, – он не задается вопросом, приведут ли его открытия к морально хорошим или плохим, или, лучше сказать, к благодетельным или дурным результатам. Такого рода оценки приходят позже. Для него не существует ничего, кроме точного определения фактов. Он должен следовать за этими фактами, к каким бы выводам они ни приводили, пусть даже самым невероятным и неаппетитным.
Профессор внушительно повысил голос, и стул его заскрипел громко и убедительно.
– Я не буду вдаваться в обсуждение, хороши или дурны выводы современной науки с этической точки зрения, – возразил Уимпердик, – хотя по этому поводу можно сказать очень много. Все, что я хочу знать, это – состоятельны ли они? Исследовали ли вы их до конца, до их, так сказать, философских основ?
Он пустился в рассуждения, за которыми Теодору было трудно следить. Брокстед, по-видимому, считал Уимпердика надоедливым и утомительным пустословом, и Теодор был склонен присоединиться к Брокстеду. Уимпердик доказывал, что наука всегда сама разрушает собственные основы, начинает она с классификации, а кончает тем, что уничтожает созданные ею классы, утверждая, что они в процессе эволюции поглощаются один другим или претерпевают новые подразделения. Более того, наука начала с самых обыденных вещей и, казалось бы, даже с таким «просветленным» здравомыслием. А теперь она, видите ли, уже превращает все тела в какое-то месиво теоретических атомов и путает время и пространство самым непостижимым образом. А эти новые психологи, эти психоаналитики, которые пытаются прощупать и разложить на части наши разумные побуждения, – у них теперь на все одно слово – как это? ах, да – комплексы, – пока самая индивидуальность, на которой основана идея всякого единства, не распадается и не исчезает.
– И, однако, эта самая наука, которая уводит всех нас из точного мира в какую-то туманную страну, становится все более и более дерзкой и тщится убедить всех в величайшей важности своих открытии. В лучшем случае научная точка зрения, если только можно так назвать… такую – я бы сказал – разлагающую точку зрения (смешок), – это одна из многих возможных точек зрения. Разум человеческий создал единую совокупность Истины еще до появления экспериментальной науки, а наука как была, так не чем иным и быть не может, как последующей систематизацией знания внутри этой основы.
Брокстед, признаться, не стал вникать в эти доводы, ни возражать на них; он их не принял, он просто отмахнулся от них – весьма нелогично, как потом утверждал Уимпердик, – и отмахнулся с явным раздражением. Он не только не стал обсуждать эти философские основы. Он как будто пришел в негодование от одного предположения, что ему требуются какие-то философские основы. Оба они, как казалось юному слушателю, были правы, каждый со своей исходной точки, но, однако, ни один из них не опроверг другого. И это было весьма загадочно.
Теодор отправился спать, унося с собой представление, что Наука – это какой-то чудовищный спор, который ведет к Истине сквозь все непроходимые дебри неразрешимостей Уимпердика. Но при этом с ужасными препятствиями. И что спор этот длится и длится, но что когда-нибудь он, может быть, все-таки приведет к Настоящей Истине.
А что такое Настоящая Истина? До нее, кажется, очень трудно добраться, если смотреть на все сразу. Но зачем на что-то смотреть? Что, если закрыть глаза и лежать очень тихо и углубиться в себя?
А когда кто-то наконец дойдет до Настоящей Истины, к которой с таким усилием пробивается Наука, тогда что, все изменится? Все эти веры и учения Уимпердика окажутся неверными и исчезнут в новом свете? Или все станет совсем по-другому, потому что ведь все будет видно насквозь и откроется Настоящая Истина? А что же это будет – Бог или, может быть, эти Наследники? Эта фантазия о Наследниках, об этой новой угрожающей породе людей, которые не признавали ничего милого, привычного в жизни, сильно захватила воображение Теодора.
Потом он увидел себя перед Дельфийской Сивиллой, но только теперь она была очень большая, и она уже была не Маргарет, а по-настоящему сама собой, непостижимо загадочная, и ему казалось, что свиток, который она держала в руке, заключает в себе Великую Тайну, Настоящую Истину.
Но он не должен думать о Сивиллах и ни о каких пергаментных свитках. Это все фантазии. От этого только все спутывается. Он должен освободить свое сознание от всяких видимых, отвлекающих его вещей и сосредоточиться. Он должен очень-очень сосредоточиться.
И для начала произносить: «Я есмь».
Это-то уж, разумеется, бесспорно.
Итак, он произнес: «Я есмь» – и сосредоточился и тут же крепко заснул.
На следующий день за обедом между Раймондом, Уимпердиком и Клориндой завязался горячий спор о профессоре, и Теодору опять повезло – он сидел и слушал. Клоринда была в необыкновенно приподнятом настроении в этот вечер, и, может быть, ей хотелось, чтобы он послушал.
В те дни слава Фрейда и Юнга только что начала распространяться в Лондоне, и Клоринда фактически вступила в весьма тесную связь с некиим доктором Фердинандо, одним из первых представителей новых откровений и методов психоанализа в Англии. Она очень ратовала за разрешение комплексов и за освобождение психики от всего, что на нее давит. Кроме того, ее захватила широкая, настойчивая пропаганда учения леди Уэлби о Значимостях, недавно пустившего ростки. Один довольно-таки хилый росток этого учения, посвященный вопросу «Что такое смысл», воскрешал у Клоринды интеллектуальные восторги минувших лет, когда она блистала в Кембридже. Человечество, вспоминала она, пришло к мышлению замысловатым, сложным путем, оно мыслило сначала – как помогли ей вспомнить фрейдисты – символами, мифологическими образами и только потом уже перешло от своих метафор к абстрактному языку и к логике и так до сих пор и не освободилось от этого пережитка, не вышло из рабства придуманных им словесных и цифровых знаков. Ее открытие насчет Уимпердика, что он схоластический реалист, было одним из первых умозаключений, взошедших на этой психоаналитической закваске.
Теперь она сидела, положив локти на стол, лицо ее сияло интеллектуальным оживлением, и она поучала Уимпердика и Раймонда:
– Вы с профессором Брокстедом никогда не договоритесь о том, что, собственно, является предметом вашего спора, потому что вы говорите с ним на разных языках. Неужели вам это самим не ясно? Вы с ним в двух разных измерениях мысли. Вы мыслите неодинаковым способом… Это все равно, как если бы рыба в аквариуме пыталась следовать за движениями человека по ту сторону стекла.
– Кто же из нас рыба? – спросил Уимпердик.
– Это уж предоставляется решать вам, – сказала Клоринда. – Но вы понимаете теперь, что вам совершенно невозможно подойти друг к другу, пока сознание того или другого из вас не переродится заново? Вы, например, думаете, что Бог – это неоспоримая реальность. А какой-нибудь атеист старого склада, вашего схоластически-реалистического типа, также безапелляционно будет утверждать, что он не существует. Но для профессора таких «да» и «нет» даже не возникает. Он считает, что Бог – это просто возможная гипотеза, и он склонен думать – бесполезная гипотеза. Существует или не существует Бог – такой вопрос представляется ему нелепым. Имя, название для него – это только фишки. Это имя в особенности. Он может употребить слово условно, а вы – нет. Он считает всякое логическое определение грубой схемой, включающей вероятную ошибку. Вы же считаете, что это какие-то категории явлений, которые все стремятся к идеальному образцу, остающемуся вечно неизменным. Всякие научные обобщения преходящи, вы же всегда говорите и думаете так, как будто научные теории должны оставаться незыблемыми, вот так же, как религиозные истины должны оставаться незыблемыми. Поэтому вы всегда так презрительно фыркаете, когда какая-нибудь новая научная теория вытесняет старую. Ваши убеждения похожи на те неугасимые лампады, в которых огонь поддерживают веками, и он горит все так же ровно, не ярче и не бледней, и от него всегда падает такая же ровная тень; но для него, как для всякого истинного ученого, убеждения – это все новые и новые потоки света, всегда уступающие место все более и более яркому свету.
– Совершенно иначе устроенный ум, – повторяла она. – Ничем не связанный ум.
– Свихнувшийся, беспорядочный, разбросанный ум, – сказал Уимпердик. – Лозунги, кувыркающиеся в хаосе.
Теодору было довольно трудно уловить суть этого длинного и бессвязного спора. Для них было столько не подлежащего обсуждению; они так много не договаривали, причем, по-видимому, имелось в виду нечто само собой разумеющееся.
И все же этот разговор увлекал и волновал его. Он не относил ни к кому то, что они говорили. Как ни ясно выражалась Клоринда, до него не доходило, что смысл того, о чем они спорили, сводился к противопоставлению двух различных способов, которыми наше сознание, взяв за основу наши врожденные склонности, внешние влияния и опыт, делает нас тем, что мы есть. Во всех метафизических тонкостях Теодору предоставлялось разбираться самому. Он рассматривал этот антагонизм реалистической религии и номиналистической науки как спор о существовании Бога и обо всех этих правилах поведения, толкованиях и обрядах, которые связываются с представлением о владычестве Божьем. Если Бога нет, тогда, разумеется, не имеет значения, что вы не соблюли воскресный день, обозвали своего ближнего дураком или впали в грех прелюбодеяния. Но если есть Бог…
У Теодора было чувство, что Бога нет или, во всяком случае, никакого такого Бога, который походил бы на Бога современной веры, грозящей проклятием, но когда он пытался отделаться от этого чувства и как следует подумать обо всем, появлялся Бэлпингтон Блэпский. Теодор, казалось, всегда стремился к чему-то такому, чего нельзя было выразить словами, а Бэлпингтон Блэпский всегда одергивал его и, требуя от него отклика и понимания, не давал ему выходить из рамок задушевной беседы.
Теодор, когда он молился, как его приучали, думал о посторонних вещах и оставался Теодором, но когда он затевал свою игру во время молитвы и воображал себя молящимся, он становился выше, значительнее, благороднее, короче говоря, становился своим вторым «я», Бэлпингтоном Блэпским, и это его второе «я», эта сублимация основного Теодора, верила в Бога, и Бог, в отплату за это, верил в Бэлпингтона Блэпского. Они взаимно зависели друг от друга. Если один был сублимацией несовершенной личности, другой был сублимацией труднопостижимого мира. Так Бог признавал все, что должно было существовать в представлении Бэлпингтона и играл в пьесе свою надлежащую роль. Перед сражением Бэлпингтон Блэпский обнажал свой меч и молился. Победа оказывалась на его стороне. Это он в молчании ночи говорил: «Ты ведаешь». Теодору трудно было представить себе какого бы то ни было Бога, но Бэлпингтон Блэпский, просыпаясь ночью, «шествовал с Богом» самым непринужденным образом, а потом Теодор, весьма освеженный этой прогулкой, засыпал снова.
3
Ощущение присутствия
Если Бэлпингтон Блэпский нуждался в Боге несколько старинного стиля, Теодор интересовался Богом вне всяких стилей. В детстве, как мы уже говорили, слово «Бог» не связывалось для него с каким-либо живым образом, но теперь, под влиянием этих наполовину доступных ему домашних споров, фраз и обрывков из них, блуждающих в его мозгу в поисках надлежащего места и смешивающихся с намеками из прочитанных книг и собственными внезапно рождающимися вопросами, он ловил себя на том, что стремится проникнуть воображением в эту Настоящую Истину, которая скрывается за всем видимым, в это Высшее Чудо, которое вызвало к жизни и его, и вселенную. В этом переходном возрасте это было для него чем-то вроде манящей и неуловимой чаши святого Грааля, которую неустанно искали рыцари Круглого Стола. Что такое в самом деле, спрашивал он себя, эта чаша святого Грааля и как возникла эта легенда? Этот Грааль, эта Высшая Истина представлялась ему некиим откровением, которое может, например, внезапно снизойти на профессора Брокстеда в то время, как он делает опыты у себя в лаборатории, тайной, которую не ищешь, а жаждешь постигнуть, которая может открыться каждому путнику в жизни без всякого предупреждения.
– Эврика! – воскликнет он.
– Чудо откровения! – изрекал Бэлпингтон Блэпский и тотчас же завладевал проблемой. – Арканы – какое чудесное слово! Арканы непостижимого. – Бэлпингтон Блэпский сразу становился Посвященным и шествовал в великолепной задумчивости. Он понимал. Он был Провидцем. Ибо «был вскормлен медвяной росою и дивным напитком богов».
Теодор в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет – в этот период любознательности и умственного роста – пускался на всяческие ухищрения, чтобы застигнуть Настоящую Истину врасплох, освободиться каким-то магическим образом от свойственного всем обмана чувств, заглянуть в тайну, скрывающуюся за ними, стать Избранным, одним из тех, кто знает. Он кое-что читал о духовных изысканиях и упражнениях, к которым прибегают на Востоке; каким-то особенным способом дыхания и неподвижной сосредоточенностью посвященные ухитрялись покидать скорлупу настоящего, и Теодор сделал несколько любительских попыток в этом же роде. Может статься, он случайно нападет на след. Тогда, быть может, он сумеет выйти из этого кажущегося мира и обрести Настоящую Истину. В подражание некоторым мистикам, о которых он читал, он однажды провел час или два в созерцании своего пупка, а другой раз – в созерцании маленького круглого зеркала, которое он держал в руке. Но его внимание отвлекалось от пупка к его особе вообще и устремлялось к отнюдь не духовным размышлениям. То он вдруг становился сиром Теодором Бэлпингтоном, Рыцарем и Провидцем, Великим Тамплиером, то еще каким-нибудь вымышленным персонажем, и потом ему трудно было снова сосредоточиться.
Теодор никогда не доходил до состояния мистического транса, он слишком деятельно наблюдал драматическое зрелище собственного созерцательного «я».
И вот как-то раз летом, на исходе дня, вскоре после того, как Теодору минуло шестнадцать, с ним произошло нечто необъяснимое, нечто такое, что заключало в себе не только головокружительную игру фантазии. Что-то подобное случалось со многими людьми, и до сих пор никто из тех, кому довелось это испытать, не сумел ни объяснить этого, ни хотя бы как-то связать с другими своими переживаниями. Кто просто отмахнулся от этого, кто забыл, кое-кто сохранил в памяти и пронес через всю жизнь. Это было событием громадной значимости для Вордсворта. Отсюда родился Вордсвортов экстаз. Описать это почти невозможно, но мы все же попытаемся рассказать об этом, как умеем.
Теодор в ту минуту не ждал никаких откровений. И уж, во всяком случае, он не ожидал ничего из ряда вон выходящего и даже не был занят никакими философскими, метафизическими или мистическими упражнениями. У него не было никаких предчувствий. И вдруг это произошло, совершилось внезапно – это проникновение странного и в то же время непостижимо близкого Присутствия, мгновенное ощущение глубокого и полного слияния.
Это было на закате. Летние каникулы только что начались, и он отправился в далекую прогулку к острову Блэй. Возвращаясь, он шел узкой полоской песчаного пляжа, чуть повыше последней черты прилива, а когда песок сменился галькой и камнями, он поднялся на маленькую тропинку, вьющуюся среди жесткой травы и кустарника вдоль низкой гряды скал. И тут он обратил внимание на великолепный закат. Он повернулся лицом к западу, чтобы посмотреть на него. Постоял так несколько секунд, а затем сел, чтобы полюбоваться закатом.
Детали, из которых складывалось это зрелище, были обычны и просты. Остров Блэй лежал, низкий и черный, на ясном бледном закатном небе; он вырисовывался так явственно, с такими мельчайшими подробностями, что можно было с какой-то волшебной отчетливостью различить ветви длинной купы деревьев за шесть миль, покатые крыши домов и маленький шпиль церковной башни в Дентоне на Блэе. Над этим длинным, низким, отчетливым силуэтом острова, под очень ясным, очень высоким и спокойным куполом неба простерлась на горизонте тяжелая гряда пушистых серо-голубых облаков, сквозь которые солнце, пылая, прокладывало себе путь к горизонту. Вдруг веер лучей, прорвавшихся сквозь облака, затопил бледное небо сиянием, и все очертания острова затрепетали. Над этим пожаром, разгорающимся на горизонте, клочки и обрывки сверкающего перистого пуха, словно флотилия маленьких уплывающих корабликов, послушных какому-то световому сигналу, плыли друг за другом, постепенно уменьшаясь, и исчезали в пустом зените. Теплый синий купол неба казался необъятным. Он становился все глубже и синей и, спускаясь над самой головой Теодора, уходил к низким холмам за его спиной.
Теодор видел много солнечных закатов, но этот был необыкновенно хорош. Он любил смотреть на закаты. Но в сегодняшнем была какая-то особенная, необозримая простота. Медленно солнце прожигало себе путь сквозь гряду облаков, разрывало ее, превращало ее в кровь и пурпур, заливало разорванные края слепящим золотом и пронизывало синеву веером расходящихся полос света и тени.
И, в то время как он следил за этими превращениями, случилось чудо.
По-прежнему был закат. Но внезапно он преобразился.
Скалы внизу, поросшие редкой травой, пылающие лужицы и ручейки, широкий сверкающий морской рукав, в котором отражалось небо, – все преобразилось. Вся вселенная преобразилась – словно она улыбалась, словно она раскрывалась навстречу ему, словно она допускала его к полному общению с собой. Ландшафт перестал быть ландшафтом, он стал Бытием. Он словно ожил: он оставался недвижным, но полным жизни, громадным живым существом, приявшим его в свое лоно. Теодор был в самом центре сферы этого Бытия. Он слился с ним воедино.
Время исчезло. Он ощущал тишину, в которой исчезают все звуки; он постигал красоту за пределами познания.
Вселенная представала перед ним ясная, как кристалл, и вместе с тем преисполненная значительности и великолепия. Все было совершенно прозрачно, и все было чудом. Чудо было в самой сокровенной глубине его существа и всюду вокруг него. Солнечный закат, и небо, и весь видимый мир, и Теодор, и сознание – все слилось воедино.
Если время как-то и двигалось, оно двигалось незаметно до тех пор, пока Теодор не заметил, что мысль его бежит, как тоненький ручеек на неуловимой грани небес. Он сознавал совершенно отчетливо – это мир, с которого сдернута завеса причин и зависимостей, безвременный мир, в котором все по-другому, все прекрасно и справедливо. Это было Настоящее.
Солнце садилось, врезаясь в контуры острова, смягчалось в своей округлости, словно расплавленное, – сплющилось внизу, превратилось в огненную кромку и исчезло. Небо пылало багрянцем, потом стало бледнеть.
Что-то удалялось от Теодора, отступало от него быстро-быстро; будь он в силах, он удержал бы это «что-то» навеки. Чудесное мгновение уходило, оно уже ушло, и он снова очутился в обычном, будничном мире. Его вывел из оцепенения резкий крик морской чайки и протяжный шорох легкого ветра в сухой траве. Он очнулся, увидел, что сидит в послезакатных сумерках, и очень медленно поднялся на ноги. Он глубоко вздохнул. Он был точно в каком-то оцепенении, словно на него нашел столбняк. Он начал припоминать, кто он и где он.
Там вдали виднелся Блэйпорт, и его огни пронизывали сгущающуюся синеву. Там он жил.
Он повернулся лицом к дому.
Он чувствовал, что сделал какое-то очень важное открытие. Он был посвящен в тайну. Он знал это.
Но знал ли он? И что он, в сущности, знал?
У него для этого не было слов.
Вечером, за ужином, он показался Клоринде необыкновенно рассеянным, и она обратила внимание на восторженное выражение его лица. Он даже забыл спрятать свои переживания от Клоринды.
Когда он ложился спать, это чудо было еще с ним, совсем близко, рядом.
Но наутро оно было уже не так близко.
Сияние его оставалось живым пламенем в его душе в течение нескольких дней, но все убывающим пламенем, затем обратилось в воспоминание. Оно обратилось в воспоминание, яркость которого тоже потускнела. Он знал, что это было глубокое и чудесное откровение, но ему все труднее и труднее было вспомнить, что, собственно, ему открылось.
Его охватила непреодолимая жажда воскресить это воспоминание во всей яркости того подлинного мгновения. Три раза на заходе солнца он приходил на то же самое место, чтобы еще раз, если можно, обрести это чудо, это откровение, еще раз заглянуть в лоно небес. В этих своих поисках он стремился снова слиться с Богом. Но чем больше он пытался воскресить, восстановить для себя это ощущение, тем оно становилось неуловимее. Каждый раз был великолепный закат. Три раза он видел, как пламенел, разгораясь, сверкающий морской рукав и вспыхивали облака в небе. Но это было все. Это были просто облака, и солнце, и знакомая бухта. То неповторимое чудо не возвращалось.
Было ли что-нибудь на самом деле?
И если да, так что же это было? Заглянул ли он в самый корень Бытия, стало ли земное небесным на этот короткий миг, или, может быть, это была просто галлюцинация, а не озарение? В конце концов в памяти его осталось только то, что однажды на закате вселенная в течение нескольких коротких мгновений была непостижимо чудесной и близкой и что душа его вышла и соединилась с ней.









































