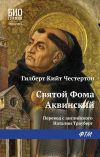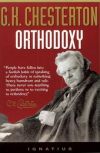Читать книгу "Фома. Франциск. Ортодоксия"

Автор книги: Гилберт Честертон
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава VI
Предварение томизма
То, что томизм – философия здравого смысла, само по себе понятно и здраво. И все же надо кое-что объяснить – слишком уж мы отвыкли изучать философию, руководствуясь здравым смыслом. Со времен Реформации Европа (особенно Англия) стала родиной парадокса. Самый привычный пример – похвальба англичан, что они практичны, ибо не ведают логики. Древнему греку или современному китайцу это покажется таким же странным, как если бы мы сказали, что клерк хорошо считает, ибо не знает арифметики. Мы же ничуть не дивимся, для нас это – общее место. Люди не просто становятся на голову – это бы еще ничего, все-таки гимнастика; они живут, стоя на голове, и едят, и спят, хотя весь смысл парадокса в том, чтобы будить нас. Возьмем хороший парадокс – например, изречение Оливера Уэнделла Холмса[87]87
Холмс Оливер Уэнделл (1809–1894) – английский писатель. Автор серии «легких бесед» под общим названием «Разговоры за завтраком».
[Закрыть]: «Дайте нам лишнее, и мы обойдемся без необходимого». Это забавно и потому останавливает внимание. Тут есть вызов, есть и своя романтическая правда. Правда, мне кажется, не так уж безопасно основывать на этом изречении социальную систему, как основали конституцию на том, что бессмыслице всегда легко сойти за здравый смысл. Однако мы вняли доброму совету – наша промышленная система исправно снабжает нас новыми сортами мыла, чтобы мы обошлись без хлеба.
Это все известно; но не все замечают, что так обстоит дело не только в практической политике, но и в абстрактной философии. С тех пор как в XVI веке начался нынешний мир, ни одна философская система не соответствовала общему чувству реальности – тому, что здравые люди, если их не трогать, назвали бы здравым смыслом. Каждая начинает с парадокса: каждая требует, чтобы для начала отказались от того, что кажется здравым. Это единственная общая черта Гоббса и Гегеля, Канта и Бергсона, Беркли и Джеймса. Мы должны принять на веру что-нибудь такое, во что не поверил бы ни один нормальный человек: что закон выше права, или что право не зависит от разума, или что все существует лишь в сознании, или что все относительно по отношению к реальности, которой, впрочем, нет. Философ обещает, что, если мы уступим ему в одном, все остальное пойдет само собой. Он обещает выправить мир, если мы разрешим свихнуть нам разум.
Конечно, сейчас я говорю это все по-дурацки или, как сказали бы наши родичи-демократы, примитивно. Я говорю как рядовой человек; но единственная цель этой главы – показать, что томизм гораздо ближе к образу мыслей рядового человека, чем все другие системы. В отличие от отца д’Арси[88]88
Отец д’Арси – на рубеже XIX–XX вв. было несколько ирландских священников, носивших это имя и писавших теологические трактаты, в том числе – два аббата, епископ. Кого из них имел в виду Честертон, установить не удалось.
[Закрыть], чья прекрасная книга очень помогла мне, я не философ и не знаю техники ремесла. Однако я надеюсь, что отец д’Арси простит меня, если я позаимствую пример из его книги. Как ученый-философ, он научился ладить с философами. Как ученый-священник, он умеет не только терпеть дураков, но и терпеть умников, а это труднее. Он прочитал много сложных книг и может сохранить терпение, когда умный становится глупым. Поэтому он спокойно, даже кротко пишет такие фразы: «Метод святого Фомы можно в определенной мере сопоставить с методом Гегеля. Однако есть и существенное различие. Для святого Фомы противоположности не едины; кроме того, хотя действительность постижима, нечто должно сперва быть, дабы мы его постигли».
Простим рядового человека, если он прибавит, что существенное различие в том, что Фома здоров, а Гегель – безумен. Но отец д’Арси ничуть не удивляется Гегелю, да и кто удивится, если читал современных философов так милостиво и пытливо, как он. Об этом я и думал, когда писал, что нынешние системы начинают с какой-нибудь дикости.
А философия святого Фомы начинает с простого и очевидного, скажем, с того, что яйцо – это яйцо. Гегельянец скажет, что яйцо – это курица, ибо оно лишь часть бесконечного становления. Берклианец скажет, что яйцо – это сон, видение. Прагматист скажет, что, завидев яичницу, лучше забыть, что она была яйцом. Но ученик святого Фомы не обязан ломать себе голову, смотреть под особым углом или закрывать один глаз, чтобы как-нибудь упростить яйцо. В дневном свете общего людям разума он верит, что яйцо – не курица, не сон и не практическое допущение, а вещь, узаконенная властью чувств, которые от Бога.
Даже те, кто постиг и оценил философские глубины томизма, удивляются, что святой Фома вообще не спрашивает, можем ли мы доказать реальность нашего восприятия реальности, хотя теперь это считают главным вопросом философии. Он признает сразу, изначально то, о чем современные скептики только-только начинают догадываться. Он знает, что, если человек не ответит на этот вопрос утвердительно, он не ответит ни на один вопрос, и не задаст ни одного вопроса, и вообще не сможет думать. Конечно, всякий вправе быть скептиком, но тогда уж нельзя быть никем другим – скажем, убежденным защитником скепсиса. Если вы считаете, что работа вашего разума бессмысленна, то признайте, что и плоды ее бессмысленны и вы сами, как мыслитель, смысла лишились. Скептики, как ни странно, выживают, потому что они, в сущности, не такие уж скептики. Они отрицают все на свете, а потом принимают на веру что-нибудь одно – так, для пользы дела. Недавно один ученый писал, что признает только солипсизм[89]89
Солипсизм – философское учение, считающее, что достоверно существование только самого мыслящего субъекта, а все остальное может быть только плодом деятельности его сознания.
[Закрыть] и удивляется, почему у него так мало сторонников. Как же ему не пришло в голову, что, если его философия верна, никаких сторонников вообще быть не может?
На вопрос: «Есть ли что-нибудь?» – святой Фома сразу отвечает: «Да». Если бы он ответил «нет», дальше было бы не о чем говорить. Именно это некоторые из нас называют здравым смыслом. Или вообще нет ни философии, ни философов, ни людей, ни мысли – ничего; или есть прочный мост между сознанием и реальностью. Однако дальше святой Фома требует меньше, чем другие, много меньше, чем рационалисты или материалисты: с него достаточно, что мы признаем бытие, которое вне нас.
Конечно, я совсем не считаю, что все, написанное святым Фомой, просто и понятно. Многого я сам не понимаю; многое ставит в тупик людей, куда более ученых, чем я; о многом спорят и не могут договориться крупнейшие томисты. Святого Фому трудно читать и трудно понять. Но его совсем не трудно принять, если его поймешь, как будто детская песенка записана иероглифами. Я подчеркиваю одно: Аквинат почти всегда подтверждает обычные трюизмы обычного человека. Например, одно из самых темных мест у него, по-моему, то, где он показывает, как убеждается разум в реальности вещей, а не только впечатлений от них. Но суть этого места – уверенность в этой реальности – ничуть не противоречит здравому смыслу, и рассуждает он, чтобы оправдать здравый взгляд. А у других философов вывод по меньшей мере так же сложен, как и ход доказательства.
Обычного человека и великого схоласта, стремящихся к одному и тому же, разделяет, как на беду, высокая стена. Так уж получилось, стену сложили давно, причины этой беды уже не касаются нормального нынешнего человека и не связаны с величайшей его потребностью – потребностью в нормальной философии. Понять святого Фому мешает форма (не в средневековом, а в нашем смысле слова). Первое препятствие – язык; второе, более коварное – логический метод. Даже в переводе язык святого Фомы – иностранный для нас. Как во всяком переводе, тут не отделаешься подстановкой слов, это не путеводитель. Каждое слово влечет за собой цепь ассоциаций. Например, вся система Фомы зиждется на могучем, но простом понятии, которое охватывает в буквальном смысле слова все, что есть, и все, что может быть. Он обозначает это словом «ens»; и всякий, кто хоть немного знает латынь, обрадуется, как радуемся мы точному слову в хорошей французской прозе.
Как ни жаль, перевести его толком нельзя. Когда переводчик напишет «бытие», возникнет совсем другая атмосфера. Да, она не должна влиять на разум – но она влияет. Она напомнит об ученом из наших романов, который, помахивая рукой, говорит: «Так поднимемся к вершинам чистого светоносного бытия» – или (что хуже) ученого из жизни, который говорит: «Бытие – это становление, эволюция небытия по закону его бытия». Как бы то ни было, слово это звучит и глупо, и глухо, словно его употребляют лишь глупые, глухие люди.
Есть нелепый рассказ, высмеивающий таких схоластов, как Аквинат. Если ему верить, они спорили о том, сколько ангелов поместится на острие иглы. Слово «ens» коротко и остро, как это острие[90]90
Слово «ens» (бытие) в латыни созвучно слову «ensis» – меч, еще и поэтому оно «остро».
[Закрыть]. Никакое «бытие» или «сущее» не могут его передать, ибо они связаны для нас с туманными, расплывчатыми понятиями, к которым мы так привыкли и от которых так устали, с терминологией нудных и напыщенных писаний, где больше слов, чем философии. Риторика очень хороша на своем месте – это скажет вам любой средневековый схоласт, изучавший ее вместе с логикой. Но у святого Фомы ее совсем мало. У Августина много блестящих мест, у Аквината их нет. Иногда он становился поэтом, но очень редко становился оратором. Он был так далек от «новых течений», что, становясь поэтом, писал стихи. Его философия вдохновляла поэтов, например Данте; ведь поэзия без философии пуста. У него самого есть образ, поистине поэтический и поистине философский – древо жизни, клонящееся в смирении под бременем плодов. Данте мог бы написать так, чтобы ошеломить нас сиянием полумрака и опьянить благоуханием плода. Но обычно слова у Фомы коротки, даже если длинны книги. Иногда его трудно понять, потому что он говорит о сложных вещах, которые под силу только равноценному уму. Но он никогда не затемняет своих рассуждений ненужными словами, которые ему не совсем ясны, или даже (что простительней) словами, которые ему подсказало только вдохновение. Возможно, он единственный поборник разума из всех сынов человеческих.
Тут перед нами встает другая сложность – сложность логического метода. Я никогда не понимал, почему силлогизмы считаются смешными и старомодными, и совсем уж не могу понять, почему говорят, что индукция как-то сменила дедукцию. Дедукция только на то и нужна, чтобы из правильных посылок вывести правильное заключение. Сейчас собрали много посылок, и в естественных науках не всегда легко установить их правильность; это мы и зовем индукцией. Вероятно, из массы данных о микробах или астероидах современный ученый выведет больше, чем выводил ученый средневековый из очень малого количества данных о единорогах и саламандрах. Но дедукция – та же самая, а то, что мы громко зовем индукцией, – значит просто, что мы собираем больше данных. И Аристотель, и Аквинат, и любой человек в здравом уме призна́ет, без сомнения, что вывод истинен, только если истинны посылки; и, конечно, чем больше истинных посылок, тем лучше. К несчастью средневековой культуры, тогда не хватало правильных данных, очень уж трудно было путешествовать и ставить опыты. Но какими бы совершенными ни стали путешествия и опыты, они дают нам только данные, а ведь нужны и выводы. Теперь считают, что индукция каким-то чудом ведет прямо к заключению, без всех этих старомодных силлогизмов. На самом деле она ведет только к дедукции. Если неверны посылки, неверен вывод. Так, великие ученые прошлого века, в почтении к которым я воспитан (это называлось «…признавая достижения науки…»), выглянули из своих нор, исследовали воздух, и землю, и воду – несомненно, куда тщательней, чем Аристотель или Аквинат, – влезли обратно и облекли свой вывод в форму такого силлогизма: «Материя состоит из неделимых крупинок. Мое тело – материально. Следовательно, мое тело состоит из неделимых крупинок». Они рассуждали правильно, другого способа нет. В этом мире есть только силлогизм и ошибка. Но, конечно, они знали, как и люди Средневековья, что их вывод правилен только в том случае, если правильны посылки. Тут-то и крылась беда. Те же ученые – вернее, их дети и племянники – снова вылезли и посмотрели и, к удивлению своему, увидели, что материя не так уж крупинчата. Они вернулись и сделали вывод: «Материя состоит из вращающихся частичек. Мое тело материально. Следовательно, мое тело состоит из вращающихся частичек». Это тоже неплохой силлогизм, хотя они могут смотреть еще и еще, а мы так и не будем знать, что правильно. Без верного силлогизма не обойтись, все прочее – силлогизм неверный, вроде столь модного в наше время: «Материя состоит из протонов и электронов. Что-то мне кажется, что мое сознание очень похоже на материю. Скажу-ка я, что оно состоит из протонов и электронов». Это – не индукция, это – очень плохая дедукция. Это не новый вид мышления, а конец всякой мысли.
У старых поборников силлогизма плохо было другое – они растягивали ход рассуждения, а это нужно не всегда. Можно перескакивать через ступеньки, но ступеньки должны быть непременно, иначе сломаешь шею, словно ты прыгнул с сорокового этажа. Индукцию незачем противопоставлять дедукции. Просто когда собрали много данных, центр тяжести переместился. Но данные ведут к выводам или никуда не ведут. Ученому надо сказать так много об электронах или микробах, что он очень долго говорит только о них и уделяет очень мало места последнему силлогизму. Но если он рассуждал верно, то, как бы быстро он ни рассуждал, он шел путем силлогизма.
Аквинат не всегда спорит с помощью ясных силлогизмов, но всегда идет этим путем. Он далеко не всегда предлагает все посылки – это легенда, одна из безответственных легенд Возрождения о нелепых и нудных схоластах. Да, он ведет доказательство строго, без околичностей, и может показаться скучным ценителям наших откровений или нашего острословия. Но все это никак не связано с вопросами, поставленными в начале главы, с тем, ради чего он ведет доказательство. Повторяю: он ведет его ради здравого смысла. Он защищает здравый смысл, отстаивает мудрость поговорки, но часто оперирует абстракциями, которые ничуть не абстрактней «энергии», или «эволюции», или «пространственно-временного континуума». В отличие от современных абстракций, они не приводят нас к безнадежным противоречиям. Прагматик настаивает на практичности, но рассуждения его представляют чисто теоретический интерес. Томист начинает с теории, и теория его оказывается на редкость практичной. Вот почему так много народу возвращается к ней.
Наконец, не так уж легко понять чужой язык, особенно латынь. Наша философская терминология не совсем похожа на обычную речь, а cредневековая терминология совсем не похожа на современную. Можно заучить основные термины, но в Cредние века они часто значили прямо противоположное. Самый явный пример – слово «формальный». Теперь мы говорим: «Я послал ему формально извинение» или «вступление в клуб – чистейшая формальность». Святой Фома понял бы это не так, как мы: он решил бы, что вступление в клуб исключительно, бесконечно существенно, связано с самой глубокой сущностью клуба, а извинение было просто душераздирающим. Ведь на языке томизма «формальный» – значит «обладающий качеством, которое делает вещь ею самой». Когда он говорит, что все на свете состоит из формы и материи, он, не без оснований, считает материю более загадочной, неопределенной, безвидной, а вот печать неповторимости – это форма. Материя, так сказать, текучая, однородная часть мироздания; и современные физики начинают с этим соглашаться. Форма же делает из безвидной глины кирпич – кирпичом, статую – статуей. Камень, разбивший статую, сам мог быть раньше статуей, а при химическом анализе статуя окажется камнем. Но анализ этот – химический, не философский. Каждый художник знает, что форма – не внешняя сторона, а суть его творений. Каждый скульптор знает, что форма статуи – не вне статуи, а внутри, нет, внутри скульптора. Каждый поэт знает, что форма сонета и есть сонет. А если критик не понимает, что это значит, он не вправе беседовать со схоластом.
Глава VII
Вечная философия
Как жаль, что слово «антропология» связано лишь с изучением антропоидов! Оно безнадежно ассоциируется со спорами доисторических ученых о том, окажется ли какой-нибудь камешек зубом обезьяны или человека (иногда спор кончается тем, что это – зуб свиньи). Несомненно, должна быть чисто естественная наука о таких вещах; но самый термин лучше бы применять к изучению других проблем, не только более важных и глубоких, но и тесно связанных с человеком. Новые американские гуманисты заметили, что старые гуманитарии занимаются не самим homo[91]91
Человек (лат.).
[Закрыть], а условиями его жизни, экономикой, средой и т. п.; точно так же антропологи копаются в предметах, не столь уж тесно связанных с антропосом. Они рыщут по истории и доистории в поисках не столько Человека Разумного, сколько неразумной обезьяны. Homo sapiens может быть познан лишь в связи с sapientia[92]92
Мудрость, разумность (лат.).
[Закрыть], и только книги, подобные книгам святого Фомы, действительно ей преданы. Короче говоря, должна существовать антропология, изучающая человека, как изучает Бога теология. В этом смысле святой Фома (быть может, прежде всего) великий антрополог.
Прошу прощения у всех превосходных ученых, изучающих человека в его связи с биологией. Однако, мне кажется, они первые согласятся, что в науке массовой есть перекос, ибо она сводит изучение человека к изучению дикаря. Дикость – не история. Она – или начало истории, или конец. Подозреваю, что самые крупные ученые согласятся со мной – да, многие ученые заблудились в джунглях и, стремясь изучить антропологию, не пошли дальше антропофагии[93]93
Антропофагия – людоедство (Честертон в шутку составляет из двух греческих корней «ученое слово»).
[Закрыть].
Я намеренно начал с извинений перед истинными учеными, которых могли бы (но не должны) коснуться мои нападки на дешевую, массовую науку. Дело в том, что антрополог Аквинат очень похож на лучших нынешних антропологов – на тех, кто именует себя агностиками. Это настолько важно, что об этом нельзя забывать и непременно надо поведать.
Святой Фома очень похож на великого Томаса Гексли[94]94
Святой Фома очень похож на великого Томаса Гексли… – Гексли Томас Генри (1825–1895) – английский биолог и философ-агностик. Агностицизм отрицает возможность исчерпывающего познания объективной реальности. Шутка Честертона основана на том, что имя Фома в английском языке звучит как Томас.
[Закрыть] – агностика, выдумавшего само слово «агностицизм», и очень не похож на тех, кто жил после него, но до гекслианской эры. Он почти буквально предвосхищает метод агностиков. Он тоже предлагает идти за разумом, куда тот поведет, только у него разум ведет в иные края. Он выдвигает на удивление современный, даже материалистический принцип: «Все, что есть в сознании, было в чувствах». Мистик начал бы с другого, он начинает отсюда как современный ученый, да что там – как современный материалист, которого и ученым не назовешь. Платоник, во всяком случае – неоплатоник, сказал бы, что сознание освещено изнутри. Святой Фома упорно твердит, что свет проникает туда через пять окон, которые мы зовем чувствами. Но он хочет, чтобы свет, приходящий снаружи, освещал то, что внутри. Он хочет изучать человека, а не только траву, на которую тот смотрит, – она для него лишь начало, исходная точка опыта. Поднимаясь от нее, он карабкается по лестнице, ведущей в дом человека, – ступенька за ступенькой, факт за фактом – пока не выходит на высокую башню, с которой открывается бескрайний простор.
Другими словами, он антрополог, он создал учение о человеке, верное или неверное. Современные антропологи человека изучить не смогли. Они не смогли создать учения о нем, как не смогли создать учения о природе. Для начала они взяли нечто и назвали «непознаваемым». Это было бы еще ничего, если бы под непознаваемым они подразумевали самое тайное и высокое. Но вскоре выяснилось, что непознаваемо как раз то, о чем человек узнать может. Необходимо узнать, отвечает ли он за свои поступки; совершенен ли он, способен ли хотя бы к совершенству; смертен или бессмертен, скован или свободен; и все это – не для того, чтобы познать Бога, а для того, чтобы познать себя, человека. Если та или иная теория покрывает все это туманом запредельных сомнений – значит, это не антропология, да и не теология. Свободна ли воля человека, или нам только кажется, что мы можем выбрать? Есть ли у человека совесть, может ли он доверять ей, или это только пережиток племенных предрассудков? Может ли разум решать такие проблемы, и вправе ли мы ему довериться? Надо ли видеть в смерти конец, и вправе ли мы уповать на чудесную помощь? Я не верю и верить не хочу, что все это непроницаемо для нас, как разница между херувимом и серафимом[95]95
Серафим и херувим – ступени небесной иерархии. Серафим (древнеевр.) означает «пылающий». Фома Аквинский истолковывал это имя как «небесная любовь», а херувима – как «совершенное знание».
[Закрыть], или нисхождение Святого Духа. Быть может, схоласты зря занимались серафимами, и человеку не дано их понять. Но, спрашивая, волен ли человек выбрать, или смертен ли он, они задавали самые обычные вопросы, вроде «Царапается ли кошка?» или «Есть ли нюх у собаки?». Можно сказать, что у них нет научных доказательств; но наши антропологи не предлагают нам и гипотез. Обычно они предлагают нам только ненаучные противоречия. Почти все моралисты учат теперь, что человек не волен выбрать, но почему-то должен мыслить и действовать как истинный подвижник. Гексли сделал нравственность сверхъестественной в прямом смысле слова, он создал богословие без Бога.
Я не знаю толком, почему святого Фому называли Doctor angelicus[96]96
Ангельский доктор (лат.).
[Закрыть]: потому ли, что он был кроток, как ангел, или потому, что он был очень умен, или потому, наконец, что позже решили, будто он много занимался ангелами, особенно теми, что толпились на острие иглы. История любит ярлыки, словно человек всю жизнь занимается чем-то одним. Кто назвал доктора Джонсона «наш великий лексикограф», словно он только и составлял словари? Почему так упорно сужают разум Паскаля, что он сжимается в острие иглы, вонзающейся в иезуитов? Быть может, кто-то хотел сузить и вселенский разум святого Фомы, как обычно сужают, снижают, умаляют великих ученых и писателей. У него были враги, хотя он обращался с ними по-дружески. К несчастью, хороший характер иногда раздражает больше, чем плохой. Да и вообще, он досаждал многим и, что занятно, самым разным людям. Он был мятежником для последователей Августина, консерватором для последователей Аверроэса. Одни думали, что он вот-вот разрушит древнюю красу Града Божия, несколько похожего на государство Платона[97]97
Древняя краса Града Божия, несколько похожего на государство Платона – «О Граде Божия» (De civitate Dei) – известное произведение Августина, в котором он противопоставляет реально существующее государство («Град земной») и «небесное», «незримое» сообщество избранных к спасению праведников, связанных друг с другом невидимой связью («Град Божий»). С платоновской утопией, рисующей идеальный, но осуществимый в принципе социум, скорее, сопоставим «Град земной», поскольку Августин полностью отвергал возможность построения справедливого государства на земле.
[Закрыть]. Другим казалось, что он бьет по прогрессивным силам ислама, словно Готфрид, штурмующий Иерусалим. А может, пришпиливая этот ярлык, враги имели в виду просто его маленький, весьма почтенный труд об ангелах – так Дарвина могли бы назвать исследователем кораллов. Это все догадки, можно выдвинуть и другие. Важно не это; важно, что святой Фома и вправду занимался природой ангелов по той же самой причине, по какой он занимался природой человека. Его чрезвычайно занимали подчиненные, полузависимые создания, разные ступени свободы. Святой Фома интересовался и ангелами, и людьми потому, что они – существа промежуточные. Конечно, я не берусь определить, что же это такое – быть ниже Бога и выше человека. Но именно звенья цепи, ступеньки лестницы занимали святого Фому, когда он развивал свое учение об иерархии. Именно это привлекло его к тайне человека. Человек – не воздушный шар, возносящийся к небу, и не крот, роющий землю, а скорее дерево, чьи корни питаются из земли, вершина стремится к звездам.
Я уже говорил, что современное свободомыслие окутало туманом все, в том числе самое себя. Свобода мысли прежде всего сокрушила свободу воли, хотя и здесь последовательности не было. Детерминисты учили жить так, словно воля свободна, зная, что она несвободна; учили двойной жизни, как некогда Сигер Брабантский. XIX век все привел в беспорядок; для нас, живущих в XX, томизм важен тем, что он может вернуть нам упорядоченный мир. Сейчас я пытаюсь, очень упрощенно и кратко, рассказать, как святой Фома, начиная, подобно агностикам, с темных погребов мироздания, взобрался на высочайшие башни.
Не надеясь втиснуть в такие рамки главную мысль томизма, я все же разрешу себе о ней рассказать. Мне кажется, сознательно или нет, я знал об этом с детства. Когда ребенок смотрит из окна и видит, скажем, траву, – что он знает, если знает хоть что-то? На свете много детских забав безрадостной философии. Блистательный викторианец рад сообщить, что ребенок видит не траву, а зеленоватый суп, отраженный в неверном зеркале глаза. Это рассуждение рационалистов всегда огорчало меня почти безумной своей иррациональностью. Если ученый не верит в траву за окном, почему он верит в сетчатку под микроскопом? Если зрение так обманчиво, почему бы ему не обмануть нас и тут? Адепты другой школы скажут нам, что трава – просто впечатление, отпечаток, а мы ни в чем не можем быть уверены, кроме сознания. По-ихнему мы только его и сознаем, но ребенок, как ни прискорбно, только его и не сознает. Лучше сказать, что есть одна трава, а ребенка нет, чем сказать, что нету травы, есть лишь сознающий ребенок. А святой Фома, вмешавшись в детскую ссору, твердо говорит нам, что ребенок воспринимает ens. Много раньше, чем ребенок узнал, что трава – это трава или сам он – это он сам, он знает: что-то – это что-то. Каждому из нас хочется крикнуть (ударив кулаком по столу): «Вот есть что-то, и все!» Только в это и просит поверить для начала святой Фома. Мало кто из атеистов требует от нас так мало. И начиная отсюда сложным путем доказательств, еще никем не опровергнутых, он создает христианское мироздание.
Так, он настаивает на той очень мудрой и очень жизненной мысли, что вместе с утверждением возникает отрицание. И ребенку ясно, что они противоречат друг другу. Как бы вы ни назвали то, что он видит, – травой, туманом, ощущением, впечатлением, – он знает: если он это видит, нельзя сказать, что он этого не видит. Как бы вы ни назвали его действие – смотрит ли он, грезит, ощущает или что иное, – он знает: если он это делает, нельзя сказать, что он этого не делает. Так к простому факту бытия прибавляется еще что-то, и словно тень следует за ним первая заповедь разума: ничто не может быть и не быть. В переводе на обычный язык это значит, что есть ложь и правда. Я сказал «на обычный», ибо Фома Аквинат с особенной тонкостью рассуждает о том, что ens – не точно то же самое, что правда. Словом «правда» или «истина» оценивает ens способный к оценке разум. Но, грубо говоря, в бой вступило то разделение, то распутье, которому мы обязаны всеми боями на земле, – перед нами извечные врата, Да и Нет. Чтобы убежать с поля боя, скептики напустили туману, утверждая, что они совместимы. Интересно, что тогда выходит: «На» или гнусавое «Дет»?
Следующий шаг в утверждении реальности (или как это назвать попроще?) почти и не опишешь на обычном, простом языке, хотя именно здесь все системы сбиваются с пути, и дальше, делая третий шаг, начисто забывают первый. Святой Фома Аквинат считает реальным первое ощущение реального. Но когда мы сталкиваемся с фактами, мы замечаем в них что-то странное – то, что повергло в сомнение многих ученых: все непрестанно меняется, беспрерывно движется или куда-то пропадает. Тут-то многие мудрецы и теряют реальность, которую было признали, и отступают, приговаривая, что нет ничего, кроме изменения, или кроме движения, или вообще ничего. Аквинат не сомневался в том, что есть, даже если оно кажется нам не столько сущим, сколько становящимся – ведь то, что мы видим, еще неполно. Лед тает, становясь водой, вода обращается в пар – нельзя быть сразу водой, и льдом, и паром. Но это не значит, что воды нет или что она относительна, – просто она может быть только чем-то одним в данное мгновение. А полнота ее бытия – все, чем она может быть, и без полноты этой не объяснишь меньших, низших ее видов.
Этот грубый набросок – скорее исторический, чем философский. В него не втиснешь доказательств такой высокой и сложной мысли. Но для истории эта ступень необычайно важна. Обнаружив изменчивость вещей, почти все мыслители забывают об их реальности и верят только в изменчивость. Они не могут даже сказать, что одно превращается в другое, для них нет мгновения, когда вещь равна самой себе. Наверное, тогда логичней сказать, что ничто превращается в ничто. Святой Фома утверждает, что любая вещь в любой момент есть нечто, но не все, чем она может быть. Всем она становится лишь в своей полноте. Другие приходят к пустоте изменения, он – к полноте неизменной вещи. Другие описывают путь к небытию, он описывает неизменность, включающую все изменения. Вещи изменяются, ибо они неполны, но реальности их – часть целого, и целое это – в Боге.
Именно тут, на этом крутом повороте, спотыкались один за другим мыслители и мудрецы. Только великий схоласт пошел прямо по широкой дороге опыта, чтобы увидеть и построить свой город. Разум прежде всего признает вещь как таковую. Но он же и говорит нам, что она неполна, не окончательна, а потому может решить, что нет ничего окончательного и полного. Каждый философ на свой лад видел в вещи что-то менее плотное, чем она сама, – волну, или видение, или выдумку. Если мы используем тот же приблизительный образ, святой Фома видел в вещи нечто более плотное, чем вещь, более прочное, чем очевидность, с которой он начал. Сотни учений, от номинализма до нирваны, от бесформенного развития до бездумного равнодушия, начинаются там, где порвалась эта цепь. То, что мы видим, не удовлетворяет нас и не объясняет себя, – значит, оно меньше того, что мы видим. В таком безумном мире задохнешься, но томизм вырвался на волю. То, что мы видим, неполно, ибо это еще не все. Бог реальнее человека, Он реальней материи, потому что и Он, и все силы Его – непрестанно и вечно в действии.
Недавно нам довелось видеть космическую комедию, в которой участвовали Бернард Шоу и настоятель собора Святого Павла. Вольнодумцы вечно твердили, что им не нужен Творец, потому что Вселенная была всегда и всегда будет. Шоу сказал, что он стал атеистом потому, что Вселенная сама себя воспроизводит с самого начала или, точнее, безначально. Декана Инджа возмутила сама мысль, что у Вселенной может быть конец. Большинство современных христиан, живущих традицией там, где христиане средневековые жили логикой и разумом, смутно ощущали, что нехорошо лишать их Страшного суда. Почти все наши агностики (они очень любят, чтобы их пугались) кричали в один голос, что самопроизводящаяся, самодовлеющая, истинно научная Вселенная не нуждается ни в каких началах и концах. Как вдруг настоящий ученый, который занимался только фактами, громко заявил, что Вселенная ограничена во времени. Он не слушал, конечно, любительских разговоров – он изучал структуру материи и пришел к выводу, что конец у Вселенной будет и, наверное, было начало. Все очень обиделись – и правоверные, и неправоверные, они еще обидчивей. Декан Индж много лет учил правоверных, что их суровый долг – принимать все достижения науки, и просто взвыл от такого бестактного открытия, умоляя открыть что-нибудь другое. Трудно поверить, но он и впрямь спрашивал, чем же будет тешиться Бог, если кончится Вселенная. Вот как нужен современному сознанию Фома Аквинат. Но и без Аквината я не могу представить себе образованного человека (не говоря уже о таком ученом), который, веря в Бога, не призна́ет, что Бог содержит в себе всяческое совершенство, включая вечную радость, и как-нибудь обойдется без циркового представления, именуемого Солнечной системой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!