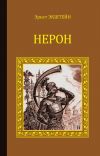Текст книги "Актея – наложница императора"
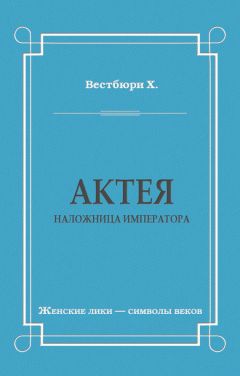
Автор книги: Хью Вестбюри
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Так ты думаешь… – воскликнули все в один голос, и толпа расхохоталась.
– Нет, – сказал наконец поваренок, – я не верю этому, она так добра.
– Ха-ха! – засмеялась старуха. – А откуда ты знаешь, что она добра?
– Я думаю, что она слишком горда для этого, – сказал старый раб, подметавший сени. – Она горда, как Минерва, и холодна, как Диана[8]8
Минерва – в римской мифологии покровительница ремесел и искусств. Диана – богиня луны.
[Закрыть]. – Конечно, – повернулся он к старухе, – я не говорю, что ты лжешь, но уверен, что она ничего не знает об этих вещах. Гордость заставляет ее носить свое странное платье и…
– Гордость? – подхватила Хлоя с насмешливой гримасой.
– Ну да, гордость, а то что же? – отвечал старик. – Тщеславие, глупый! – возразила девушка. – Она ведь не весталка, которые обязаны носить свою одежду. Почему же она так одевается? Просто потому, что это больше бросается в глаза – молодые люди оглядываются на нее и говорят: какая красавица!
– Сомневаюсь, – сказал старик.
А поваренок воскликнул, обращаясь к девушке:
– Ревнивица!
Вместо ответа он получил довольно увесистую затрещину.
– Ты тоже, – сказала она полусмеясь, полусердито, – заглядываешься на ее черные глаза и пунцовые губы; только, милый мой, она слишком горда, чтобы связаться с поваренком, а главное – место уже занято! Вообще она самая покладистая девушка в Риме, но теперь на нее ничем не угодишь. Начнет причесываться, никак не может убрать волосы; наденет платье, потом другое, не знает, что ей лучше идет – жемчуг или рубины. Тоже, думает, красиво: жемчуг на темной коже! Мы знаем, что это значит, недаром же к ней повадился какой-то молодчик-центурион, гуляют по ночам в саду, болтают в беседке до утра. Я ничего худого не говорю…
– Молчать! – крикнул привратник, дрожа от гнева. – Он прислушивался к болтовне рабов, но почти ничего не слышал и еще меньше понимал и только благодаря громкому голосу девушки разобрал, в чем дело. – Собаки! Свиньи! – кричал он старческим, разбитым голосом. – И вы смеете осквернять мерзкими устами имя царевны из дома Давидова! Я вас! – И, подняв дрожащей рукой тяжелый засов, он замахнулся.
Не столько испугавшись, сколько развеселившись от этого внезапного взрыва, рабы бросились в стороны, но вдруг в неподдельном ужасе рассыпались по углам: между ними величественно прошла Юдифь. Она не удостоила взглядом никого, даже привратника, который поклонился почти до земли.
Сидя в беседке, она слышала злословие рабов. Но их болтовня не имела в ее глазах никакого значения. Их отзывы, дурные или хорошие, затрагивали ее не больше, чем лай собаки на улице. Правда, когда рабыня упомянула о встречах в саду, она слегка вспыхнула – не от стыда, потому что ей было безразлично, как объяснит девушка ее отношение к Титу, но эти слова пробудили воспоминания, и кровь на мгновение прилила к лицу. Она встала, оправила свое голубое платье, спустилась в атриум, прошла среди испуганных рабов и пошла вниз по улице. Он шла быстрыми шагами, не замечая окружающей суеты. Когда она проходила по узким улицам Субуры, день был уже в полном разгаре. В лавках шла оживленная торговля. В низенькой таверне толпились посетители. Хозяин, подозрительного вида малый, черпал какую-то горячую жидкость из котла, стоявшего над огнем, и разливал ее посетителям, которые с очевидным удовольствием потягивали напиток. Над прилавком висела вывеска с грубо намалеванным петухом. Напротив таверны какая-то женщина расположилась с тележкой, наполненной овощами, и пронзительным голосом нахваливала свежесть и дешевизну своего товара. Немного далее хлебопек молол муку на маленькой ручной мельнице, и его кирпичная печка разливала теплоту на улице. Далее валяльщик с босыми ногами выжимал грязное платье в чану с мыльной водой; один из его помощников чистил одежду, обшитую пурпуром, другой зажигал серу под тогой, повешенной на станке, устроенном в виде улья; женщина, сидевшая в сторонке, чинила разорванное платье. В следующей лавке цирюльник с подвязанной в виде фартука туникой стриг одного из посетителей. Другие сидели на прилавке и скамьях, смеясь и болтая о вчерашних скандалах. Несколько человек с важными лицами виднелись в книжной лавке, просматривая тома и перелистывая пергаменты. Далее попадались плотники, кожевники, мясники, сапожники, ювелиры. Но Юдифь проходила мимо, не замечая никого.
Прохожие останавливались, оглядываясь на красивую девушку, которая шла как бы в забытьи, что-то шепча. На минуту она остановилась у жалкой, полуразвалившейся таверны. Она помнила, что здесь ее спас Тит, здесь упал пьяный язычник, здесь ее окружила толпа, здесь протянулась для защиты сильная рука.
Наконец она вышла к храму Согласия; перед ней расстилался оживленный Форум, налево возвышался вал Мамертинской тюрьмы, где они стояли с Титом, ожидая выхода императора. Закутав лицо покрывалом, она прислонилась к стене, присматриваясь к лицам сенаторов – недостойных потомков славных людей, поднимавшихся по ступенькам сената.
Полчаса прошло в томительном ожидании. Она продолжала стоять неподвижно, вглядываясь в лицо каждого сановника в окаймленной пурпуром тоге. Наконец она заметила высокую фигуру Сенеки, рядом с ним шел какой-то другой сенатор. Когда они переходили через площадку перед сенатом, здоровенный негр, спешивший с каким-то поручением, сбил с ног зазевавшегося мальчишку, который с криком покатился к ногам Сенеки. Правитель властителя мира поднял его, сказал ему несколько ласковых слов и дал какую-то монету. Его спутник смотрел на эту сцену с презрительным удивлением.
Но у Юдифи сердце дрогнуло от радости; она подбежала к великому философу и государственному человеку и, бросившись перед ним на колени, прижала к губам его тогу.
VI
Сенека был римлянин и, подобно всем римлянам, относился с презрительным равнодушием к обычаям и нравам других рас. Правда, он удивлялся независимому характеру германцев и признавал литературные и философские способности греков. Но при всем свободомыслии он, как и все его соотечественники, думал, что родиться римлянином значило получить право презирать все остальное человечество.
К евреям римляне питали особенное презрение. Ненависть между этими народами возникла еще в ту эпоху, когда пунические корабли опустошали латинские берега: соотечественники Сенеки считали евреев близкими родственниками финикийцев, сохранившими всю их низость, но не разделявшими славу Тира и Карфагена[9]9
Тир – богатый приморский город, один из могущественнейших в Финикии. Карфаген – важнейший порт западного Средиземноморья, главный соперник Рима. Войны между Карфагеном и Римом, так называемые пунические, от прозвания жителей Карфагена, пунийцев, привели к падению города.
[Закрыть].
Сенека был предубежден против евреев. Стремясь расширить свое образование, он прочел между прочим и некоторые из их философских и исторических книг.
Многие выдающиеся римляне того времени, стремясь заменить какой-нибудь новой системой детскую мифологию древней веры, относились к еврейской религии с некоторым одобрением. Но Сенеке не нравилась положительная и оптимистическая основа еврейской философии. Она шла вразрез с его понятиями о разумном и истинном. А между тем с проницательностью литературного и философского гения он замечал инстинктивное стремление римлян именно к такой философии. Его эклектический стоицизм, казалось ему, гораздо больше подходил к потребностям человечества, и он с досадой думал, что истерические, распущенные азиаты могут совратить римлян с пути здравой философии.
Сенеке очень не нравился еврейский ритуал, тем более что его сведения о нем были неполны и неточны. Их главные обряды казались ему достойными только грязных азиатов. Да и сами евреи казались ему грязными телом, с дикой моралью, с нелепой философией.
Юдифь, разумеется, не знала ничего этого, когда преклонила перед ним колени и поцеловала его платье.
Сенека как истый римлянин ненавидел низкопоклонство и, вырвав у нее тогу, спросил суровым тоном:
– Кто ты и зачем становишься на колени передо мною?
– Я дочь Иакова, еврея, живущего среди язычников, – отвечала она, – я умоляю тебя о сострадании.
– Еврейка! – воскликнул Сенека и, впадая в обычную в Риме насмешливость, прибавил: – Зачем может понадобиться мое сострадание такой очаровательной девушке?
Юдифь вскочила на ноги и гордо взглянула на него.
– Я слыхала, – воскликнула она, – что среди римских варваров есть один мудрый и добрый человек! Но меня обманули!
Сенека, улыбнувшись от сконфуженности, возразил:
– Не многие из представительниц твоего пола рассердились бы, если б кто-нибудь назвал их очаровательными. И, – прибавил он ласково, – может быть, еще меньше найдется таких, к которым бы это слово так подходило. Впрочем, я жалею, что пошутил. Скажи же, зачем ты требуешь моего сострадания или, лучше сказать, моей помощи, потому что без помощи нет истинного сострадания.
Манеры Сенеки подкупали. Он не напускал рассеянного вида, как многие философы. На каждого, кто с ним говорил, он производил такое впечатление, как будто предмет разговора возбуждал в нем величайший интерес.
При этом его глаза были так ясны, улыбка так приятна, голос так музыкален, что даже Нерон не мог противостоять его влиянию.
Он выслушал с серьезным вниманием рассказ девушки.
Когда она кончила, он спросил, слегка улыбаясь:
– И этот центурион…
– Мой друг, – отвечала Юдифь, взглянув прямо в глаза Сенеке.
Он слегка покраснел: еврейская девушка пристыдила философа.
– Бедное дитя! – сказал он. – Но я не знаю, что делать.
В нем была странная смесь решительности и нерешительности.
Когда опасность была явна – например, когда Нерон находился в припадке свирепости, он действовал с удивительной быстротой и энергией. Но при отсутствии такого стимула Сенека часто обнаруживал слабость и нерешительность.
Юдифь бросила на него умоляющий взгляд.
– Тит сам говорил мне, – сказала она, – что ты правитель мира. Неужели правитель мира не может спасти жизнь простого воина?
Сенека поспешно ответил:
– Я не правитель мира, и тот, кто желает мне добра, не должен называть меня так даже наедине с самим собой, когда двери заперты и те, кто мог бы подслушать, погружены в сон. Я рад был бы помочь тебе. Возмутительно, что в этом городе, который по справедливости гордится своим порядком и законами, пьяные гуляки могут оскорблять и убивать людей. И все-таки я не знаю, что делать! Может быть, его уже ведут на казнь.
Юдифь вскрикнула и схватила руку сенатора:
– Поспеши же к Цезарю и требуй правосудия. Все говорят, что Рим управляется рукой Нерона и головой Сенеки. Неужели ты заклеймишь себя участием в преступлении! Все говорят, что ты справедлив… Как может справедливость соединяться с трусостью!
Упрек подействовал.
– Ты права, девушка, – сказал он решительным, резким тоном, – ты права. Жизнь какого-то воина не важная вещь, и девическая любовь не должна влиять на государственного человека. Но справедливость и порядок слишком важны; нарушение их не должно остаться без протеста и, если возможно, исправления. Не знаю, удастся ли мне спасти его, но, во всяком случае, попытаюсь.
Он повернулся и пошел вниз по Форуму в сопровождении девушки. Немногие из его современников решились бы доставлять такую пищу сплетням. Он сам пострадал от них в юности; молва связала его имя с именем одной из представительниц императорской фамилии, и Тиберий отправил его в ссылку. Теперь, когда он был стар, римские остряки уверяли, что в число его обязанностей входит не только воспитание и руководство Нерона, но и утешение овдовевшей Агриппины. Он был очень чувствительный человек для римлянина, но громадная власть, которой он пользовался, естественное достоинство, а главное – философия помогали ему равнодушно относиться к злобному жужжанию окружающих.
На Форуме им встретилась группа сенаторов. Сенека не мог не заметить их иронических взглядов, когда они раскланялись с ним. Он отвечал с обычной вежливостью и потом, как бы подчеркивая свою любезность, обратился к Юдифи и заговорил с ней. Его главной слабостью было стремление позировать: он часто поднимал голову выше, чем обыкновенно, тогда как более скромный человек благоразумно держал бы ее на обычном уровне.
Сенека и Юдифь перешли Форум, повернули и поднялись на Палатин. Перед ними возвышался великолепный дворец Цезаря.
Они вошли в обширное помещение, украшенное рядами статуй членов семьи Юлия и Клавдия. Широкая мраморная лестница вела в атриум, куда Сенека и его спутница прошли мимо группы стражников у подножия лестницы и толпы нубийских рабов, стоявших у фонтана в центре атриума и следивших за теми, кто входил во дворец. Стражники приветствовали Сенеку, а рабы поклонились ему почти до земли.
Несмотря на мучительное отчаяние, наполнявшее ее душу, Юдифь не могла не обратить внимание на окружавшее ее почти варварское великолепие. В доме ее отца было немало золота и драгоценных камней: но сюда, как ей показалось и как было на самом деле, стеклись все богатства мира. Массивная золотая статуя самого Нерона возвышалась на пьедестале из блестящей белой яшмы; ладони его рук были обращены наружу, и гордая фигура, казалось, говорила входящим в атриум так ясно, как только может говорить скульптура: «Все это мое!» Алебастровые колонны поддерживали потолок, разукрашенный золотом и слоновой костью, а коринфские капители, отделенные от колонн полосою черного дерева, были из золота. На каждой стороне табулинума было квадратное пространство, на котором не блистали золото или драгоценные каменья, но рука великого мастера изобразила вакхические танцы. От колонн потолок поднимался в виде изящного свода, окрашенного в небесно-голубой цвет краской, купленной за огромные деньги в Александрии; на нем в виде звезд были разбросаны рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды.
Родина Юдифи была на Востоке, где небо ярче, кожа желтее и страсти сильнее, чем в Риме; и украшение дворца возбудило в ней волнение такое же, как волнение грека при виде божественной чистоты контуров и линий.
Они вошли в коридор, примыкавший к атриуму, и, пройдя несколько пустых комнат, вышли на широкую террасу, возвышавшуюся над садом и искусственным озером. Здесь, на ложе, помещенном так, чтобы легкий ветерок доносил до него благоухание сада, лежала Актея. Она защищала лицо от солнца опахалом из павлиньих переев, и ее смеющийся голос раздавался на террасе, когда Сенека и Юдифь подошли к ней.
Она разговаривала с какой-то женщиной, сидевшей на резном кресле из черного дерева. Лицо Сенеки просветлело, когда он увидел собеседницу Актеи, которую назвал, здороваясь с ней, Паулиной.
Паулина была хорошо известна заправилам римского мира как начальница весталок, корпорации, пользовавшейся большим влиянием на государственные дела и сохранившей много старинных привилегий. Ей было под сорок лет, но ее величавая красота принадлежала к тому типу, который достигает расцвета только в зрелых летах. Девочкой она, вероятно, была неуклюжа; но теперь это была пышная, величественная женщина. Голова ее со светлыми золотистыми волосами, заплетенными в косы, широким низким лбом, серыми глазами, прямыми бровями, полными губами и резким круглым подбородком гордо сидела на полных плечах; она была высокого роста с крупными, но не тучными формами.
С раннего возраста, когда она была посвящена служению при храме, она освоилась с государственными делами; ее образование, высокий сан и естественные дарования придавали ей важный, почти надменный вид.
– О Сенека! – воскликнула Актея, глаза которой блестели детским злорадством. – Слышал ли ты о ночных похождениях Цезаря? Говорят, будто какой-то центурион отколотил его за то, что он поцеловал его возлюбленную. Это плата за мой синяк.
– Где Цезарь? – спросил Сенека с беспокойством.
– Храпит на куче подушек среди пустых кубков и чаш, – отвечала девушка.
– Пора разбудить его! – сказал Сенека.
– Зачем? – возразила она. – Во сне он по крайней мере никому не делает вреда. Да и кто возьмется разбудить его? Не я и не ты; мы знаем, каков он бывает с похмелья.
– У меня есть дело до него, – сказала Паулина, – но, разумеется, будет благоразумнее не будить его.
Актея с любопытством смотрела на Юдифь.
– Кто это, Сенека? – спросила она и прибавила, обращаясь к Юдифи: – Поди сюда!
Юдифь откинула покрывало и подошла к ложу. Она воспитывалась в правилах еврейской морали, совершенно непохожей на римскую. Она знала, какую роль играет Актея в доме Нерона, и губы еврейки искривились презрением, когда она взглянула на этого греческого мотылька. Сенека и Паулина не поняли бы ее презрения, если бы даже она высказала его. В глазах государственного человека и весталки Актея была хорошенькой девушкой, очень полезной вследствие своего влияния на Нерона и их влияния на нее. Что касается самой Актеи, то она не заботилась о вопросах отвлеченной морали и знала только, что она – любимица императора, когда он был трезв, и баловень римского общества. Но Юдифь невольно отшатнулась, когда расшитое золотом легкое покрывало Актеи, подхваченное ветром, коснулось ее.
– Зачем Сенека привел тебя? – спросила Актея, слегка нахмурившись и всматриваясь в нее, как только женщина может всматриваться в другую женщину.
Юдифь коротко рассказала свою историю холодным и сухим тоном. Для нее было пыткой произносить имя Тита перед этой женщиной.
Выслушав рассказ, Актея воскликнула:
– Так ты девушка, которую поцеловал Цезарь!
– Он не целовал меня, – гордо возразила Юдифь.
– Ну, хотел поцеловать. Знаешь, я готова простить ему это, потому что ты почти так же хороша, как я. Да, – прибавила она, приподнимаясь на локте и вглядываясь в лицо Юдифи, – я думаю, что ты совершенно так же хороша. Мне очень жаль тебя и твоего милого.
Надежда долго поддерживала мужество Юдифи, но теперь уступила место внезапному порыву отчаяния. Она судорожно заломила руки, слезы хлынули из ее глаз, и она обратилась с немой, но красноречивой мольбой к Сенеке.
Своенравие ребенка соединялось в Актее с чувствительностью ребенка. Она вскочила со своего ложа, обвила руками Юдифь и сказала:
– Бедняжка! Это ужасно! Это ужасно! У меня тоже был милый в Самосе. – Печальная нотка прозвучала в ее голосе. – Полно, не плачь, – продолжала она. – Цезарь не всегда в дурном расположении духа. Разбудим его, Сенека? Нужно спасти ее возлюбленного.
– Он вовсе не мой возлюбленный, – прошептала Юдифь.
– Нет? – сказала Актея. – Почему же ты плачешь и ломаешь руки? Если он так глуп, что не любит тебя, то я не стану хлопотать за него.
– О, любит, любит! – вскричала Юдифь.
– Он любит тебя, и он не твой любовник. И ты плачешь о нем и просишь спасти его. Я не понимаю этого, но все-таки я думаю, что мы должны разбудить Цезаря.
Она дала знак Сенеке следовать за нею и пошла по террасе, когда Паулина, холодно слушавшая разговор девушек, подозвала Сенеку.
Он подошел к креслу, и она сказала ему так тихо, чтобы только он мог слышать ее:
– Неужели Сенека будет подвергать опасности надежды всех честных римлян ради хорошенького личика?
Он отвечал с упреком:
– Неужели Паулина думает… – И остановился в затруднении.
Его серые глаза продолжали пристально смотреть на нее, и она возразила:
– Паулина думает, что Сенека слишком мягкосердечен для государственного человека. Вспомни, – продолжала она, – что Нерон ищет предлога лишить тебя власти и даже жизни и на тебе сосредоточены надежды всего, что есть лучшего в Риме.
– Я помню об этом, – сказал он, – но было бы в высшей степени несправедливо допустить казнь этого человека.
– Где он? – спросила она задумчиво.
– В Мамертинской тюрьме, – отвечал Сенека.
Она бросила на него многозначительный взгляд и громко сказала:
– Будить Цезаря скорее вредно, чем полезно. – И оставила террасу.
– Пусть Цезарь спит, – сказал Сенека Актее. Затем, обратившись к плачущей Юдифи, прибавил: – Ступай домой, девушка, может быть, еще есть надежда…
VII
Паулина шла своей мерной походкой по Палатину; впереди нее ликтор расчищал дорогу, так как начальники, государственные люди, знатные и плебеи – все должны были уступать путь весталкам. Девушки, поддерживавшие священное пламя, давно уже оставили свое затворничество; их орден накопил с течением времени огромные богатства, и его члены мало-помалу заняли выдающееся положение в общественной жизни Рима. Их древние права, личная неприкосновенность и, может быть, добросовестность, с которой почти все они соблюдали свой обет, усиливали влияние, доставляемое богатством.
Под управлением Паулины, честолюбие которой было ненасытно и хитрость равнялась разве только упорству, коллегия весталок сделалась настоящим центром политической интриги. Это учреждение было одним из древнейших и достойнейших в городе. В эпоху, когда римский сенат превратился в раболепное орудие императоров, а императоры, в свою очередь, в игрушку отпущенников, рабов и женщин, искра старого римского духа еще тлела на алтаре Весты[10]10
Веста – римская богиня домашнего очага и очага римской общины. Круглый храм Весты стоял на Форуме. Внутри храма находился алтарь Весты, в котором весталки поддерживали вечный огонь.
[Закрыть].
Жажда власти и страсть повелевать были главными чертами характера Паулины. Ей было приятно сознавать, что знатнейшие люди Рима должны уступать ей дорогу; она радостно всходила на священные ступени вслед за верховным жрецом для ежемесячной жертвы, зная, что вокруг нее сосредоточились все лучшие традиции римской жизни и что под ее охраной находилось все, что уцелело от крушения римской веры.
Около тридцати лет прошло с тех пор, как Паулина, на шестом году жизни, была посвящена служению Весты. Через несколько месяцев ее служение должно было кончиться, ее обеты считались исполненными, и ей предстояло или вернуться в мир, или остаться служить в том храме, над которым она владычествовала.
Смутные мечты, долго носившиеся в ее воображении, принимали теперь почти определенную форму.
Ее дорога с каждым днем становилась шире; она лелеяла гордую мысль, что почтение народа к ее сану будет перенесено на нее самое, когда она навсегда расстанется с белой одеждой весталки.
Когда она спускалась с Палатина, ей вспомнились смущение Сенеки, его покорность, и улыбка скользнула по ее надменным чертам.
Паулина дошла до рощи, окружавшей круглый храм Весты, где она жила с остальными жрецами. Она прошла в ворота и, пройдя через рощу, вошла в храм с заднего хода. Минуту спустя она вышла из храма в сопровождении ликтора через передние двери и стала спускаться по ступенькам лестницы, ведшей к Форуму.
Весталка направилась к Капитолию. Толпа праздношатающихся и торговцев почтительно расступилась перед нею: они признавали и уважали римскую доблесть суровой девы. Еще не все моральные и гражданские добродетели сделались предметом насмешки народа.
Но избалованное население Рима в большинстве состояло из неисправимых бездельников.
Слава, а еще более благосостояние столицы мира опьяняли их. Благосклонное государство кормило лентяев, и десятки тысяч здоровых людей без зазрения совести жили ежедневной раздачей бедным.
Тысячи бездельничали на службе у богатых патронов. Развращенные возбуждающими зрелищами в амфитеатре, в цирке, они, как дети, гонялись за самыми пустыми развлечениями. Собака, забежавшая на Форум, или неистовство пьяного раба могли прервать все дела и собрать огромную толпу, веселую и буйную, как школьники, вырвавшиеся из школы.
Когда Паулина выходила на Форум, шумное возбуждение царило в толпе, собравшейся перед Мамертинской тюрьмой. Хриплый смех, насмешливые восклицания, аплодисменты, шутки сыпались со всех сторон. Мясники в балаганах на нижнем конце площади вытягивали шеи и расспрашивали прохожих о причине шума. Некоторые бросили свои лавки и бежали к тюрьме, вокруг которой собиралось все больше и больше народа.
– Пойдем, отец! – кричал какой-то мальчик, мчась во весь дух к старику, прислонившемуся к ростре, который вместе с очень немногими оставался спокойным среди общей суматохи. – Пойдем, сейчас поведут центуриона, который надавал пинков Цезарю; его распнут на Яникулуме. Пойдем скорей, там такая толпа, какой я никогда не видывал.
– Центурион надавал пинков Цезарю! – сказал старик, лениво шагая по Форуму. – Это, конечно, выдумка; с какой стати он станет колотить славнейшего, божественного Цезаря? – Усмешка тронула губы старика.
– Говорят, – отвечал мальчик, нетерпеливо дергая отца, – будто Цезарь поцеловал его любовницу и был бы убит, если б не рабы.
– Мне бы хотелось взглянуть на этого воина, я не думал, что еще остался такой римлянин. Распять прирожденного римского гражданина! – воскликнул старик. – Да это должно было бы камни побудить к восстанию!.. Во времена Мария один сенатор, заметь, сенатор из партии Суллы[11]11
Марий (156–86 до н. э.) – римский полководец и политик. В гражданской войне возглавлял одну из партий. После поражения бежал в Африку, в 87 г. до н. э. сумел захватить Рим и жестоко расправился со своими противниками, поддерживавшими Суллу. Сулла (138–78 до н. э.) – римский консул, полководец, начал гражданскую войну, двинув войска на Рим. Победив Мария, в 82 г. до н. э. провозгласил себя диктатором, проводил жестокие массовые репрессии, но вскоре сам отказался от власти.
[Закрыть], сказал грубость твоей прабабке. Твой прадед пожаловался старому Марию, и сенатор был убит на улице, а его земли, имущество, рабы отданы народу. Но теперь нет более римлян; Рим превратился в псарню.
– Да ну тебя, с твоим старым Марием! – закричал мальчик. – Пойдем скорей, или мы все прозеваем!
* * *
Когда к Титу вернулось сознание, он увидел, что лежит на каменной скамье в темном и незнакомом месте с тяжелым, сырым воздухом. Он хотел встать, но обе руки оказались прикованными к чьим-то чужим рукам. Он стал собираться с мыслями. Мало-помалу он вспомнил происшествие в доме Иакова и, чувствуя сильную боль в голове, догадался, что кто-то нанес ему удар сзади. Он подумал, что воры – он ни на минуту не сомневался, что это были воры, – унесли его в свой притон. Но когда наступило утро и слабый свет проник в темницу, он убедился, что люди, к которым он был прикован, стражники. Он вскочил, заставив их тоже подняться.
– Что это значит? – крикнул он с негодованием. – Где я и почему на мне эти цепи?
Держать в цепях молодого офицера преторианской гвардии доставляло злобное удовольствие стражникам. Но дисциплина была в них так сильна, что повелительный голос центуриона тотчас укротил их.
– В Мамертинской тюрьме, по повелению Цезаря, господин, – отвечали они.
– В Мамертинской тюрьме, по повелению Цезаря? – повторил ошеломленный центурион. – За что?
Один из стражников засмеялся, но Тит схватил его за руку и сдавил ее так сильно, что тот вскрикнул от боли.
– Отвечай, собака! – крикнул центурион. – За какое преступление я сижу здесь?
– Твоя милость сбросила божественную особу Цезаря с лестницы, – отвечали оба стражника и расхохотались.
– Нерона? – вскричал Тит вне себя от изумления.
– Да, господин! – отвечали они. – Цезаря и славнейшего Тигеллина.
Тит упал на скамью, и стражники отнеслись с уважением к его горю. Может быть, они догадались, что он сокрушается не о себе. Нерон видел Юдифь, хотел похитить ее. Центуриону вспомнилось ее пророчество: «Один путь исчезает во мраке, другой ведет к подножию трона».
Наконец римский стоицизм одержал верх.
– На Яникулуме? – спросил он спокойно.
– Да, господин, – отвечали они.
– Когда?
– В полдень.
После этого он сидел молча и неподвижно до тех пор, пока солнце поднялось высоко и лучи его заглянули в узкое окно в потолке тюрьмы. Вошел офицер с отрядом охраны, и минуту спустя Тит, по-прежнему прикованный к своим тюремщикам, вышел на Форум.
Легкое чувство стыда невольно зашевелилось в нем, когда он увидел шумную чернь, толпившуюся на Форуме и на ступеньках храма Согласия, оттесняя сенаторов, которые под предлогом надзора тоже тешили свое праздное любопытство.
Он был воином и всегда считал себя выше неорганизованной, беспорядочной массы. И вот он выведен на потеху толпы. Сама по себе смерть его не пугала. Тысячи римлян прошли на Яникулум до него, рано или поздно надо было умереть; а когда и как, не все ли равно. Но умереть на забаву для толпы было мучительно. Кто-то в толпе крикнул: «Ко львам! Ко львам!» Да, он служил бы таким же точно развлечением для народа в амфитеатре, как и на Яникулуме. Если бы Цезарь прислал ему кинжал, его рука не дрогнула и он умер бы совершенно спокойно. Было тяжело умирать среди насмешек толпы, гудевшей вокруг него.
Их путь лежал через священную дорогу. Здесь толпа сгустилась до такой степени, что проход для осужденного и стражи становился все более и более затруднительным. Офицер, командовавший отрядом, был коротенький, толстый; из толпы слышались насмешки.
По команде начальника стража направила вперед щиты и, выстроившись клином, оттеснила толпу. Солдаты колотили всех встречных рукоятками своих коротких копий.
После минутной остановки шествие двинулось дальше, и Тит вышел на священную дорогу, когда толпа, находившаяся впереди, раздалась по обе стороны, стражники остановились и расступились, и Тит увидел перед собой величавую фигуру весталки Паулины. Толпа снова обступила их, но в ней воцарилось гробовое молчание. Порыв удивления и надежды потряс все существо приговоренного к смерти, и он бросил на весталку взгляд, полный жаркой мольбы.
Но он не встретил ответа в холодных глазах весталки.
– Кто ваш начальник? – спросила она у стражников.
– Я начальник, – отвечал толстый воин, подходя к ней. – Я веду этого человека на казнь. Зачем ты задерживаешь нас?
Весталка выпрямилась и отвечала громким голосом, далеко разносившимся в толпе:
– Я, Паулина, девственная жрица Весты, милую и освобождаю этого человека, приговоренного к смерти.
– Помилование! Помилование! – раздалось в толпе, и ветреная чернь, за минуту перед тем жаждавшая увидеть, как обезглавят или, как надеялись некоторые, распнут этого человека, теперь громко выражала свою радость по поводу вмешательства весталки.
Весталки с самых древних времен пользовались правом прощать преступника, случайно встреченного по пути на казнь; но этот обычай, как и многие другие, вышел из употребления, и его забыли. Паулина, видевшая в старых привилегиях некоторый противовес возрастающей власти цезарей, возобновила его и пользовалась им при всяком удобном случае; в настоящую минуту ей доставляло особенное удовольствие помешать мести Нерона.
Толстый офицер стоял разинув рот от изумления и не зная, что делать.
Паулина резко повторила свое приказание:
– Сними с него цепи!
– Но что же я скажу Цезарю? – возразил он.
– Если ты будешь медлить, тебе придется говорить с Плутоном![12]12
Плутон – в греческой мифологии бог подземного мира.
[Закрыть] – гневно отвечала она.
Смущенный солдат видел, что она права. Толпа уже заволновалась. При всем упадке национальной веры и обрядов весталки еще сохранили власть над народом. Циничное остроумие, не щадившее самого верховного жреца, не осмеливалось направлять свои стрелы против охранительниц священного огня; и деспотическая власть императоров не могла бы защитить того, кто решился оскорбить весталку.
Послышались гневные крики:
– Долой его! Он не слушается весталки! Убьем безбожника!
Маленький отряд сомкнул щиты наподобие ограды, и даже в эту решительную минуту Тит не мог не восхищаться их непоколебимым мужеством и дисциплиной. Впрочем, вся их храбрость не привела бы ни к чему, если б Паулина, подняв руки кверху, не остановила толпы.
– Снимите с него цепи! – повторила она.
Толстый офицер, видя, что ничего больше не остается делать, повиновался и освободил руки и ноги пленника.
Воины сомкнулись вокруг своего начальника, повернулись и пошли обратно к Мамертинской тюрьме. Вдогонку им посыпались насмешки толпы, умолкнувшие не раньше, чем последний стражник скрылся за тюремным валом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?