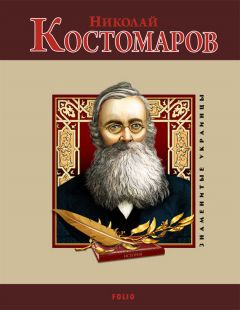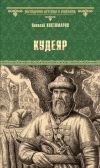Читать книгу "Николай Костомаров"
ЮНОСТЬ: ГОДЫ ВЗРОСЛЕНИЯ
Многое изменилось с тех пор в судьбе Николая. Его мать не жила уже в прежнем дворе, а поселилась в другом, находившемся в той же слободе. Николая отдали учиться в Воронежский пансион, который содержали тамошние учителя гимназии Федоров и попов. Пансион находился в то время в доме княгини Касаткиной, стоявшем на высокой горе, на берегу реки Воронеж, прямо против корабельной верфи Петра Великого, его цейхгауза и развалин его домика. Пансион пробыл в этом помещении целый год, а потом в связи с передачей дома в военное ведомство для школы кантонистов был переведен в другую часть города недалеко от Девичьего монастыря, в дом Бородина. Пансион не отличался добросовестными преподавателями, учили они, что называется, «чему-нибудь и как-нибудь». Хотя из нового помещения не было такого прекрасного вида, как из предыдущего, но зато при этом доме находился огромный тенистый сад с фантастической беседкой. При посещении беседки молодое воображение учеников пансиона рисовало себе разные чудовищные образы, почерпнутые из страшных романов, которые были тогда в большой моде и читались с большим наслаждением тайком от менторов, мало заботившихся о полезном чтении своих учеников. Пансион, в который на этот раз был помещен Николай Костомаров, был одним из таких заведений. Здесь более всего стремились внешне показать что-то необыкновенное, превосходное, а в сущности мало дающее для надлежащего воспитания. Несмотря на свой тринадцатилетний возраст и шаловливый характер, Николай понимал, что в этом пансионе он не сможет получить знания, необходимые ему для поступления в университет. Уже в эти годы юный подросток думал об университете как о самом важном для того, чтобы стать образованным человеком. Большая часть обучавшихся в этом пансионе принадлежали к семьям помещиков, в которых господствовало мнение, что русскому дворянину не только незачем, но даже унизительно заниматься наукой и слушать университетские лекции. Дворянину приличней нести краткую военную службу с целью получения какого-нибудь чина, а после зарыться в свою деревенскую трущобу к своим холопам и собакам. Вот поэтому в пансионе не изучали предметы, необходимые для поступления в университет. «Само преподавание не было систематическим; не было даже разделения на классы; один ученик учил то, другой иное; учителя приходили только спрашивать уроки и задавать их вновь по книгам. Верхом воспитания и образования считалось лепетать по-французски и танцевать. В последнем искусстве и здесь, как некогда в Москве, – вспоминал Н. И. Костомаров, – я был признан чистым идиотом; кроме моей физической неповоротливости и недостатка грации в движениях, я не мог удержать в памяти ни одной фигуры контрданса, постоянно сбивался сам, сбивал других, чем смешил товарищей и учителей пансиона, которые никак не могли понять, как это я могу вмещать в памяти множество географических и исторических имен и не в состоянии заучить такой обыкновенной вещи, как фигуры контрданса. Я пробыл в этом пансионе два с половиною года и к счастью для себя был из него изгнан за знакомство с винным погребом, куда вместе с другими товарищами я пробирался иногда по ночам за вином и ягодными водицами. Меня высекли и отвезли в деревню к матери, а матушка еще раз высекла и долго сердилась на меня».
Не лучше положение дел обстояло и в Воронежской гимназии, куда мать определила сына в 1831 году, несмотря на отсутствие у него серьезной подготовки по некоторым предметам. «Впрочем, принимая меня в гимназию, – откровенно сообщает Костомаров, – мне сделали большое снисхождение: я очень был слаб в математике, а в древних языках совсем несведущ». Николая приняли в третий класс, приравнивавшийся по тогдашнему устройству к нынешнему шестому, потому что тогда в гимназии было всего четыре класса, а в первый класс гимназии поступали после трех классов уездного училища.
Николай Иванович впоследствии сделал портретные наброски своих гимназических учителей.
Так, учителем латинского языка был Андрей Иванович Белинский. «То был добрый старик, родом галичанин, живший в России уже более тридцати лет, но говоривший с сильным малорусским пошибом и отличавшийся настолько же добросовестностью и трудолюбием, насколько и бездарностью. Воспитанный по старой бурсацкой методе, он не в состоянии был ни объяснить надлежащим образом правил языка, ни тем более внушить любовь к преподаваемому предмету. Зная его честность и добродушие, нельзя помянуть его недобрым словом, хотя, с другой стороны, нельзя не пожелать, чтобы подобных учителей не было у нас более». Вспоминая прежние бурсацкие обычаи, Андрей Иванович серьезно изъявлял сожаление, что теперь не позволяют ученикам давать субитки,[1]1
Обычай сечь подряд всех учеников по субботам.
[Закрыть] как бывало на его родине у дьячков, принимавших на себя долг воспитателей юношества.
Учитель математики Федоров, бывший хозяином пансиона, «был ленив до невыразимости и, пришедши в класс, читал, занесши ноги на стол, какой-нибудь роман про себя либо ходил взад-вперед по классу, наблюдая только, чтобы в это время все молчали; за нарушение же тишины без церемонии бил виновных по щекам. И в собственном его пансионе нельзя было от него научиться ничему по математике. Трудно вообразить в наше время существование подобного учителя, хотя это был человек, умевший отлично пускать пыль в глаза и тем устраивать себе карьеру. Впоследствии, уже в сороковых годах, он был директором училищ в Курске и, принимая в гимназии посещение одного значительного лица, сообразил, что это значительное лицо неблагосклонно смотрит на многоучение, и когда это значительное лицо, обозревая богатую библиотеку, пожертвованную гимназии Демидовым, спросило его, как он думает, уместно ли в гимназии держать такую библиотеку, Федоров отвечал: „Нахожу это излишнею роскошью“. Этот ответ много пособил ему в дальнейшей его карьере.
Учитель русской словесности Николай Михайлович Севастьянов был тип ханжи, довольно редкий на Руси, как известно, мало отличающейся склонностью к девотизму; он сочинял акафисты св. Митрофану, постоянно посещал архиереев, архимандритов и, пришедши в класс, более поучал своих питомцев благочестию, чем русскому языку. Кроме того, в своих познаниях о русской словесности это был человек до крайности отсталый: он не мог слушать без омерзения имени Пушкина, тогда еще бывшего, так сказать, идолом молодежи; идеалы Николая Михайловича обращались к Ломоносову, Хераскову, Державину и даже к киевским писателям XVII века. Он преподавал по риторике Кошанского и задавал по ней писать рассуждения и впечатления, в которых изображались явления природы – восход солнца, гроза, – риторически восхвалялись добродетели, изливалось негодование к порокам. А всегда плотно выбритый, с постною миною, с заплаканными глазами, со вздыхающею грудью являлся он в класс в синем длинном сюртуке, заставлял учеников читать ряд молитв, толковал о чудесах, чудотворных иконах, архиереях, потом спрашивал урок, наблюдая, чтобы ему отвечали слово в слово, а признавая кого-нибудь незнающим, заставлял класть поклоны.
Учитель естественной истории Сухомлинов, брат бывшего харьковского профессора химии, был человек неглупый, но мало подготовленный и мало расположенный к науке; впрочем, так как он был умнее других, то несмотря на его недостатки как учителя в полном смысле этого слова, он все-таки мог передать своим питомцам какие-нибудь полезные признаки знания.
Учитель всеобщей истории Цветаев преподавал по плохой истории Шрекка, не передавал ученикам никаких собственноустных рассказов, не освещал излагаемых в книге фактов какими бы то ни было объяснениями и взглядами, не познакомил учеников даже в первоначальном виде с критикою истории и, как видно, сам не любил своего предмета: всегда почти сонный и вялый, этот учитель способен был расположить своих питомцев к лени и полному безучастию к научным предметам.
Греческий язык преподавал священник Яков покровский, бывший вместе и законоучителем. Он отличался только резкими филиппиками против пансионского воспитания, вообще оказывал нерасположение к светским училищам, восхвалял семинарии и поставил себе за правило выговаривать так, как пишется, требуя того же и от учеников, чем возбуждал только смех. Это был человек до крайности грубый и заносчивый, а впоследствии, овдовевши, был судим и лишен священнического сана за нецеломудренное поведение.
Учитель французского языка Журден, бывший некогда капитан наполеоновской армии и оставшийся в России в плену, не отличался ничем особенным, был вообще ленив и апатичен, ничего не объяснял и только задавал уроки по грамматике Ломонда, отмечая в ней ногтем места, следуемые к выучке. Только когда припоминались ему по какому-нибудь случаю подвиги Наполеона и его великой армии, обычная апатичность оставляла его и он невольно показывал неизбежные свойства своей национальности, делался живым и произносил какую-нибудь хвастливую похвалу любимому герою и французскому оружию. Хотел бы вспомнить случай, происшедший у меня с ним еще в пансионе Федорова, где он, по выходе попова, был помощником содержателя и имел жительство в пансионе. Я не поладил с гувернером, немцем по фамилии Ираль; Журден поставил меня на колени и осудил оставаться без обеда. Желая как-нибудь смягчить его суровость, я, стоя на коленях во время обеда, сказал ему по-немецки „хвастун“. Я продолжал: эти немцы большие хвастуны, ведь как их Наполеон бил! „Ох как бил!“ – воскликнул Журден и, пришедши в восторг, начал вспоминать Невскую битву. Воспользовавшись его одушевлением, я попросил у него прощения, и строгий капитан смягчился и позволил мне сесть обедать.
Немецким учителем был некто Флямм, не отличавшийся особым педагогическим талантом и плохо понимавший по-русски, отчего его предмет не процветал в гимназии. Ученики, как везде бывало на Руси с немцами, дурачились над его неумением объясняться по-русски. Так, например, не зная, как произнести по-русски слово „акцент“, он вместо того, чтобы сказать „поставить ударение“, говорил „сделайте удар“, – и ученики, потешаясь над ним, все залпом стучали кулаками о тетрадь. Немец выходил из себя, но никак не мог объяснить того, что хотел, и весь класс хохотал над ним.
Еще несколько слов о тогдашнем директоре гимназии фон Галлере. Он отличался тем, что требовал, чтобы каждый ученик, приезжая из домового каникулярного отпуска, считал обязанностью своею принести посильный подарок: кто пару гусей, а кто фунт чаю или голову сахару; директор выходил к ученику в прихожую, распекал его за дерзость, говорил, что он не взяточник и прогонял ученика с его подарком; но в сенях, куда уходил из прихожей ученик, являлась женская прислуга, брала подарок и уносила на заднее крыльцо. Ученик приходил в класс и замечал, что директор во время своего обычного посещения классов показывал к нему особенную ласку и благоволение. Директор несколько лет занимал лично для себя весь бельэтаж гимназического здания, а классы помещались по чердакам; это побудило учителей подать на него донос: приехал ревизор, и директор должен был перейти из гимназического здания на наемную квартиру. Скоро после того начальство устранило его от должности.
Число учеников гимназии в то время было невелико и едва ли простиралось до двухсот человек во всех классах. По господствовавшим тогда понятиям, состоятельные родители и гордившиеся своим происхождением или важным чином считали недостойным отдавать своих сыновей в гимназию: поэтому в этом учебном заведении учились дети мелких чиновников, небогатых купцов, мещан и разночинцев. Плебейское происхождение выказывалось очень часто в приемах и способах обращения воспитанников, равно как и в упущенности их воспитания, полученного в родительском доме. Грубые ругательства, драки и грязные забавы были обычным в этом кругу. Среди учеников было много лентяев, почти не ходивших в гимназию, а те, которые были поприлежнее, заранее приучены были смотреть на учение только как на средства, полезные в жизни для добывания насущного хлеба». Об охоте к наукам можно судить уже по тому, что из окончивших курс в 1833 году один только Костомаров поступил в университет в том же году. И три его товарища стали студентами тогда, когда Николай был уже на втором курсе.
Во время каникул Николай уезжал домой к матери; иногда за ним присылали экипаж, летом – бричку, а зимой – крытые сани; иногда же он следовал на почтовых. В том и в другом случае путь лежал до Острогожска по столбовой почтовой дороге через села Олений Колодезь, Хворостань и город Коротояк, где переправлялись через Дон. Не доезжая до Коротояка дорога на протяжении сорока верст шла по левому берегу Дона. От Острогожска, если Костомаров ехал на своих лошадях, ему приходилось пробираться до своей слободы по хуторам, которых было множество в этой стороне. До самой слободы он не встречал ни одной церкви. Хуторки, по которым Николай проезжал, «все были вольные, населенные так называемыми войсковыми обывателями, потомками прежних острогожских казаков и их подпомощников. Весь этот край носил название Рыбьянского, и обитатели хуторов, как и города, назывались рыбьянами. У них был отличный от других говор и костюм». Впоследствии, побывав на Волыни, Костомаров увидел, что то и другое обличает в рыбьянах чисто волынянских переселенцев, тогда как жители других краев на юге Острогожского уезда отличаются от них своим выговором, одеждой и домашней обстановкой, которые указывают на происхождение из других регионов Украины.
«Если приходилось ехать на почтовых, то путь лежал несколько восточнее, на Пушкин хутор, где переменялись лошади; там была обывательская почта, и, нанявши почтовых, можно было ехать в Юрасовку. Обыкновенно, выезжая из Воронежа, я достигал Юрасовки на другой день, но если ехал на почтовых, то и ранее. Новый дом моей матери был о пяти покоях, на огромном дворе, где кроме дома, амбаров, сараев и конюшен было три хаты, а в глубине двора лежал фруктовый сад, десятинах на трех, упиравшийся в конопляник, окаймленный двумя рядами высоких верб, за которыми тянулось неизмеримое болото. Прежде, как говорят, здесь текла река, но в мое время она вся поросла камышом и осокой, за исключением нескольких плесов, и то летом густо покрытых лататьем.[2]2
Лататье – кувшинка.
[Закрыть] В саду было значительное число яблочных, грушевых и вишневых деревьев, родивших плоды вкусных сортов. В одном углу сада был омшенник для пчел, которых моя мать очень любила. Сад по забору был обсажен березами и вербами, я кроме того насадил там кленов и ясеней. Любимым препровождением времени во дни пребывания у матери была езда верхом. Был у меня серый конь, купленный отцом на Кавказе, чрезвычайно быстрый и мирный, хотя и не без капризов: стоило только сойти с него, он сейчас вырывался из рук, брыкал задними ногами и во всю прыть бежал в конюшню. Я скакал на нем и по своим, и по чужим полям. Кроме этой забавы я иногда ходил стрелять, но по своей близорукости не отличался особенным искусством; притом же мне и жаль было истреблять невинных тварей. Помню, как один раз я выстрелил в кукушку и убил ее; мне так стало жаль ее, что несколько дней меня словно томила совесть. В летние вакации мои охотничьи подвиги успешнее всего обращались на дроздов, которые густыми тучами садились на вишни и объедали ягоды. Здесь незачем было целиться: стоило пустить заряд дроби по вершинам вишен и подбирать убитых и подстреленных птичек кучами, отдавая потом их в кухню для приготовления на жаркое.
Кроме охоты и верховой езды меня увлекло плавание по воде. За неимением настоящего челна я устроил себе корабль собственного изобретения: то были две связанные между собою доски, на которых ставились ночвы. Я садился в эти ночвы с веслом и отправлялся гулять по камышам. Так как вблизи моего дома плесы не были велики и притом густые корни лататья преграждали путь моему импровизированному судну, то я перевез его за семь верст в чужое имение, где река была шире и чище, ездил туда плавать и часто проводил там целые дни, нередко забывая и обед».
Незадолго до окончания гимназии в семействе Костомаровых случилась новая беда: дом вновь был обворован. Об этом Костомаров сообщает так: «В 1833 году, когда я ожидал уже окончания курса гимназии, случилось в моем доме неожиданное и крайне неприятное событие. Мать моя уехала ко мне в Воронеж на зимних святках. В это время на наш деревенский дом напали ночью разбойники; связали сторожа, покалечили нескольких дворовых людей, забивая им под ногти шилья, жгли свечкою, допрашивая, есть ли у барыни деньги; потом пошли в дом, поотбивали замки в комодах и шкафах и ограбили все. Когда начало производиться следствие, оказалось, что виновником этого разбоя был помещик Валуйского уезда, отставной прапорщик Заварыкин, а в соумышлении с ним был один из наших крестьян-малороссов, другой – из чужих в той же слободе. Виновные были сосланы в Сибирь».
В тот же год открылась и настоящая причина смерти отца Николая Ивановича. Кучер, возивший его в лес, явился к священнику и потребовал, чтобы был собран звоном народ: он на могиле барина объявит всю правду о его смерти. Так и было сделано. Кучер всенародно, припадая к могиле, находившейся близ церкви, возопил: «Барин, Иван Петрович, прости меня! А вы, православные христиане, знайте, что его убили не лошади, а мы, злодеи, и взяли у него деньги, а ими суд подкупили». Началось следствие, потом суд. Кучер обличил двух лакеев, которые, однако, от убийства упорно запирались, но не могли скрыть того, что грабили деньги и ими подкупали суд. К делу привлечен был и повар, но тот запирался и за неимением улик был оставлен в покое. Когда виновных стали допрашивать в суде, кучер говорил: «Сам барин виноват, что нас искусил; бывало, начнет всем отказывать, что Бога нет, что на том свете ничего не будет, что там люди боятся загробного наказания, а мы забрали себе в голову, то значит все можно делать». Убийцы были сосланы в Сибирь.
Окончив гимназический курс, Н. Костомаров в августе 1833 года, выдержав вступительные экзамены, поступил на словесное отделение Харьковского университета, где и продолжал учебу до августа 1836 года. Трехлетний срок обучения был тогда обычным для трех факультетов: этико-политического, словесного и физико-математического. Студенты медицинского факультета учились четыре года. По новому университетскому уставу 1835 года в организацию учебного процесса российских университетов (Московского, Казанского и Харьковского) были внесены изменения. Университеты имели три факультета: философский, юридический и медицинский, причем философский факультет состоял из двух отделений: историко-филологического и физико-математического, со своими деканами. Как главный курс студентам первого отделения философского факультета читалась всеобщая история и как дополнительный – студентам юридического факультета.
В то время Костомаров квартировал в доме профессора латинского языка п. И. Сокальского, что и предопределило интерес студента к языкам, особенно латинскому, французскому, итальянскому. Николай Иванович про этот период говорит так: «В первый год моего пребывания в университете я усиленно занялся изучением языков, особенно латыни, которую очень полюбил, и вообще меня стал сильно привлекать античный мир. Воображение мое постоянно обращалось к Древней Греции и Древнему Риму, к их богам, героям, к их литературе и памятникам искусства. Однажды, читая „Илиаду“ в подлиннике с переводом Гнедича, мне вздумалось разыграть в лицах сцену, как Ахилл волочил тело Гектора вокруг стен Илиона. Я подговорил своих товарищей, мы нашли маленькую повозку, на которой няньки возили детей Сокальского. Я упросил привязать меня за ноги к этой повозке; один из моих товарищей стал играть роль Ахилла и потащил меня вниз по деревянной лестнице флигеля, где мы жили, а двое других, покрывши головы по-женски, стали на террасе того же флигеля и представляли Гекубу и Андромаху. Меня поволокли с лестницы по двору. Стук, гам и крик дошли до ушей Сокальского, который в то время сидел с гостями; он выбежал во двор, за ним его гости – профессора, бывшие у него. Увидавши неожиданную сцену, Сокальский сначала принял менторский суровый вид, но потом, узнав, в чем дело, не вытерпел и захохотал во весь голос. За ним начали смеяться и его гости. Меня развязали, и я заметил, что голова моя была в крови, как, впрочем, и следовало по „Илиаде“, где говорится: „…глава приамида, прежде прекрасная, бьется во прахе“. Когда после того мы пошли к нему обедать, он, глядя на меня, не мог удержаться от смеха и говорил своим домашним: „Вот угостили меня! Дали возможность повидать древность в лицах!“»
Совершенное овладение многими языками способствовало глубокому изучению молодым Костомаровым сочинений Ж.-Ж. Руссо, А. К. Сен-Симона, произведений В. Гюго, И. Гете, В. Скотта, В. Шекспира, Ф. Шиллера, трудов польских, чешских, словацких, болгарских, сербских прогрессивных писателей и общественных деятелей, сыгравших важную роль в формировании его мировоззрения. Восхищаясь сочинениями Ж.-Ж. Руссо, Н. И. Костомаров по поводу официально-охранительной точки зрения русского самодержавного общества замечал, что «зло не в Ж.-Ж. Руссо, а в невежественных читателях его произведений».
В жизни Харьковского университета 1835 год был знаменателен, по свидетельству Н. И. Костомарова, тем, что кафедры пополнились новыми молодыми преподавателями.
Именно в этот период происходит формирование научных интересов Н. И. Костомарова. Наибольшее влияние на формирование его как историка оказали лекции профессора всеобщей истории М. М. Лунина, отличавшиеся «богатством содержания и критическим направлением», под влиянием которых, по его замечанию, он с жаром предался чтению и изучению исторических книг. Обучаясь на третьем курсе (1835–1836) и проживая в доме известного украинского поэта П. П. Гулака-Артемовского, бывшего тогда профессором русской истории Харьковского университета, Н. И. Костомаров с большим увлечением занимался историей, много читал «всевозможных» исторических книг, так как хотел знать «судьбу всех народов». Литература в то время также интересовала его, но уже «с исторической точки ее значения». Вспоминая впоследствии годы учебы в университете, ученый отмечал, что «если бы не было в университете Лунина, то время, проведенное в звании студента, надобно было бы считать потерянным».
Окончив университет с оценкой «хорошо» по богословию, Н. И. Костомаров не смог получить степень кандидата и поэтому вынужден был повторно сдавать экзамены. В январе 1837 года он успешно выдержал экзамены по всем предметам и 8 декабря 1837-го Советом университета был утвержден в степени кандидата, о чем получил свидетельство 28 ноября 1838 года.
Этот период жизни Костомарова также отмечен изучением немецкой философии, получением первых навыков педагогической деятельности, когда он преподавал историю сыновьям профессора П. П. Гулака-Артемовского.
Н. И. Костомаров после окончания университета несколько месяцев служил юнкером в Кинбурнском драгунском полку в Острогожске. За этот срок он изучил великолепный комплекс документов местного архива и подготовил к печати историю Острогожского казачьего полка с приложением основных документов, мечтая «составить историю всей Слободской Украины» (рукопись эта сгинула в полиции после ареста). Никакие жизненные обстоятельства не могли заставить Николая Ивановича свернуть с уже намеченного пути, о котором сам он говорил так: «История сделалась для меня любимым до страсти предметом; я читал много всякого рода исторических книг, вдумывался в науку и пришел к такому вопросу: отчего это во всех историях толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик, земледелец-труженик, как будто не существует для истории; отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе его радостей и печалей? Но с чего начать? Конечно, с изучения своего русского народа; а так как я жил тогда в Малороссии, то и начать с его малорусской ветви. Эта мысль обратила меня к чтению народных памятников».
Идея изучения истории украинского народа оказалась крайне трудно осуществимой. Костомаров чуть ли не наизусть выучил изданные к тому времени былины и сказы, русские и украинские народные песни, подружился с издателем «Запорожской старины» И. И. Срезневским и другими исследователями народного фольклора. Размышляя над методами исторической науки, Николай Иванович решил отправиться в Москву для знакомства с лекциями М. Т. Каченовского, для овладения в совершенстве немецким, а затем польским, чешским, словацким, болгарским и другими языками, открывавшими доступ к сравнительному анализу исторического материала.
Таким образом, уже в студенческие годы практически закладывались основы воззрений будущего замечательного историка о предмете истории и сущности народности, которые были сформулированы им несколькими годами позже так: «Не восхищаться народностью, а знать ее следует. Точно так же – не восхищаться, не любоваться историею прошедшей жизни – наше дело, а уразуметь ее».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!