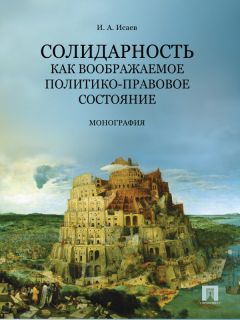
Автор книги: Игорь Исаев
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
4. «Право солидарности» (Ф. Теннис)
По определению Фердинанда Тенниса, форма сущностной воли или «самость» есть некое единство, которое само пребывает внутри другого единства и включает в себя, подобно организму, еще и другие единства. (Теннисовское деление объединительной воли на избирательную и сущностную явным образом напоминает средневековую дихотомию воли естественной и воли избирательной, которую можно обнаружить у Максима Исповедника. Если первая определялась как «стремление разумной сущности к тому, что сообразно единству», то вторая была связана с выбором между добром и злом, который делает индивид: такая воля появляется только после грехопадения, когда естественная воля подвергается «тлению»)[32]. «Самость» как субъект избирательной воли может стать единством только в соотнесенности с предполагаемым действием, поэтому она представляет собой некую фикцию, как и всякое универсальное единство рода, оставаясь при этом номинальным, идеальным и фиктивным. Действительность же всякого собрания, объединения прежде всего предполагает действительность репрезентируемого им лица. Являясь искусственным лицом, поскольку оно репрезентирует само себя, собрание в качестве субъекта избирательной воли может действовать только благодаря тому, что люди, входящие в него в качестве естественных лиц, «сами полагают решения, согласованно высказываемые большинством из них в качестве избирательной воли этого единого, имеющего личностный характер воображаемого существа». В этом и состоит мистическая тайна репрезентации.
В исторической перспективе социальное развитие всегда направлено, как полагал Ф. Теннис, от статусной формы существования к форме контрактной, договорной. При этом право как опосредующий волю и социальность элемент в любом случае выступает как совместная воля и в этом смысле является «естественным» правом, т. е. формой тех отношений, материей которых будет совместная жизнь или переплетение волевых сфер. Тогда естественная и простая (сущностная) воля общества становится конвенцией, соглашением, которое и представляет «естественное» право в этом «квазиобъективном разумении»[33]. Субъект такой воли не может быть задан ни всеобщим, ни особым контрактом в качестве единства, если оно уже не было установлено особым определением: после этого такие единства соотносятся друг с другом (так же, как и контракты), становясь объективно-реальными, только благодаря всеобщему охватывающему их единству. Последнее же, если оно представлено неким единым лицом (например, государством), может в свою очередь также утверждать и назначать другие, зависимые от него единства, которые не основываются на индивидуальных контрактах, но являются только «субъектами его отдельных массивов», частями этого тотального единства и избирательно-волевой сферы. Именно отсюда берет свое начало теория «юридического лица»[34].
Если рассматривать общество с точки зрения «органической» теории, то «естественное право» представляется наиболее близким по своему происхождению и характеру к этому продукту социальной эволюции. По мысли Ф. Тенниса, органический характер «общности» связан с органикой «естественного» права, уходящей корнями в обычай, традицию, здравый смысл, а, возможно, и в божественное прошлое. «Общество» приносит с собой и новое право, государственное или политическое, вместо органических атрибутов несущее в себе черты механистичности и внешнего произвола. Тогда и солидарность подменяется тотальностью, а отдельные корпоративные образования, представлявшиеся живыми членами единого космического организма, поглощаются уже другим единством, новой государственностью, уже ничем не напоминающей своего дальнего предка – патриархальную семью. Государство, с одной стороны, представляет собой универсальную общественную связь (защищая своих субъектов), с другой – оно выражает и претворяет в жизнь само это «естественное» право. Как и всякое конституируемое объединение, государство, полагает Теннис, представляет собой некое «вымышленное или искусственное лицо». А «естественное» право выполняет роль посредника между ним и другими лицами, как между доверенным лицом и его доверителями.
«Естественное» право выступает здесь как конвенциальное право, включающее порядок (конституция), посредством которого оно выражает свою действительную волю. По своему правовому определению государство уже является не чем иным, как учредителем, представителем и исполнителем всех «естественных принудительных прав». Но чтобы добиться осуществления права, оно «нуждается в познании», и правилам, по которым государство «интерпретирует существо права», оно придает форму уставных и обязательных для исполнения положений. Тем самым государство может формировать любое право и этой неограниченной экспансии законодательной власти, вытеснению «естественного» или конвенциального права правом государственным или политическим может противостоять только («гражданское») общество. Но если рассматривать государство как «ипостась общества или социального разума» (как это делает Гегель), которое считают «абсолютным лицом», тогда и право государства будет восприниматься как «право природы», и вся юрисдикция в целом попадает в зависимость от государства и исчерпывается применением его законов[35].
Corpus Juris некогда представлялся европейскому разуму идеальным аналогом корпоративной структуры и формы как таковой. Потрясающая способность римской церкви адаптировать для собственных нужд и сохранения собственной организационной целостности систему римского права или, как говорил Карл Шмитт, «быть пронизанной юридическими элементами» способствовала восприятию римского права европейским сознанием как некоей панацеи и универсального средства. Фердинанд Теннис, как и большинство немецких политических философов, со скептицизмом воспринимал эту роль римской юридической традиции. Принятие в готовом виде «всемирного» римского права послужило дальнейшему развитию «общества» (как особой формы единения) в недрах христианской цивилизации, поскольку в качестве научной и рациональной системы это право отличалось простотой и логичностью, в письменном виде оно казалось воплощением разума и целесообразности. Однако на практике оно способствовало разложению всех общностей, противостоящих умозрительным и воображаемым конструкциям частного права. Для этой рациональной теории любая «общность» (как специфическая форма единения) представлялась аномалией и нелепостью, а «тезис о том, что никто не может быть удержан в рамках той или иной общности против своей воли» подрывал само основание права общности и общностной солидарности. Параллельно римскому праву развивалось также философское и рационалистическое «естественное» право, преимущественной сферой влияния которого становилось публичное право. Ф. Теннис замечает в этой связи: с учетом воздействия публичного права на частное (или государства на общество) это «естественное» право использовалось для осуществления кодификации и планомерного законотворчества и в этом своем значении «еще и ныне не сыграло всей своей роли: понятое как идея справедливости, «естественное» право представляет собой как бы «вечное и неотъемлемое владение человеческого духа»[36].
Ф. Теннис понимал «общностное» право, с которым он отождествлял «естественное» право, как порождение человеческого духа, как систему идей, правил и положений, которую можно сравнить с неким органом или «произведением, возникшим благодаря соответствующей многократно повторяющейся деятельности». Его основой является некая, по выражению Тенниса, «протоплазма права», изначальный и необходимый продукт совместной жизни и мышления индивидов. Поэтому изначальный характер такого права следует понимать не как временную, а как вечную, исходную, как некую мыслимую вещь, идеал будущего или прошлого, только как «предположение» о том, что он в какое-то время действительно существовал. Такой идеал мыслится не как историческое воззрение, но только как вымышленная целесообразная схема, призванная служить перенесению этого понятия на грядущую действительность, т. е. как утопия.
Для социальной «общности» и «общества» право выполняет роль иммунной системы, защищающей их от проникновения разлагающих элементов. Склонный к унифицированию и кодификации характер права призван обеспечивать солидарность в сообществе, а иерархичность нормативной системы гарантирует необходимый ему порядок. Вместе с тем присущая праву склонность к абстракциям (в пространстве и во времени) и заимствования могла в любой момент подвергнуть оригинальную и неповторимую структуру и устройство корпоративного объединения угрозе редуцирования и искажения. В этом смысле особую опасность всегда представляло именно так называемое естественное право. Рожденное традицией или божеством, «естественное» право более всего подходило на роль вечного регулятора, выстраивающего социально-структурные отношения в «воображаемом обществе». Замкнутая топография утопии предоставляла этому праву достаточное, но закрытое пространство, гомогенность которого передавала ему свои качества: «естественное» право в этих условиях способствовало унификации, переходящей в солидарность. Более того, при соответствующем религиозном и моральном наполнении «естественное» право могло превращаться в священное и божественное право. Однако оно становилось иным, если аналогии гражданского права распространялись на неограниченную сферу, создавая некое «всемирное» право, и тогда связь между «естественным» и общим правом окончательно разрывалась. Тогда само гражданское право становится ограничением, которое «налагает на себя сохраняющаяся эмпирически свобода человека» – ведь всякий особый, конкретный порядок по сути случаен, а необходим только порядок «вообще», миропорядок, хотя и он необходим не как действительность, а лишь как «средство к разумной жизни». Вот тут-то как раз изобретается и конструируется тот самый абстрактный человек, «самая искусственная и самая рафинированная из всех машин»[37].
5. Солидарность: пространство, центр и периферия
Отто фон Гирке, вспоминая о теократической идее, некогда пронизывавшей все средневековое мировоззрение, подчеркивал, что исходным пунктом этой идеи всегда оставалось представление об универсуме, «одушевленном единым духом», и об «организме», созданном по единому закону. Принцип единства считался тогда исходным для любой социальной конструкции, поэтому и «человечество в его тотальности понималось как особое целое в мировом целом», имеющее особую совокупную цель и выступающее как основанное самим Богом и монархически управляемое «государство». Это «государство» учреждало единство, из которого всякое частное целое (например, универсальная церковь и универсальное государство) черпали свою особую единую сущность[38]. Право при этом свойственным ему нормативным образом определяло как само строение этого живого целого из его частей, так и осуществление его единства в множественности этих частей. Правовые положения главным образом определяли тот тип организации, при посредстве которого эти связанные в единое целое элементы только и могли сформировать единство. Когда индивидуально-правовые отношения сплетались в органическую связь, они испытывали кардинальное социально-правовое преобразование, из которого и происходили все своеобразные формы частного права (собственности, вещных прав, обязательственных отношений и т. п.). Государство же, поставленное своей полной суверенной властью выше всех остальных форм, присваивало себе право высшего порядка и давало возможность «принимать в известном объеме участие в преимуществах публичного права лишь таким сообществам, которые оно признает публичными установлениями». В результате этого каждому типу общественной корпорации как одному из составляющих членов правовой тотальности оказывались принадлежащими своеобразные комплексы норм, все частное «союзное» право дробилось в соответствии с различением союзных цепей и многообразием союзных форм. «Великие социальные личности, образование которых и развитие составляют главное содержание мировой истории, каждая в отдельности так своеобразно установила и преобразовала свой жизненный порядок, что в каждом конкретном государственном или церковном праве господствует система особых правовых идей»[39]: правовая цельность распадается на замкнутые правовые монады, каждая из которых становится отдельным центром властного притяжения, отдельным «государством» в мировом государстве.
Для правовой материи принцип «единства в многообразии» выражается прежде всего в иерархии норм и определенной конвенциальной связи между отдельными правовыми порядками. (При этом даже состояние конфликта между ними может рассматриваться как базирующееся на «праве войны» и оправданное этим особым правом). «Протоплазма» права, или первонорма, трансформируется в четко артикулированные и кодифицированные нормы и системы, априори предполагающие наличие некоего эффективного центра, вновь стягивающего разбросанные правовые элементы в стройное и подчиненное общей цели единство. Единый суверенитет, распадаясь, порождает множество новых суверенитетов. Эти суверенитеты могут входить, объединившись, в более обширную, «имперскую» структуру (когда Отмар Шпанн говорил о «сословном государстве», он имел в виду именно такую «федерацию» суверенитетов: в сословном государстве господствует не механическое равенство, а органическое неравенство. В нем господствует не абстрактная внешняя свобода, но «органическая» свобода, которую легко можно соединить с плодотворным воспитывающим принуждением. И тогда на место пустого понятия «свободы» встает понятие «службы целому»[40]). Во все великие эпохи, несущие на себе мистический отпечаток и предоставляющие центру столь сильную власть, неизменно существовал мощный иерархический элемент, который поддерживал, но чаще всего подавлял общественное тело[41]: формируя иерархии и порядок, государство накапливало мощь, которая в определенный момент перехлестывала через установленные ей границы, общество-организм тогда разрастался, осуществляя свою внешнюю экспансию. Его целостность при этом не утрачивалась, но лишь трансформировалась.
Современное общество как «организм» – безгранично, но не беспредельно, подобно той земной поверхности, которую оно занимает. В современной идее мирового общества уже отсутствует то единство «порядка и локализации», которое Карл Шмитт определял как «номос Земли». Теперь «империя» – это уже не часть более обширного государственного образования и не простое местоположение в пространстве мира. Это «идея социума, ориентированного на пространство закона». Определять, делить, закреплять – эти функции становятся главными в существовании «номоса Земли» и могут реализоваться только в конвенциальной юридической форме. Когда общество переходит от «традиционных мифов к мифам закона», оно совершает одновременный переход к более концентрированным формам политической власти (как, например, традиционные общества, объединяющиеся в огромные религиозные империи). Когда какое-то общество принимает право, которое считается «соответствующим естественному порядку и разумной организации, то это общество неизбежно переходит также и к государственной форме власти»[42], государственность, как и право, априори презюмирует политический централизм и единство. Уже античности была знакома идея мирового государства и всемирного гражданства, но только Средневековье сформулировало концепцию органически расчлененного и охватывающего всю землю сообщества, которое слагалось не непосредственно из отдельных индивидов как «граждан мира», но из ряда «союзов господства» и лишь через целый ряд промежуточных степеней приводило к отдельному человеку (Ф. А. фон дер Хайдеге)[43]. Поскольку отдельный индивид не мог позиционировать себя в качестве самодостаточного статуса (если не принимать во внимание амбиции анархизма штирнеровского толка), он всегда оказывался в орбите властвования какого-либо суверенного центра. При этом он освобождался от всякой политической ответственности, но зато подвергался двойной угрозе и вменению вины: во внешнем отношении, когда он рисковал выступить против интересов своего суверена, и во внутреннем отношении – «это была вина того, кто эмигрирует в анонимности» (Р. Козеллек)[44]. Закон не знал конкретного и персонифицированного субъекта, для него любой субъект – только абстрактный субъект права и объект для применения санкции.
Рост национальных государств, выделившихся из структур «имперского» сообщества, привел к большой внутренней солидаризации отдельных обществ, прежде находившихся на более низкой ступени организационной иерархии по сравнению с «империей». «Сверху», от «империи» они восприняли совершенную власть и свободу политического действия, уже не признавая над собой более высокой и решающей инстанции; «снизу» они втягивали в свою орбиту более мелкие сообщества, субструктуры, лишая их самостоятельности и принимая на себя право «через войну или судебный приговор» выносить решения о жизни и смерти подчиненных им индивидов. «Империя» как всеохватывающий космос и целое уже семантически не совпадала с «универсальным государством» античности, теперь она включалась в такую картину мира, в которой все составляющие части этого космоса уже не сводились к «имперскому» единству и где идеалом становилась своеобразная христианская светская «империя» (как это представляли себе доминиканцы и иезуиты), т. е. достаточно ограниченное, хотя и полное сообщество (по замечанию Г. Миттайз, такая «имперская» идея еще раз мелькнет только в «Монархии» Данте, а болонские постглоссаторы попытаются соединить «идею единой и всеохватывающей имперской власти и ее универсального притязания на право с реальностью особых политических образований», – и поскольку они философски истолковывали особенное как форму общего, – рассматривать власть отдельного государства только как форму участия в имперской власти»[45]).
Представление об «империи» требует центрирующей инклюзивности, простирающейся вплоть до самых крайних обитаемых границ, и в этом состоит настоящая сердцевина геополитики как таковой. «Империя» не профилировалась относительно других «империй», что не мешало ее пониманию как политически оформленной, всеохватывающей и органически встроенной в космос социальности. По мере разрушения социального космоса «империи», разрушался и весь совокупный миропорядок, а частные сообщества тут же начинали притязать на такую полноту суверенитета, какой не могла себе позволить даже сама «империя» в ее космической целостности[46]. Особенность «империи» и, в частности, римской традиции имперского права состоит в том, что она доводит совпадение и универсальный характер эпического и юридического принципов до предела: «империя» выступает в качестве гаранта мира и справедливости всех составляющих ее народов, она сама производит этические истины, формулирует правовые нормы и сохраняет при помощи имеющихся у нее средств («справедливые войны») социальный мир[47].
Имперский принцип – это своеобразная транскрипция принципа «демократического централизма». Органически вырастающий из периферийных образований центр направляет на окраины «империй» знаки и указания, сообразуясь с установленной иерархией и распределением компетенций. Степень единения определяется здесь прежде всего эффективностью функционирования этой системы взаимодействия. В реально существующих моноцентрических макросферах властвования типа «империй» власть посредством радиального излучения исходит из некоего центра, испускающего лучи подобно Богу и Солнцу. Петер Слотердайк цитирует анонимного античного автора трактата «О мире»: поскольку Бог не в состоянии сам прилагать руку ко всему, что требует его заботы, но подобно неподвижному двигателю он может «посредством одного-единственного символа власти приводить в движение весь аппарат господства, с помощью которого до последних мелочей исполняется все то, что соответствует намерениям всепроникающей мудрости властителя». Такая мудрость в прямом смысле слова не знает границ. Суверен – это тот, кто сам присутствует в своем представителе, представительство – это «воплощение властного центра в некоей отдаленной точке, словно центр сферы обладает способностью посредством своих представителей… как бы реально присутствуя, сообщаться с каждой точкой внутри своей окружности». Для факта представительства решающим является вопрос, присутствует ли в представителе господствующий принцип как опосредованный и непосредственный одновременно: «суверенитет неразрывно связан с его воздействием на дальнее». Что же касается возможности чистого представительства в политическом пространстве, то его «каскад… берет начало на вершине метафизической пирамиды – в фигуре монарха, который чувствует, что сама логика его поста вынуждает преподносить себя наместником божественных сил, а при теократических эксцессах – даже их инкарнацией!»[48]
У Платона в «Государстве» символом духовной слепоты выступает пещера, закрытое пространство, наполненное искаженными отражениями действительных вещей. В терминах политико-правового дискурса этот символ может использоваться для обозначения закрытой общности, утратившей связь с целым, с единством, однако порожденной и незримо управляемой из невидимого центра. «Пещера» и корпоративность в качестве принципа синонимичны, «пещера» – это сплошная граница, ограниченность. Выход из «пещеры» означает обращение к свету истинного знания, открытость, узнавание настоящего и властвующего центра, разрыв с периферийностью. Символ пещеры всегда предполагал наличие замкнутости, закрытости и сементической целостности пространства, у Освальда Шпенглера этот символ ассоциируется также с кругом магических религий, каждая из которых одновременно является «орденом», т. е. сообществом особого рода, коллективно-духовно призванным служить высокому и удаленному, закрытому от всего низменного и плотского («только ордену удалось задействовать понятие службы и служения, нашедшее, в конце концов, применение внутри негосударственного сюзеренного владения ордена и саму административную систему в качестве несущей конструкции своего государства»[49]). Освальд Шпенглер в противопоставлении «фаустовского» и «магического» человека, для которого пространство представляется «мировой пещерой», подчеркивал: если для первого из них первичным является «я», т. е. сила, опирающаяся на саму себя, то для второго с его магическим бытием всегда существует только пневматическое и коллективно-духовное «мы». В «магическом» человеке пребывает нечто иное, чуждое и высшее: магическое божество есть та неясная, загадочная внешняя сила, пронизывающая собой всю волю и мысль этого человека. Для него не только мировое пространство, но и мировое время оказывается «пещерообразным» («всему свое время»), в этой культуре разделение политики и религии принципиально невозможно. Всякая магическая церковь – это всегда орден, а магическая нация – это совокупность, орден всех орденов, который подразделяется на все меньшие и меньшие кружки. Целостность «мировой пещеры» (civitas, ранее обозначавший совокупность тел, а затем уже консенсус тех, кто принадлежит этой целостности) включает в себя как посюсторонность, так и потусторонность как правоверных, так и благих ангелов и духов, даже государство составляет в этой общности только лишь небольшую единицу ее зримой стороны и его действенность определяется этим целым. Религиозное и политическое неразделимы, светское и духовное право составляют здесь одно и то же, государство, церковь и нация образуют духовное единство[50]. (Интерпретируя эту идею в архитектурно-пространственных терминах, П. Слотердайк по этому поводу замечает: самосохранение в магических концентрациях воли «позади собственных стен» и одновременно соответствие территориальному императиву, когда духовные силы поступают из «храмов, стен и хранилищ», – в этой пространственной формуле единства заключена некая сфериологическая тайна успеха всемирно-исторической архитектурной фигуры Города. Городские стены здесь следует рассматривать только как морфологический эксперимент по созданию некоего большого мира, космоса, который представлял бы собой и внутренний мир, вынашивающий самого себя, и собственный мир его создателей, воображаемое здесь сливается с онтологическим[51]). Образ пещеры уступает свое место безобразному бесконечному, город-полис превращается из самодостаточного и воспроизводимого единства в бесконечный, но внутренне упорядоченный космос с единым управляющим и властным центром, космос, принимающий идеальную форму сферы.
Но теософская мистика шара одновременно с этим высвобождает центробежные силы: ставший бесконечным, Бог утрачивает свое центральное положение в духовном пространстве, уступая свое место плюрализму силовых точек, осуществляющих свое индивидуализированное существование. (Жан-Жак Руссо, заметив это, говорил: «На свете нет существа, которое определенным образом нельзя было бы рассматривать как центр, общий всем прочим». Поэтому теперь мы внезапно оказались на пути, идущем «через весь земной шар, и бежим к самым внешним регионам универсума».) Но поскольку господствующий центр, который так никогда и не исчезает, обладает способностью воздействовать даже на удаленное, словно он сам находится там, то пробным камнем для реального присутствия оказывается презентация носителя власти при его реальном отсутствии. «Черпая знаки суверенитета из себя самой, власть рассылает представительства, которые вместо нее присутствуют там, где ее нет, при этом она делает все возможное, чтобы у нее не наблюдалось какого-либо роста дефицита импозантности». Именно там, где ее нет, она должна уметь присутствовать так, словно ее в избытке.
Центр оказывается повсюду, окружность – нигде – эти определения лишают божественное последних качеств «пещеры» (в платоновском и шпенглеровском смысле) и даже малейших признаков космического дома. Сколь бы успешной не была метафизическая «политика границ», с этим решительным переходом через окружность использование Бога «в целях регионального и имперского пространственного очарования приходит к концу». После поворота к актуально бесконечному в понятии Бога более не находит утешения ни одна держава, ни одно жизненное единство, ни одна региональная власть. Вследствие этого все локальные державы, «священные царства», замкнутые законы влияния, непроницаемые заколдованные круги могут почерпнуть только информацию о том, что в качестве приниженных смысло-образов они уже оказались растворенными в некоей трансцендентной океанической среде[52]. Как заметил Александр Кайре, бесконечная вселенная новой космологии, бесконечная и по длительности, и по протяженности, в которой бесконечная материя, согласно вечным и необходимым законам движения, «бесконечно и бесцельно в вечном пространстве» унаследовала все онтологические атрибуты божественного («но только эти – все остальные ушедший Бог забрал с собой»[53]) организатор и устроитель вечной социальной солидарности, ее невидимый первоисточник ушел из истории.









































