Текст книги "Русология. Хроники Квашниных"
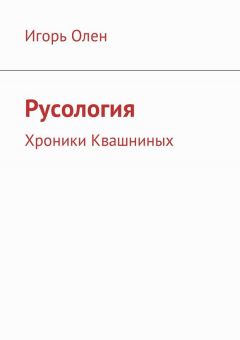
Автор книги: Игорь Олен
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В бок мне вмазала боль с темнотой в глазах. Тормозя, я отдался смятению враз со слабостью – симптоматике цепкой хвори. Всё расплывалось, вздыбивши ужас в склизких туманах, где бродил Авраам, князь веры, стыли рацеи, гнил детский образ… Боже!
Я стал терзаться, думая, для чего я жил, если мир, куда кану, страшен: там кости, страхи, прах и укоры. Я хочу – в рай; раскаяться у врат рая. Хочется истины, что простит грехи… Впрочем, я не убил пока и гадаю: что мне привиделся детский труп? Зачем он?
– Пап, – сын толкнул меня. – Будешь плакать, да?
Я соврал, что не плачу, но отдыхаю и что до бабушки близко… Вновь «нива» смолкла. Вновь я, открыв капот, обозрел весь блок: фильтр, насос, поплавковую камеру. Устранив сбой, плюхнулся вновь за руль, когда тот же «шестёрочный» джип наплыл. Апоплектик без шеи, с сросшимися белёсыми бровками, просипел:
– …отверзохали б за такие советы!
И он умчал.
Разгневанный, я рванул вслед, вспомнивши карабин, что в скарбе. Я, ни живой ни мёртвый, хворый, ослабший, жаждущий истин, я распалился вдруг, отчего я не в «вольво», не в «BMW», не в «мерсе», не в «мазерати», чтобы, догнавши, вбить в него пулю. Хам и ничтожество!! Он ошибся дорогой, я же виновен стал?!
Мерзость вышла бы, догони я их… Но квашнинство, впавшее в мозг, взрыв попранного, мельчавшего каждодневно достоинства и гордыня быстро поникли. Взяв седативных пару таблеток и проглотив их, я щёлкнул радио; там «Беременны временно»… Нет, стоп! Музыка мне преддверие. Не слова – речь Бога. Музыка, упредившая смысл, – речь Бога; в ней ритм истины. То, что сброд портит музыку, чтоб излить себя и к наживе, это опасно. Я весь в предчувствии, что, случись ещё в музыке муть поднять, – смерть нам. Сгинут пусть дискурсы и науки, веры исчезнут – ею спасёмся. Лучше треск трактора с крошевным дребезжанием, с хрипотой карбюратора, с громким треском глушителя, чем попса. Райский змий на словах налгал, а в попсе сама жизнь лжёт именно чем нельзя лгать – сущностью. Мы и так смотрим, слышим не жизнь. Мы отторгли жизнь. Жизнь чужда нам в той степени, что нам страшно общаться с ней. Нам она, жизнь, во вред, мы к ней входим в скафандрах; мы ей враги впредь – иноприродные. Мы глотаем наркотики, чтоб забыть её и избыть. Наркоманом ab ovo33
От яйца, с самого начала (лат.).
[Закрыть] был Авраам, кой решил жить по-своему. Кто искал героин и опиум, а вот он искал Бога как щит от жизни. Бог его бзиком стал и наркотиком. «Покажусь живым», – вдруг решил Господь навязать Себя. Выбор пал не на грозного фараона, не на мыслителя Древней Греции, но на отпрыска Фарры, на скотовода. «Ты – вождь народам, ибо Я Бог твой», – рек Господь. И Аврам удивлялся, что, отодвинув мир и всё бросив, кроме, конечно, сиклей с рабами, – он не исчез отнюдь, но живёт при содействии не харранского либо урского и иных богов, но могучего Бога личного…
Здесь вопрос о моей судьбе: для чего мне абстракции: Бог, Аврам-Авраам, прочее? Где и что Бог? Мне для чего Бог? Да и Авраам – что? Кто он в реальности, а не в Библии тот Аврам-Авраам? И, главное, кто зачинщиком? Вдруг не Бог патриарха-то – но Аврам налгал Бога с целями? Бог молчал; Бога, может, и не было. Вдруг Бог – фикция?
Возле дома в Кадольске я сына высадил и повёл «ниву» на ночь на спец. стоянку. Мне очень нравился путь оттуда длинной аллеей (липы, боярышник) за некраткое удовольствие, что иду я не в собственный скорбный дом, полумёртвый дом, а к родителям, где пусть горе, но где и радость. Я им звонил больной, и мать думала приезжать. Днесь март уже, я в ремиссии, хоть печёт внутри, и приехал к ним, пусть транзитом к другим местам. В магазинчике я взял яблоки, кориандр, петрушку, хлеб с консервантами, сыр протравленный… Я забит консервантами, я забит словосмыслами! Мне б сойти с путей мира, чтоб Бог призрел меня, как Авраама!
Боже, ПРИЗРИ МЯ!!
И меня затрясло всего, плоть и психику. Постояв у дороги, чтоб машин не было, я в скачках пересёк её; сумка с купленным поддавала с запястья. Пальцами я сжимал себя – не рассыпаться!
Я вбежал в салон, озаглавленный «К… (и) Ч…» (текст выцвел). Это был «КнигоЧей», солиднейший магазин канцтоваров, прессы до Ельцина, и я в прошлом бродил в нём; там продавался, помню, мой опус «Знак предударного вокализма…» Был я, наверное, «книжный червь» и «ботаник», всё читал сразу, всюду и часто, а в результате стал эклектичным в мыслях и чувствах и неустойчивым, как Пизанская башня, без всякой цельности; стал наполнен словами, разными толками, то есть смыслами. Но так было давно, давно. «КнигоЧей» трансформирован. Нынче здесь – россыпь видео, там – отдел пылесосов и бытовой пр. мелочи, плюс ряды холодильников и стиралок. Книжки в углу, блеск титулов: Тэх Квандистиков «Запасной костолом: ва-банк», Ева Эросова «Дрянь просит», Крах Куннилингам «Лезвие бритвы»; также «Расправа», «Шмарная Ялта», «Мент» сериографа О. Кхуеллова, – всё рвалось из обложек с фото-коллажами автоматов, пальцев над «баксами» и колготок, спущенных книзу.
– Вам чтиво круче? Вот, посоветую: террористы, кровь, пытки, баксы, естественно, женский труп вверх ногами… Нет? А вот это: туз из правительства, как он начал, где что украл, убил кого. Компромат!.. Впрочем, в вас склонность к правде? чтоб натуральный сюжет? чтоб образность с философией? Вот вам книжечка… Ну, да, кровь. Только здесь кровь вторична, здесь случай жизненный; здесь с чеченской войны возвращается Он, герой, бьётся с мафией, кровь-любовь; а Она как-то очень естественно вдруг сестра главаря. Пикантно. И назидательно. Типа, Он, герой, победив, не решил проблем и – в парижи… Нет? Вам в тоску Чечня? Есть тогда покет-бýк в цветках, чистый дамский роман – с фривольными, впрочем, сценками… Ну, а вот политический как бы даже наезд на власть, про кремлёвских генсеков… Вам из Аксакова? Здесь таких и не знают. Здесь город простенький: детектив и порнушка, женские сопли. Здесь, уважаемый, лишь Кадольск, а не Лондон, здесь город силы; здесь мелодрамы, здесь любят китч, увы! Он как был – так и есть, наш великий, ясно же, русский… Что, карандашик вам?.. Заходите!
…Я минул дом и второй затем с решечёнными окнами (могут, часом, залезть убить). Справа был захламлённый пустырь в кустарниках до соседнего дома. Всё звалось «кризис», переустройство, время насущных-де перемен… По мне же: кризис не в сломе неэффективного. Кризис в том, что слова относительно «лилий» (что не прядут, не трудятся, а одеты-де Богом) сдвинуты к свалке.
Вздумали – денег.
II
Дальше был темноватый подъезд с объедками и пивными бутылками. В детстве, в умном пытливом «Техника – юным», я, помню, вычитал, что мы станем двухчастым: пищеварением с головой. Ошибка. Мозга не будет. Будет кишечник.
Лифта здесь не было, я с трудом стал взбираться, с сердцебиением, с потемнением зрения и с височной пульсацией, бормоча: – Кваснин Пэ Эм, урождённый Квашнин то бишь, жил полста лет… Ноев сын, древний Сим, жил шестьсот лет… Сам Ной жил – тысячу… Да и жизни адамовой девятьсот тридцать лет, не больше. Жил-жил и умер странною «смертию», стих семнадцатый, главка два, скушав с древа познаний зла и добра…
– Наконец-то! Как, доберёшься?
Мать, располневшая в свои годы, статная, нисходила. Но, обогнав её, сын мой сверзился вырвать ношу из рук моих и бежать наверх.
Я сказал, что всё в норме.
– Лекция кончена? Ты прожившего дольше всех назвал?
– Да, конечно: Мафусаил.
Прихожая. Справа – входы на кухню и, рядом, в бóльшую из трёх комнат. Слева, фронтально, – вход в коридорчик с малыми дверцами (в санузлы) и с дверьми потом, за одной из каких – мой больной бедный брат; за другой был отцов кабинет, где мог быть и жить, кто хотел из нас; там и я жил в наезды; там писал о гепидском-герульском, сгинувших молвях. Встретите «П. Кваснин» на обложке, знайте, вас ждут хоть скрытые, но подробные, скрупулёзные, в русле странных задач, наррации с препирательствами с самим собой, с миром, с Богом, – с Кем я, наверное, разбираюсь с рождения (и теперь достиг вех предельных). Проще, став в храме, яро креститься, веруя не в Отца-Сына-Духа Святого, а лишь в себя, безгрешного, и притом ещё думать, что, грабя в бизнесе да плутуя в политике, – прилагая к ней личные кулуарные цели, – ты служишь нации, что всегда, понимается в тайниках души, лишь назём в твой розарий. Воя с трибуны: «Я патриот, ура! Русский мир! Единение!» – сладко знать, что скончаешься, заработав стяжанием, в неком частном удобствии русской Англии на Рублёвском шоссе, а не в общей мгле.
Обнажась, я влез в ванну. Я растревоженный – тем блаженней лечь, чтоб стрекали колючие пузырьковые струи. Цепь от затычки стиснул рукою – выдернуть, коль придёт нужда. Я боялся. Я никакой в воде, утомляюсь, ослабеваю и вдруг иду ко дну. Я тонул много лет назад в море, где, проплыв метров триста, вдруг испугался; бешено, пёсьи, начал грести вспять, схваченный корчами; но доплыл и лежал потом с пенным ртом, притворясь, что всё в норме; мне было двадцать и я был с девушкой.
То есть с Никой был – вот вся «девушка». Относительно женщины, как и музыки, во мне пункт. В ней, как в музыке, я чту суть, непостижную, не сводимую к половому средству. Женщина – это Das Ewig-Weibliche44
Вечная Женственность (нем.).
[Закрыть]. В женщине мне – вход в истину. О, не тот оргазийный пыл, кой воспели поэты! Мне не открыто, что же в ней, в женщине, но когда-нибудь отыщу ответ, ибо, как бы то ни было, мы исходим из женщины, чтоб войти в неё… Я тонул в море Чёрном: в первый приезд, сомлев, я поплыл, оглянувшись лишь, когда берег исчез; я – в панику, и рос ужас; я твердил «Боже!» – будучи скептиком, но вдруг взялся валун, в каковой я вцепился, точно безумный.
Дёрнув затычку, я наблюдал потом, как с неистовым рыком свергнулись воды в мрачные трубы. Ванна мелела, точно как жизнь моя. Глубоко во мне шла деструкция, битва Божьего с тварным; крепь подломилась, быть пошло разрушение. Между мною и небом вклинились глумы, что, мол, «не звёзды над нами, но – мы в мерцающем гнилью трупе», что между мной и женой моей суть не «брачныя таинства», а «дозрели женилки»; также «Мадонна» от Рафаэля мне мнится шлюхою с развращённым мальцом, не больше. Что знал «культурного», «идеального» из сокровищ-де «общества» и всемирных-де «ценностей», то пустилось вразнос. Подумалось: может, мне и не стоило идеалы чтить, плюс «шедевры культуры»? Был бы я цербером у дверей магазина, спал бы с газетой, зырил бы в тéлек, знал анекдоты – было бы лучше. Битв во мне не было и я был бы здоров вполне. Я рыгал бы, сладко почёсывал зад и ятра, был бы весёлым, врал бы побаски, ел мясо с перцем, пил бы «для тонуса», слыл для всех «упакованным», воспитал бы детей своих и, в конце концов, погребён был друзейством, кое, в поминки, пило бы в третий день и в девятый день, как положено. Вот каким я вознёсся бы, и Господь, приобняв меня, присудил бы мне рай.
Увы мне! Я с миром в контрах, сходно и с Богом. Всё крайний смысл ищу. А зачем? Ведь, слаб верой, я слаб и в лихе. Ни Богу свечка, ни чёрту спешник. Пыль я несомая и никчёмность, не интересная ни добру и ни злу… Ничтожество я. Промежность. Бога страшусь, но думая, что в том Боге обман сплошной и, в итоге, хам выйдет правым.
Сын чертил танки, пушки и взрывы. Мать с отцом были в кухне. Ел я, показывая, что здоров, как бык, и спешу явить сыну место (где он пусть был, но малым), чтоб объяснить ему, почему наш дом – в Тульской области, в Флавском округе, в некой Квасовке. Мой отец слушал молча, руки на трости; волосы, длинные, точно в створ брали плоское, длинноносое, с ровной линией рта над прямой бородой лицо. Долговяз, как я, он был бит судьбой; в нём нехватка решимости.
– Хворый, – начал он, – едешь. Да ещё с маленьким. Павел, март, снегá, стылость. Вдруг не проедете? Ты неважный ходок в болезни. Надобно всё учесть. Вдруг Григорий Иванович болен, он ведь старик, как я. А второй сосед странный, не поспособствует.
Мать устроила на плечах его руки: скажешь, мол! ведь больной, но отважный – крепче качков! Весь ум её – в темпераменте. В общем, суть её – темперамент. Глядя на убранную причёску, на макияж и на пышный, пусть и старинный, шёлковый, в синь, халат её, скрывший статные, чуть оплывшие формы, и на улыбку, полную живости, я блуждал в её возрасте и в оценке судьбы её: думалось, дива, Каллас счастливая.
– Павел, зря ты, – произнесла она, не снимая с плеч мужа пальцев богини, – зря не позволил вас навестить зимой. Ты болел. Я бы с радостью помогла вам, Нике и мальчику. С радостью.
– Ничего, мама. Ника целует вас.
Она медленно отошла, уселась. – Ты заболел? Чем? Чем, вопрос? Диагностику сделаешь?
Я кольнул вилкой хлеб. – Соматика? Вряд ли. Здесь нечто большее. Хворь лишь следствие. Сомневаюсь я, что мир правилен и разумен… Нет, он разумен – но для кого, чьим разумом? И зачем всё так больно, ну, хоть для нас? Подумал я: вдруг без разума, то есть значит без слов и смыслов, мир стал бы лучше?
– Ты… – отец сдвинулся. – Чушь… Пустое… Мир, он как есть стоит, и другого не будет, сколько бы ни было кантов-энгельсов. Философствовать, если путь в примитивной таблеточке, чтобы, Па… Павел, чуть подлечить себя? – заикался он от волнения. – Оптимизм ваш бессмыслен.
Все ищут смыслы. Смысл, глянь, всем нужен. Но не в том дело… Ел я, гадая, чтó можно чувствовать моему отцу, видя, как разрушается и второй твой сын, как судьба в него катит вал, прежде вмяв в грязь тебя. Не споря, я, кончив ужин, встал и отправился к сыну, чтобы просматривать накаляканные сраженья.
– Как дела? Ты ходил к дяде Роде? – начал я, согласясь сперва, что трансформеры одолели Годзиллу и она дохнет.
– Что ходить? – произнёс он, всовывая лист в папку, где сохранял их. – Лучше сыграем?
Но я не мог играть и направился в ванную посидеть там, чтоб хворь ослабла.
Выйдя, я отворил дверь рядом. Подле кровати, вполоборот ко мне, в инвалидной коляске, у телевизора, был урод с покорёженным туловом: боль родителей, младший брат мой, маленький, тучный, в россыпи шариков и флажков, где многие – с потемневшими древками, с фасом Ленина. Он смотрел на экран, на взрывы. Некогда, сорок лет назад, мать явилась с ним, бледная, и я крикнул, чтоб унесли его, а отец был подавленный. Я, жалевший берёзку, дескать, «одну в степи», всяких мальчиков Диккенса, вечно сирых, вдруг содрогнулся, ибо не чувствовал в нём эстетики. Что он жив и что это превыше, мне не входило в ум. Но эстетика в нём была. И – жизнь была (даже, верно, сверхжизнь, роскошная и с иными чертами, универсальными) в том, что он улыбается, любит травы, игрушки, солнце и шалости, новый год и халву (также дождь, грязь, вонь, слюни, зной и мороз), и праздники, и гуляния, и ныряющий поплавок в реке, любит, чтобы смеялись (впрочем, и плакали, ныли, ели, мочились, били друг друга и обнимались), любит всё годное и негодное, – любит всё, кроме боли, да и её, как знать, вдруг в один ряд со всем кладёт. Я привык к нему. Я его полюбил почти странным чувством.
– Родик, эй, здравствуй.
– Ёлку принёс? Нарядим? – вёл он одышливо. – Где она, эта ёлка? Ну-ка, быстрей неси!
– Принесу, – я лгал. – Что смотрел?
– Бой, война! Бьют вьетнамцев, а у вьетнамцев есть автоматы. И на параде армия, пряма!! Я скоро вырасту и… ать-два вперёд!
Я сказал: – Сходим к маме?
Он, забыв телевизор, сгрёб свои шарики и флажки и всучил мне, что плоше. – На демонстрацию ты со мною? Нам нужен этот флаг… и вон тот ещё. Я возьму красный шарик с жёлтыми буквами; а другие – папа и мама. Выступил Брежнев. Знаешь, сказал что? – Он из коляски, тужась, загаркал: – Здравствуйте! Весь советский народ, ура! Встретим праздники! Производство! И повышение! Слава! Космос! БАМ!! Армия! Коммунизм! Подвиг! Труд! Прогрессивный! Долг! Ленинизм-марксизм! Вдохновляемый партией, в юбилейный год наш советский народ! План выполним! С красным знаменем! Всепобедный! В бой и овации! Миру – мир!..
Время двинулось вспять… С одна тысяча девятьсот девяносто девятого я попал в демонстрацию в честь чего-то при Брежневе… мнились танцы, секс, выпивка; я студентом был месяц, все старшекурсницы мне казались богини… мой трюк удался, и я пристал к одной; мы свернули на площадь, где на трибунах были начальники; в стороне затем я увидел родителей с Родионом в коляске, – видно, приехавших из в/ч нарочно. Это был подвиг: чуть не с утра ждать в толпах праздничных маршей. Он закричал мне, брат, тогда маленький, он был в метрах – но я прикинулся, что незрячий, чтоб не ронять себя кровной близостью с монстром перед избранницей. Тридцать лет спустя я здесь каюсь:
– Я вас заметил. Но я был болен. О, очень болен! – Вряд ли он понимал меня, но сказать было надо: мне – для себя сказать. – Я тогда мало чувствовал, мало. В общем, не так любил и не то любил. Ты позвал меня – я не слышал. Слыша не слышал.
– Я тебя видел, – он сообщил вдруг.
Я промолчал кивнув.
Он спросил: – Кто там? Тоша? Он нехороший.
Я посмотрел в глаза семилетнего мальчика на расплывшемся нездоровом лице. – Да, Родик. Там мой Антон. Мой сын. Вы знакомы. Ты должен помнить. Вы с ним дружили, даже играли…
Он разозлился. – Сын возьмёт шарики? И флажки потом?! Не хочу! Прогони его!
Я постиг: кроме порченных органов, у меня и в душе крах. Скоро всё кончится – как во мне, так и в мире; мы будем врозь с ним.
В комнате сын следил анимации по TV с дивана. Мать стыла рядом, с модным журналом (кажется, с «Vogue» -ом). Трость на коленях, в кресле поодаль был мой отец. Я сел вблизи.
– Утром едете?
– Да, мам.
– Я наготовлю вам.
Даже ей, оптимистке, трудно поддерживать светскость тона. Что-то назрело.
Я смотрел на дешёвую люстру, мутный сервант, шкаф с книгами середины столетия, на диван под белёсой обивкою и на стол в углу, лакированный, но облезлый. В дверь вкатил Родион в коляске и с ходу крикнул:
– Там демонстрация!
– Где?
– Там, Тоша! Я покажу тебе!
Мой сын встал к нему.
Крутанувши трость пальцами, отец начал: – Я тридцать лет служил; в пять вставал, в ночь домой; трудился, только б не в грязь лицом. А в грязи при новациях… Помню, был наш сосед, нач. склада, масло сворует, гречечку. Я – на лекциях к годовщинам, я на учениях, а полковник свиней растит. Вот где ельцинство. Я не мог так. И ведь не только я: много нас, кто рубли презрел как факт прошлого, кто посмеивался над жмотством, кто государственного не брал, жил принципом, жил идеей.
– Ты ведь Кваснин! – язвила мать. – Что равнять себя с прочими? У них рубль – у тебя вера в пленумы да в политику партии и в боярские корни. Честен и нравственен.
– Я служил! Не вменённым манером, не по приказу; совестью. Был за равенство, за народную собственность, за уступчивость денег принципу… Клава, что ты? Здесь человечество обманулось, в сотый раз, в тысячный! Род людской от Адама, мы с тобой, спартаки и коммуны – зря они, если вновь рубль главный! Ты во мне, значит, спесь нашла? Казнокрадов оправдывать? Ты наш век с тобой судишь?
– С брáтиной, – мать листала «Vogue», – чист ты? И не трясёшься ли, как скупой, над ней? Не она ли твоя та гречечка, скотный двор твой? Высший твой принцип что, наша бедность? Внук твой оборванный! О другом я молчу пока… Речь уже – не о чёрном дне, а о чёрном столетии, о конце нашей жизни речь. Но куда там: мы ведь бояре, мы благородны. У Квашниных, мол, дворян сто в службе! Где они?
– Меньше, – вспомнил я из эпистол, что у нас были так же, как брáтина, и какие я выучил. – «У Матвея Иванова Квашнина при царе Иоанне сорок дворян бысть», — я процитировал.
– Нам продать пора, – изрекала мать, – брáтину. Час пришёл. Хоть какие-то суммы вещь эта стоит всей своей древностью?
– Думал, в старости… – произнёс отец. – Нет, причём она? Мелочь… – Редкие и прямые длинные волосы и морщинистый лоб его представляли пророка. – Я почитал наш строй и, того мало, верил, что живу в обществе, о котором когда-нибудь сложат мифы… Да, они были, ложь, террор, были!.. Как с этим в нынешней квази-родине? Лучше ль власть, захватившая собственность? Лучше ль СМИ с носом пó ветру? Лучше ль нравственность? А народ, он стал лучше? Всяк с калькулятором, за копейку убьёт… Как было? Мы не заботились, мы имели шанс мыслить. «Мысля, я есмь», Декарт… Ты, вот, мыслишь, сын, промышляя торговлей? Что ты там мыслишь? А ничего, признай. Нам Чечня одна… – Он умолк и продолжил: – Хоть я не верую, но согласен: мир сей во зле лежит и в нём нет надежд… Мир пора отрицать, – твердил он. – И… большевизма тут мало! Нам коренной, титанический слом бы! Гуннов, вандалов! Нам коренную Россию бы!.. Недоделали… А в итоге – царство вещизма, будь оно проклято… Стань я молод, я бы не знал, как жить… Вам что, брáтину? На-те. Я не умею жить… Может, всё, что за брáтиной, что она воплощает, призрак: русскость, традиции, вера, праведность? Может, главное – сикль библейский? Рубль, евро, доллар? Что, Павел, думаешь?
– Ничего, – я врал.
А ведь мог сказать… Но меня почти не было. Если ж был – то как пень, у которого вряд ли будет побег. Мои ценности, веры рушились. Очищалось ли место новым заветам? Нет. Не случалось во мне ничего; я гнил… Но, при всём при том, укреплялось наитие, что вот так, не ища путь к смыслам, – так много истинней. Думы, пусть и текли, – не в логике общепринятых схем, а фоном: облаком в небе, перьями в речке, вьюгою пó полю. О, я ближе к спасению, мыслил я. Не отец, ослабевший в коллапсах и подчинивший рубль принципу как живущий, скорей, некой догмою, но я ближе к спасению, хилый, выбитый из понятий – и всё же сущий. Я б сказал, что дышу, пока дышится, и вот еду в деревню, – вызвав вопрос его: за чей счёт дышать, ехать? Павел, за чей счёт? Спонсор, я б сказал, Бог есмь… Но я смолчал в ответ.
И прошёл за альбомом.
Вот Квашнины… Мой прадед (в дагерротипе). Он прибыл в Квасовку (он, потомок господ тех мест), чтоб иметь там два дома и сыроварню с мельничным паем. Сын, он мнил, посылая того не в губернию, но в столицу учиться, сын восстановит род… Вот мой дед (фото франта в мундире), именем Александр Еремеевич; кончив курс – на Транссиб; впоследствии – на германскую инженером-поручиком; он писал, что в сражении ранен и удостоился зреть царя, кой расспрашивал, не из «тех» ли он Квашниных, и рад был, что он из «тех» как раз, обещал не забыть его… Вижу деда гонимого за Октябрьским эксцессом. Год мой дед, офицер «из кулачества», регулярно ходил в ЧК для дознаний, плюс кормил с огородика мать, сестёр… Вскрылась встреча с царём и прочее. Дед бежал, но прижиться нигде не смог; возвратился вновь в Квасовку с малым чадом (то есть с отцом моим) и с женой (моей бабушкой) да с газетною вырезкой из «Коммуны Туркмении», где писалось, что «затаившийся бывший царский холуй, сатрап», «гадил красному возрождению» и мешал «построению для туркменских рабочих светлых возможностей»; а к тому же он, «саботируя», сколотил «из отсталых кулаческих лиц вредителей», наконец «стал мешать революции»; предлагалось решительно «вырвать зло пролетарской рукой». На родине дед работал учителем. НЭП закончился, и пошла борьба против внутренних: «кулаков и охвостья». Вскоре приехали; мой отец день запомнил ором и хамством уполномоченных. Капитан царской армии, «адъютант царя», уточнял пролетарский суд, быв «главой монархической шайки», «начал вредительство и лил воду на мельницу недобитков истории». Получив десять лет, увезён был в губернскую (областную ли) Тулу, где и пропал с тех пор. Шестилетний отец мой с женщинами (мать, бабушка) скрылись в ссылку…
Я отложил альбом.
– Да, вот так, – произнёс отец. – Лучше жить не получится. Возлюби судьбу, amor fati… Клава, ты думаешь, что какая-то брáтина – жалкий наш патримоний, даст избавление, деньги, сикль, и мы будем вдруг счастливы?! Нет, злосчастье в роду. И твоя беда, что сошлась с Квашниным, а не в том, что я брáтину не хочу продать! – укорял он. – Выбрав иного – стала б полковницей, а не то генеральшей; и не твоей была б клетка с сыном-калекой да и ещё с одним, повторившим путь Квашниных.
– Я счастлива! – упиралась мать.
А он взнёс на сухой длинной шее плоское, среди длинных волос, восковое лицо с длинным носом и ртом.
– Павел, сын! Заболел ты, я и уверился. Подтвердились догадки: не от случайностей рок наш, и не затеи тут Ельцина, не Октябрь и не Пётр и не эры с их „-измами». Что-то в нас… Нам не быть в нужный час в нужном месте, что обязательно для удач… Цитировал Квашнина ты? Он даровит, наш предок. Но вот его друг в славе – знают Балóтова, как он звал себя, или Бóлотова. Знают. Наш предок – втуне, хоть он Балóтова не дурнее. Истинно, рок на нас. Если ж мы из стариннейших русских – то и все русские, значит, прокляты.
Мать решила пить чай. Когда вышла, я возразил с тоски, папа, ты, мол, неправ.
– Нет, прав, – возглашал он. – Жребий. Рок. Фатум… Строй я карьеру, – до генерала, как открывалось, – что-нибудь бы стряслось, сын. Было б хуже. И нестерпимей. Ибо мы лишние. Главный принцип, он в язву нам, и что прочим на счастье – то нам на порчу. Мне б вместо слов – в полковники. А отцу моему – в Америку. А прапрадеду, кой Петра корил, надо было хвалить Петра. Но мы лишние, мы обочь всех. Мы неуместные. Себя судим. Судим и судим. Так живём, точно видели истину и ничто вокруг на… на… нам не в пример, – заикался он. – Мы в Евангельи правду видели? Много там о любви, незлобии. Но ведь мир-то иной… Как жить, скажи, чтоб и Богу, и миру, если Бог «не от мира» есмь? Мы загадочно сердцем нашим в раю досель – и судить должны как попавшие в хлев рассуждали б от чистого. Но нельзя судить: Бог изгнал прародителей за суд рая добром и злом. И Христос велел не судить. Что главное: Он велеть-то велел – да сгинул. А я внял Троице – и во мне всё изломано, жизнь вразлад. Словом душу сломали мне, и надлом этот, знаешь, на нашем Роде… Прокляты, сын мой, прокляты русские!
Он пил чай. Неспособный исправить жизнь, он внушил мысль о Троице как причине. Но ведь та Троица в словесах вся. Он указал, где враг.
Я включил телевизор – кончить беседу.
Крах Югославии. Свора стран, сбившись в НАТО, силой внушала, кто здесь хозяин, как второсортным вести себя; а недавний колосс, страж мира, кис букой нищей грязной России, жалко вздымавшей тощий кулак… Дебаты: муж с крупным торсом, саженным на ступни (квадрат), пятилетие возглавлявший власть и устроивший кризис, в силу чего смещён, верещал теперь, что, верни его, – «станет правильно»; а второй, лидер тех, кто вцепились в Октябрь, бубнил, что мы в пропасти и Россия «на грани, скоро обрушится»; третий, плод имиджмейкерства, разъяснял смыслы жизни и гарантировал, что при нём, будь он главный, и исключительно лишь при нём, «жди лучшего»; с красноярских просторов, сквозь дым заводов, глыбистый губернатор нёс, что, мол, надобно, всего-навсего, чтоб народ его выбрал, «будет железно»; муж со ртом, гнутым тильдой, всех оппонентов скопом слал к чёрту и заклинал лишь ему «слить власть», угрожая резнёй и войнами, вплоть всемирным потопом.
Лёг я под полночь в нудной бессоннице.
Я не сплю с Рождества, с него не живу по-прежнему… Что испытывал Бог, быв вечно (стало быть, и до Личного Рождества, как я до болезни) и изменивший вдруг Сам Себя входом в мир, как и я изменён болезнью? Он появлялся в мир, когда я уходил. Рождался судить мир – я ж судил его вырождением. Мы поэтому родились день в день: Бог во зло – я из зла сего мира (стало быть, в истину?) … И вот в этом миру, из какого исчезну, где жил полвека, я, как младенец, не разумею вдруг ничего почти, ни к чему не могу приложить свой опыт, но тем не менее должен быть гражданином, сыном и прочее, должен быть Квасниным (Квашниным, поправляюсь), кончить с проклятием, тяготеющим, как отец решил, над фамилией. Ночью должен я спать, днём – вкалывать; ведь старинного, дорождественского меня не выполоть с ходу новому, неизвестному, кем я стал… становлюсь, верней… Я сполз в явь лая псины за окнами, в потолочные промельки, в писк попсы за одной стеной и в обрывки игр сына с чокнутым дядею за другой стеной… Мой брат счастлив, даже и мучась, ибо не ведает мук своих. Также счастлив мой сын, Антон, беззаботный и добрый. Видится, что со мной, кто не мог зарабатывать, оттого бесполезен, он кончит школу и не поступит в ВУЗ, сходит в армию, женится, будет как-нибудь добывать свой грош, пристрастится к пивку, обратится в фана хоккея, станет руглив с женой; и дитё своё баловáть будет изредка; и – стареть будет; тягостно, скучно, пошло стареть… Мне горько. Я чаю лучшего. Но что делать: бизнес бежит меня и при мне не начнут про бизнес, – так отвращаю. Только лишь раз нашло, и я стал деловит, пронырлив – мил, обходителен при всём том, как ангел; я двигал фуры, полные специй, деньги, людей… Всё рухнуло, и я стал, кем и был: мечтателем, подбирающим хлеб по крохам… Чувствую, что не буду спать, как не спал уже месяцы, и что я не усну здесь, в шкурной Московии, одержимой стяжательством и попранием слабого. А я слаб.
Отчего?
Мне вспомнилось.
Мой отец, – род древний, старше Романовых, – появился в 27-ом году в Петропавловске, куда скрылся дед. Возвратились на родину. НЭП закончился; на разрушенной церкви в ближнем Тенявино трясся лозунг: КТО НЕ В КОЛХОЗЕ – ВРАГ! Деда взяли за старый грех («контра», «царский сатрап», «хвицеришка») и за новый, так как письмо услал в Колхозцентр с тем мнением, что, «по мысли крестьян, весь кулак на селе повыбит, а под теперешним, коих так называют, значится труженик…» Дед пропал. Квашниных свезли на ж/д, посадили в вагон. Обрелись в Казахстане, в пьяной, убогонькой Кугачёвке, жавшейся в яме с редкими ивами. В местном бедном колхозе ссыльных гнели. Мать, иссохнув в два месяца, умерла, и с тех пор мой отец жил с бабушкой средь саманного кирпича под крышей без потолка и пола. В школе внушали, чтоб он раскаялся в кровных связях с «врагом»; он искренне, с детским пылом вёл, что не жил бы с «предателем», а пошёл бы к тов. Сталину и, как Павлик Морозов, выдал бы собственного отца… да нет совсем! не отца ему вовсе, а ненавистника всех советских людей, буржуя. «Он был холуй!» – восклицал отец. «Ты, Квашнин, молодец у нас! Мыслишь грамотно! Ты люби, – наставляли, – Родину и товарища Сталина; а ещё, как отрёкшийся от предателя, кто был враг и вредитель, вырастя, ты иди служить в армию, защищай народ».
Так он жил в грязной, пьяной, злой Кугачёвке.
Всю войну бедствовали и здесь в глуши; ели отруби, и солому, и что ни попадя. Он учился в райцентре за девять вёрст от них; он ходил туда каждый день в дождь, в стужу. Чем писать и тетрадки им выдавали, но прекратили от оскудения, и писали огрызками на газетах, все языки – в цвет грифеля. В школе был репродуктор, лаявший, что враг «будет разбит», «за Родину!», массы «рядом с Вождём», мир в «классовых битвах» и человечество «верит в нас»… Мой отец вдруг влюбился в дочь председателя, ей стихи кропал, и красавице нравилось, что ей «гонють поэзю», – гыкала мовой. А председатель: «Хошь, хлопець, дывчину? Ни! Никак нэльзя! Нэ положено. Дочь, на шо сын изменныка? С ссыльным жыты, деток плодыты? Ни! В Колыму сошлють! Хлопець, ты вот упомни, к Галю не хаживай. А вот будэшь хероем – хаживай». И отец стал отличником. В сорок пятом, в июне, школу закончил, бабушка продала скарб, чтоб набрать в город, в Алма-Ату. Он выехал с одноклассником – поступать в институты. Тщетно. А одноклассник прошёл (казах). Плотный потный декан сказал: «Твой отец не хотель наш Совецки власт. И твоя её против, это ми видим. Ми с Куджá, твой товарищ, национальная кадр ковать! Нам казах нада в наш Казахстане, чтобы казах был. Всо, ты иды, иды!» На обратный путь заработал: он был окликнут, и за стеной в саду формовал и сушил кирпичи из глины; там рядом с крошечным рос огромный дом, там полно было уток, персиков, яблок; женщины нянчились с шустрым мальчиком; «Нурсултан!» – звал глава семьи и вручал сыну сладости: шоколад и лукум. Мой отец получил за труд на билеты до дома.









































