Текст книги "Мудрость приксов"
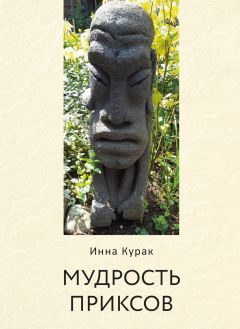
Автор книги: Инна Курак
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Инна Курак
Мудрость приксов
© Инна Курак, 2024
* * *
– Да прославится каждый, кто
Искренен сердцем.
Тегелим 64
– Не знаешь, с чего начать? – хрипотца курильщика из телефонной трубки была неузнаваемой с первых нот. Что вполне понятно – сорок пять лет не слышались.
– Если честно, то да. Хочется без лишней воды во всех смыслах. Да и смыслы определить надо.
– Начинай от бабушек, как говорится, вспомним праматерь, так в галахе написано черным по белому: всё по маме… Вот и давай как положено.
– Ну, раз положено, попробую и я.
В WhatsApp мы писали друг другу, неуверенно переворачивая страницы семейных воспоминаний, – как очутились на разных этажах одного подъезда старого дома в центре Куйбышева наши бабушки, проживавшие до войны в Белой Церкви. Ну кто из нас в юности особо слушает, а уж тем более запоминает подробные детали рассказов своих стариков?! Да почти никто! Волнует сегодняшнее, настоящее время, когда вокруг водоворот событий, в котором чувствуешь себя главным героем. Всё остальное – скучный параграф из учебника истории, который как минимум надо прочитать и как максимум – запомнить. С учётом возрастных особенностей рассказчиков историй они воспроизводились не по одному разу. Следовательно, запомнить их мог любой молодой мозг, даже с минимальным объёмом памяти, выделенной под семейную летопись. Задача-то была простой: слушай и запоминай, чтобы потом муки совести не мучили и не оставалось вопросов без ответов. Как правило, когда это начинаешь понимать, спросить уже некого…
– Слушай, а хочешь, я тебе немного помогу? По-дружески, по-мужски. Так будет вернее. Я начну вспоминать первым. Моя нарциссическая душа требует внимания к герою повествования. Надеюсь, ты сразу определилась с моей ролью Героя?! Когда тебе станет невмоготу молчать, вступишь со своей скрипкой. Договорились?!
Наши папы родились в тысяча девятьсот тридцатом году. Твой в Куйбышеве, тогдашней Самаре. Мой в Проскурове, Хмельницкой области. Потом семья переехала в Белую Церковь, где моя бабушка Роза Давыдовна познакомилась с твоей бабушкой Марьяной Григорьевной. Вернее, Мариам Гершковной. Давай будем называть всех правильно? Сейчас-то можно. Вот моего папу изначально назвали Израиль. Одного не понимаю: за каким он менял Израиля на Айзика во времена «дела врачей»?! Какая разница в этом случае?! И то, и это никак не тянет на имена, ласкающие слух антисемитов. Ты уже хочешь меня перебить?! Пожалуйста.
– Во-первых, ты уже не с того начал. Договорились начинать с женщин. А ты начал с пап, правда, к бабушкам всё-таки вернулся. Во-вторых, моего папу всю жизнь все звали Женечкой, а потом Евгением Ароновичем. Хотя по паспорту он был Зелик. Когда он приехал по распределению директором школы в село Советское, Чувашской АССР, то его вызвали в райком партии, где бдительный чиновник умудрился разглядеть разночтение имен в документах и в жизни. Единственно верным, на тот момент, оказалось решение заподозрить молодого специалиста в шпионаже. Целое дело было. Хорошо, что добром закончилась вся эта идиотская история. Времена не лучшие на дворе стояли. Всё-всё, прости, что перебила. Можешь продолжать.
– Мой папа и твоя мама учились в одной школе, с разницей в классах, кажется, в два года. Потом твои переехали в Киев из Белой Церкви. А вот осенью сорок первого они опять пересеклись на улице Фрунзе, сто сорок, в городе Куйбышеве, который стал запасной столицей Советского Союза. Рядом с нашим домом на площади Чапаева уже был отстроен бункер – девять этажей вниз, для ставки Сталина. И знаешь, Куйбышев долго имел столичный статус: с пятнадцатого октября сорок первого года до начала сорок третьего, когда из города выехало последнее посольство, кажется, японское, – там и информационный центр был, из которого: «Внимание! Говорит Москва. От Советского информбюро…» – вещал Юрий Левитан. Так что все события нашего с тобою знакомства разворачивались в тогдашнем по-настоящему историческом центре. Тоже, наверное, для того, чтобы стать историей. Нашей историей.
Я не знаю, существовала ли детско-юношеская дружба-любовь между твоей мамой и моим папой. Это к вопросу, что узнать не у кого. Но то, что бабушки были в тесном контакте благодаря нам, – факт бесспорный и очевидный. У них столько осталось общего во вчерашнем дне: жизнь до войны в Белой Церкви, дети одного возраста, эвакуация в Куйбышев. Один дом, один подъезд. А в сегодняшнем дне – внуки-студенты, однокурсники медицинского вуза. У Розы Давыдовны имелся замечательный кондуит в виде записной книжки с именами и номерами телефонов почти всех мам и бабушек моих соучеников. Но самым главным информатором являлась Марьяна Григорьевна, благодаря тебе и твоему интересному положению. Потому что у тебя могло быть только два адреса пребывания: институт или дом (вот именно там не всегда можно было обнаружить меня). Ну, а юным беременным не место ни в «Парусе», ни в каком другом близлежащем баре. Почему-то бабушка (моя) считала, что сила жажды, но не знаний, лично у меня превосходит тягу к самим знаниям. Хорошо, что твою тягу к знаниям (ты сдавала досрочно зачёты, чтобы успеть до родов по максимуму) мне в пример не ставили, я бы не смог забеременеть и ходить каждый день на все пары, потому что другие походы были бы недоступны…
У моей бабушки оставалось только маниакальное желание угомонить меня любыми возможными и невозможными способами. Сейчас-то я понимаю, что моё «веселье юных лет», вместе со жгучим желанием находиться одновременно в двух и более местах, было продиктовано наличием синдрома ADHS (юношеская гиперактивность). Сейчас такое наблюдается у каждого второго ребенка, это я тебе как доктор психиатрии говорю. Для меня до сих пор остается загадкой, как мне тогда вообще удалось закончить институт?! Столько искусов было! Так, про искусы не будем, вернемся к бабушкам. Для меня стала привычной картина, которая до сих пор стоит перед моими глазами: Роза Давыдовна, потерявшая всяческое терпение от беспокойства и потому дежурившая в любое время суток около подъезда дома на Фрунзе, сто сорок, встречает меня в не свойственной ей позе разъяренной Фрекен Бок: руки в боки. Без единой запинки она сообщает мне противным голосом декана, какие лекции и практические занятия пропущены сегодня и вчера. Потом прокурорским тоном – в каком баре и с кем (естественно, мерзавцем, потому как тот свёл непонятную дружбу с мальчиком из приличной семьи, которая до добра не доведет этого самого мальчика… следует текст про хорошего мальчика минут на пять). Это только начало первой части монолога, в которой, помимо добытых и подтвержденных фактов моего отвратительного поведения еще были и новые ругательства, не очень свойственные глубоко интеллигентной бабушке, типа «негодяй» и «мерзавец». Кстати, запас ругательств исчерпывался у неё слишком быстро. Обратиться к более крепким выражениям, которых я, безусловно, заслуживал, ей казалось непозволительным.
Вторая часть монолога отличалась абсолютной предсказуемостью об огромной ответственности за меня перед моими родителями, живущими в далекой Тюмени. Этой части монолога могли позавидовать все вместе взятые ученые секретари всех ученых советов в момент представления участников этих заседаний. Бабушка заводила свою Песнь Песней без запинок и оговорок: «Твой папа, профессор Шайн Айзик Абрамович, зав. кафедрой онкологии в Тюмени, главный онколог области, ввел в практику двухстепенные профилактические осмотры для сельского населения. Придумал двухэтапный метод обследования больных с подозрением на первичный рак печени, а заодно и адъювантную химиотерапию при различных локализациях злокачественных новообразований. А ты?! Ты, Саша, что себе позволяешь?! Как мы будем смотреть Айзику в глаза, Саша? Что мы ему скажем? Отвечай!»
Папу, как я сейчас понимаю, в то время больше волновали печени его подопечных пациентов, нежели печень собственного сына, делавшего первые попытки вывести её из строя напитками, не отвечающими никаким стандартам качества. Бабушка была ещё тем партизаном. В её еженедельных отчетах родителям даже не проскальзывали ноты сомнения в моем добропорядочном отношении к жизни вообще и к учебе в частности. Она оставляла возможность для себя гордиться мною в этих междугородних телефонных переговорах. В чем она черпала эти возможности, осталось для меня неразгаданной тайной.
– Слушай, прости, что опять перебиваю… Все эти годы хотела у тебя спросить, правильно ли мне помнятся подробности твоей несостоявшейся свадьбы? Она в моей голове сложилась в рассказ, виртуозно исполненный тобою в пролете между первым и вторым этажом нашего дома в семьдесят девятом году. На восьмом месяце сложно было удержаться, чтобы не сделать лужу от смеха и успеть добежать до единственного туалета коммунальной квартиры. Практически все как в балладе о детстве Высоцкого:
«Все жили вровень, скромно так,
Система коридорная.
На тридцать восемь комнаток
Всего одна уборная».
У нас не 38 комнат было, а семь или восемь, кажется.
Опять на себя отвлеклась, прости. А твой рассказ отличался искрометным фейерверком, сопровождавшим тебя весь период нашего короткого знакомства (другого периода в твоей жизни, к сожалению, я и не знала). И вот что мне запомнилось; ты поправь, если что стерлось или потерялось по истечении времени.
Нарядная невеста крутится перед зеркалом, гости съехались, человек под сто, ждут молодых на специально забронированной под это событие базе отдыха. Ты, посмотрев на всю эту свадебно-целлофановую кутерьму, внезапно принимаешь нестандартное, но вполне обоснованное решение послать всё и всех, включая белоснежно-воздушную невесту, на фиг. Она мимо ЗАГСА, мимо «Горько!», ну и так далее по протокольному сценарию свадебного мероприятия. Зато ты – не мимо. Потому что папино заключение в ответ на твою очередную выходку прозвучало весьма жизненно и прагматично: «Деньги потрачены, сын-шалопай. Ты приехал. А это значит, что будем отмечать. Раз свадьбу не получилось, так твою свободу отметим. Гости съехались. Они не виноваты в том, что у меня сын идиот!»
Как это было исполнено! И как мне было смешно, что такое вообще возможно! И ни тебе скандала, ни слёз… Одно сплошное веселье. Собственно, как всё, что было вокруг тебя в те годы. Мне так казалось… Почти через полвека ты исправил, вернее, внёс поправки в эту необычную, особенно по тем временам, историю. Может быть, это было новое её прочтение, или стерлась в моей памяти старая версия, не могу сказать. Сюжет прежний: свадьба без невесты. Герой – ты. Ты не можешь быть не героем, Саша!
Рассказ от первого лица:
– Может, это и рановато – жениться в девятнадцать без всякой на то весомой причины, ну, в смысле, не по залёту или по какой выгоде меркантильной. Но я так решил. Женюсь.
Объявил родителям. Те почти не причитали, рук не заламывали. Папа включил весь свой административный ресурс. Забронировали базу отдыха на сто человек. Закупили продуктов, в том числе и остродефицитных, не имеющих никакого отношения к тому, что изредка выкидывали на пустые полки советских магазинов даже города нефтяников Тюмени. Естественно, сделали серьёзный запас спиртного к тому, что было дома, с учётом папиной специальности и должности. Как ты помнишь, в те времена врачам принято было говорить спасибо в виде обязательного коньяка и коробки шоколадных конфет. Так расточительно тратился заработанный врачебный гонорар благодарными пациентами. Народ, приглашённый на праздник, имел способности веселиться, да и на грудь принять тоже мог в больших количествах и без плачевных последствий.
«Учись, Санёк, пригодится тебе по жизни… удар держать уметь надо…» – помню все папины уроки. Всё пригодилось.
Как потом выяснилось, родительские друзья съезжались из разных городов нашей необъятной Родины. Дальше как по накатанному: костюмы, платья, кольца и прочие атрибуты свадебной суеты.
Я прилетел из Куйбышева, невеста у меня была тюменская. Кстати, хорошая девчонка была, и есть, наверное. Полный сбор, столы накрыты, ломятся от разнообразия закусок. Видимо, на кухне этой базы отдыха работали благодарные папины пациенты или их родственники. Подход явно прослеживался не стандартно общепитовский. До сих пор помню, как вкусно всё было. Гостей, приехавших издалека, разместили на той же базе. Водка охлаждается в естественных условиях, благо за окном серьезный минус. Скорее всего, со мною тоже какой-то процесс по охлаждению разума произошёл. Посмотрел я на всю эту колготню, на невесту-красавицу, расфуфыренную по случаю, на себя в зеркале в интерьерах туалетной комнаты тюменского ЗАГСа, с вихрами, наспех прилизанными, и глазами заскучавшими… Тут, правда, есть один важный нюанс. Я в зеркале не только себя увидел, но и окно открытое. Видимо, одному из женихов от страха живот скрутило, вот и окно пришлось приоткрыть для проветривания туалетного пространства. Чужой страх, спущенный и унесённый унитазными водами в канализацию, видимо, и спас меня в тот момент от поспешного решения по созданию ячейки общества под названием «семья». Я через окно вышел, не один, а ещё и с чистой совестью, без оглядки и объяснения. Хотя вру. Объясняться пришлось. Для начала с папой. Мне показалось, что он не очень удивился, потому что с каким-то облегчением решительно заявил, что закуска заветривается, водка греется, гости скучают и… В общем, праздник состоялся. Гуляли три дня, только без невесты. Она, кажется, обиделась на меня. Хотя… опять приврал. Мы потом с ней ещё года два встречались после этого неудачного похода в ЗАГС. Она на меня зла не держала.
– Я так подробно это смакую знаешь почему?! Потому что именно таким ты мне врезался в душу и в память, на годы. Ярким мальчиком, с бесконечными нестандартными выходками, доводящими Розу Давыдовну, а заодно и мою бабушку, до частых слёз, бесконечных волнений за твою мятежную персону, производившую впечатление полнейшей безмятежности и радостного ожидания от всего происходящего вокруг. Кстати, все эти события генерировал, в основном, ты сам.
А что, собственно, такого происходило в тот период застоя?! Да ничего! И слава Богу, как видится это сейчас, когда каждую минуту что-то происходит в мире. Наверное, и тогда тоже происходило, но, может быть, не в такой изощренной концентрации. В отсутствии всемирной паутины видится особая прелесть незнания. А так: многие знания, многие печали! Вот что мы имеем сегодня в сухом остатке.
От того нашего общего времени у меня остался только этот памятный эпизод в лестничном пролете, с твоим пересказом о дурацкой недосвадьбе. Ну, ещё остались в памяти пара встреч в нашем овощном магазине, в подвале дома на Фрунзе, сто сорок, куда надо было спускаться по ступенькам, чтобы попасть в мир полусгнивших овощей и всегда отсутствующих фруктов. Если же завозились зеленые бананы, которые потом на расстеленных под кроватью листах развернутой газеты «Правда» с убедительными цифрами достижений народного хозяйства доходили до понятного жёлтого цвета, то об этом можно было узнать по очереди от спуска в подвал до нашего подъезда. Чаще «выкидывали» венгерские, с блестящими тёмно-бордовыми боками, твёрдые яблоки, от которых, если смачно надкусить, в разные стороны летели сочные, сладкие брызги.
В этом подвале я украдкой от своей бабушки ела кислую, одуряюще пахнувшую гнилью, запрещённую мне квашеную капусту. Для меня это было целое действо. Продавщица доставала капусту из огромной кадушки распухшими красноватыми от постоянного контакта с рассолом пальцами, увенчанными траурной черной полоской грязи под ногтями и облупившимся алым лаком на самих ногтях. Этот фирменный маникюр, ставший почти именем нарицательным, запомнился на всю жизнь, как и вкус квашеной капусты из бочки. Он был визитной карточкой тогдашнего времени у сотрудников овощных баз и магазинов с неправильной вывеской: «Овощи – Фрукты». По факту на магазин надо было вешать вывеску: «Гнилые овощи и отсутствующие фрукты». Хотя длинно. Или так: «Консервы из овощей и фруктов». Вполне бы соответствовало наполняемости полупустых прилавков. На этом фоне мы смотрелись карикатурно. Я – в не застегивающейся на животе облезлой серой синтетической шубе, достающая пальцами без фирменного маникюра из мутного полиэтиленового, не одноразового, а много раз стиранного пакета вонючую капусту. Её нужно было быстро запихать в рот и тут же проглотить. Не дай Бог увидят, отнимут. Мне ж нельзя!
И ты – с франтовато повязанным шарфом на шее, со спрятанным в карман драпового элегантного пальто плодово-ягодным вином. Другого не было, это потом ты будешь пить во Франкфурте-на-Майне хорошие рейнские вина и покупать их ящиками. А тогда ты тоже украдкой от своей бабушки нёс эту добычу домой, чтобы вечером распить с друзьями. Кстати, спустя такое количество лет эти интеллигентные, уже почтенные доктора резко помолодевшими голосами при упоминании твоего имени радостно вскрикивали: «Шайн?! Сашка?! Да, конечно, помним! Бухали на Фрунзе, сто сорок!»
Сашка! Это сколько же в тебе было харизмы, что по прошествии стольких лет абсолютно разные люди вспоминают короткие, но такие яркие эпизоды совместно проведенных мгновений. Именно мгновений. Ты как-то быстро улетучился из Куйбышева обратно в Тюмень. Видимо, непосильным оказался груз ответственности за неуёмного внука у Розы Давыдовны. Да и папа, наверное, очень верил в твой гений, Саша!
Удивительное дело, мы с тобою были такой короткий отрезок времени соседями по подъезду (честное слово, единичные эпизоды встреч), однокурсниками с разных потоков (поэтому я не могла быть полноценным информатором для твоей бабушки), а вот сейчас станем соавторами. И тебя, и меня миновала научная стезя в медицине. Нас в разных городах и странах объединило общее творческое начало. Поэтому все, что предшествовало этому, – предисловие и вступление.
Виртуальной встрече было суждено состояться через 40 лет после окончания института. Объявили сбор в чате, стали искать боевых товарищей. Кинула клич. Ты нашелся сложным путем (а что в твоем случае может быть просто?!) через США, которые, как известно, всегда при всём. Вернее, через мою подружку из США, за что ей отдельное огромное спасибо. Она, к моему огромному переживанию и сожалению, сошла с пробега раньше тебя. Она очень переживала, поддерживала, развлекала тебя. Ты же как соавтор не станешь возражать, если мы и её определим в героини? Она у меня теперь навсегда в левом кармашке.
Нам предстояло новое знакомство. Потому что то, что мы есть в свои восемнадцать, – совсем не то, что мы есть в свои шестьдесят три. Нам совсем не подходят последние цифры. Мы сразу это поняли, когда обменялись фотографиями и первыми сообщениями. Нам не пришлось утомлять друг друга ненужными подробностями и пересказом деталей всего того, что произошло в этот отрезок времени длиною в прожитую жизнь. Оно как-то само собою покатилось в разговорах. Конечно, мы читали одни и те же книги. Восхищались одними и теми же авторами. Разумеется, совершали похожие поступки (нам так было предписано их совершать в параллель ещё нашими бабушками, твоим папой и моей мамой). Я узнавала тебя по-новому. Собственно, ты и был для меня новым.
Что значит по-новому?! Старого (вернее, молодого, тогдашнего) забыть у меня не получилось. Ты стал психиатром. А кем ты мог стать ещё?! Лечишь немцев под Франкфуртом-на-Майне двадцать с лишним лет. Считаешь это безнадёжным. У тебя есть хобби. Ты делаешь невероятные скульптуры из неведомого мне камня. Ты не знаешь, как он называется по-русски. Не потому, что корчишь из себя иностранца, а потому что правда не знаешь, как этот материал называется в России, которую ты покинул тридцать лет тому назад. И задаешь мне привычный для вас, уехавших, и нас, оставшихся, вопрос: «А это есть в России?»
Ничего, мы к этому давно привыкли, вернее, не отвыкали даже. Я всегда отвечаю на такие вопросы, что в России, как и раньше, по улицам ходят медведи в картузе с гвоздикой, с балалайкой в лапах, особенно в столицах. Смеюсь глупой, затертой шутке. Отвечаю патриотично: «У нас всё есть!»
Не обращаешь на это внимание и продолжаешь азартно рассказывать про своё увлечение. Про то, что этот камень не такой твёрдый, как базальт, мрамор или гранит. У него много цветов и оттенков. Показываешь мне фотографии своих работ. Слушай, а твои скульптуры – космос. Они фантастические. Во всяком случае, я вижу в них инопланетян с семитской внешностью (видимо, ты не можешь скульптурить другие образы). Оказывается, ты увлёкся этим ещё в юности и даже хотел бросать медицину, чтобы посвятить себя изобразительному искусству.
И пошло-поехало. Я ответила тебе своими куклами, приблизительно с такой же внешностью, что и твои инопланетные скульптуры. Ты мне – фотографиями прелестного сада и дома. Всё рукотворное, сделанное тобою и твоей женой. Я в потрясении. Потому что это действительно очень красиво… И в ответ посылаю опять же таки свой убогий на твоём фоне садик-дворик, украшенный моими горячо любимыми котами и собакой.
Получаю замечательное послание:
«Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами.
Самое интересное – шизоидами.
Самое доброе – депрессивными.
Невозможное – психопатами.
Здоровые почти не вносят вклад в историю».
П. Б. Ганнушкин, «Клиника психопатий, их статистика, динамика, систематика». Не обошлось без твоего заключения: «Здоровые – скучны».
К вопросу о скуке – вспомнился программный анекдот восьмидесятых годов прошлого века. Про мужика, зашедшего в магазин тканей, увидевшего скучающую продавщицу, полки с сукном и штапелем мышиного цвета. Блестящий ответ продавщицы на вопрос: «А есть у вас что-нибудь веселенькое?!»:
– А у нас всё, бля… ухохочешься…
Да, у нас действительно всё, бля, ухохочешься, хоть плачь… Особенно если прицепиться к твоей фразе про «Здоровые – скучны».
Я не стала тогда тебе говорить, что моя американская подружка, которая помогла нам найтись, уже рассказала, как за несколько дней до момента нашей встречи ты узнал о своем диагнозе. И про четвёртую стадию сказала, и про метастазы…
Какое-то время я делала вид, что ничего не знаю, потом как-то вышло само собою, что пришлось это знание обнаружить. Нашлась нужная тональность в общении, для того чтобы обойти эту тему, оставаясь при этом предельно искренними. Удалось, мне так кажется. Не без помощи веры, надежды и любви. Всё хрестоматийно.
Мы так и прожили в плотной телефонной переписке с тобою этот сложный период со 2 апреля по 9 декабря… Вот об этом я хочу написать.
В падающем самолете атеистов нет. Я услышала эту фразу от моей любимой подружки-сестренки, много лет живущей в Израиле. Ей виднее, они там, на Святой земле, всё-таки поближе к Богу.
«В падающем самолете атеистов нет…» – повторила за ней я, прикусив губу, чтобы не разреветься… И началась борьба. Каждый вёл свою войну. На своих фронтах. Наша с тобою общая американская подружка, воссоединившая нас, со свойственными ей упорством и настырностью организовала и мобилизовала всех, кого могла: ультраправых ортодоксов харидим и каббалистов, знакомых и незнакомых равов. В Америке тебя нарекли Хаимом. В той синагоге, в которую ходила она. Почему? Я не знаю. В подробности не вдавалась. А зря. Все случилось по известной уже нам схеме: а теперь и спросить некого. Наша с тобой подружка задействовала раввинов Нью-Йорка и нескольких синагог в разных городах Израиля, но и без Москвы не обошлось. Лично меня она подвигла найти, а потом и находиться в переписке с равом из Новой Москвы. Он попросил написать твоё полное имя, имя твоей мамы. И ты стал в его молитвах Александром Бен Фридой. Он велел мне читать за тебя шестьдесят четвёртый псалом из Тегелима. Знающие и посвящённые мне объяснили, что так положено: количество прожитых лет плюс один. Это твой псалом, который можно читать и тебе, и за тебя. Я пыталась. Честно пыталась, Саш. Не помогло! Чуть было не написала неправильное слово. Сдержалась. Нельзя богохульствовать. Это я ещё пока понимаю. Всё остальное – нет. Включая шестьдесят четвёртый псалом. Вот он. Вдруг кто поймёт. Вникнет, потом доступно объяснит.
«Руководителю. Псалом Давида. Услышь Б-же голос моей мольбы, от боязни врага спаси мою жизнь. Убереги меня от домысла нечестивцев, от бунта преступников. Которые наточили, как мечи свои языки. Приготовили как стрелы, злые слова. Чтобы выстрелить тайно в непорочного – ведь стреляют внезапно и не боятся. Утвердить в злом намерении, договариваются как скрыть капканы. Говорят: да кто прознает? Сочиняют наветы, ведут дознания – вплоть до глубин человеческого сердца. Но поразит их Б-г. Внезапно настигнет их стрела! Споткнутся из-за своего языка. Удалится от них каждый, кто увидит. Все устрашатся, станут вещать о свершениях Б-га, о Его мудрых делах. Образуется праведник Г-споду и станет на него уповать. Да прославится каждый, кто искренен сердцем».
Я благодарна московскому раву за этот псалом. Спасибо, что за чтением Торы просил о Саше, Александре бен Фриде. Жаль, что помогло так ненадолго.
А может быть, это из-за того, Саша, что у нас с тобою есть отягощающие обстоятельства.
Раз пошла такая сложная религиозная тема, давай будем начистоту. Мы с тобою, как и во многом (смотрим выше про наших папу, маму, бабушек) в параллель и в этом. Начну с себя. Меня так папа учил.
Восемьдесят восьмой год. Москва. Садовое кольцо. Садовая-Черногрязская. Частная квартира. Знакомый по Самаре батюшка, потому что подружка юности моей мамы учила его шестерых детей русскому языку во французской школе номер двадцать шесть. Так он оказался духовным наставником не только Розы Борисовны Липман, но и женской половины нашей семьи. Мне сейчас немного неудобно за своё поведение, но думаю, что если бы пришлось пережить это таинство ещё раз, всё повторилось бы сначала. Такое устройство психики, ты как психиатр поймёшь. Просто, как всегда в самые ответственные жизненные моменты, на меня внезапно-вероломно напал смех. Беспричинный и безостановочный, бессмысленный… Да-да, приблизительно как русский бунт. Батюшка совершенно справедливо счел моё поведение неуместным во время таинства и выставил с позором за дверь. В прохладе лестничного пролёта мне все показалось уже не таким и смешным. Отсмеялась и вернулась в комнату. Посмотрела не замыленным глазом на остальных участников таинства, которым на головы вылили святой воды из погнутого старого алюминиевого таза, отчего их сходство с мокрыми курицами с бессмысленным взглядом стало просто портретным… И приступ дебильного смеха возобновился с новой, утроенной силой. Их покрестили. Меня – нет. Оказалось, что со мною надо работать. Батюшка мне всё доступно объяснил. Я со всем согласилась. Мы оба довольные и почти уже договорились о следующей встрече. Тут батюшка некстати решил, что называется, не отходя от кассы заняться моим перевоспитанием здесь и сейчас. Он выступил с короткой лекцией о вредоносном злоупотреблении косметическими средствами, о прекрасной матушке, которая светла ликом без штукатурных глупостей. Я, лично зная матушку, которая ещё и участковым терапевтом моей бабушки была, неожиданно для себя самой и, вероятнее всего, для батюшки возразила: «Ну конечно! Светла ликом! Моль. Моль и есть. Мы же знакомы».
С первого раза не получилось принять православие. Может, это знак какой был. Но меня не остановило. Со второго захода, даже несмотря на отказ исповедоваться, получилось. Взял меня батюшка на поруки. Я не жалею. Я благодарна. Спасибо тебе, Господи! Ну уж не настолько моя душа заблудшая. Просто привычка возражать по поводу и без сцеплена с геном. Тогда просто ума не хватило про себя возразить и ответить, что думалось на этот момент, тоже про себя. С годами стало получаться говорить вслух в основном то, что хотел слышать собеседник, оставляя при этом своё драгоценное мнение при себе.
Ты вот мне написал, что веришь в Бога, но не веришь в конфессиональные традиции, придуманные людьми. Поэтому считаешь себя агностиком. Тебя это вполне устраивает, потому что нет необходимости выбирать между иудаизмом и христианством. Хорошо же ты с собою смог договориться, дорогой мой Саша, Александр бен Фрида. Крещёный еврей – это для тебя нормально. И ты не принимаешь моего издевательского (ну это же не я придумала): еврей крещёный, что вор прощёный да конь леченый. На мои откровения по поводу принятия православия отвечаешь своей историей, отвечая на мой вопрос:
– Сашка, раз твой брак венчанный, значит, ты с крестом на шее?
– Разумеется, с крестом. Я крестился в девяносто третьем году, будучи в Кабардино-Балкарии. В тот период я уже жил в Израиле. А приехал в эти края по приглашению друзей, чтобы отметить вместе с ними какое-то важное событие из их жизни во время одного из многочисленных застолий. Вот тут, уж прости, придётся сойти с так волнующей тебя темы моего православия. Потому что мне очень приятны и дороги эти воспоминания. Как ни странно, особенно сейчас. Я даже запахи тех застолий остро ощущаю. Это был настоящий кавказский стол. Беспощадно щедрый. Сыто-пьяно вкусный. Конечно же, обязательная шурпа, ляпс. Хозяева объяснили, что он просто необходим для поднятия сил, после таких возлияний где их брать-то было?! Это такой концентрированный бульон из парной говядины, с жареными из кукурузной муки галушками. К нему ещё подали тузлук. Знаешь, что это? Это толченый чеснок, соль и приправы, залитые айраном. Кстати, говорят, что отрезвляет. Врут. Это смотря сколько выпито. Мне не помогло. Так вот, находясь в состоянии максимальной заспиртованности, я обратился к гостям с речью, критикующей жизнь в Израиле (в каком бы раю ни жил – всегда найдёшь повод для критики). Был красноречив на тот момент, как Бендер в Васюках. Мать моего друга всплакнула и предложила меня покрестить. Не задумываясь, с радостью согласился. Решение заел гедлибже. Ты тоже не знаешь, что это?! Это домашняя курица, тушеная в сметанном соусе, с пастой из пшеницы. Ну и пошло-поехало: шашлыки, чертлама, кой-далян, эт-хычин… Да не волнуйся ты, не буду я тебе рецепты приготовления рассказывать. Захочешь посидеть с ними в застолье, сама и попробуешь, если когда-нибудь там окажешься. Или у вас в Москве есть такие рестораны? У нас нет. Но только ты водки столько не выпьешь, да и еды не съешь. Особое, скажу тебе, гастрономическое испытание. На следующий день очнулся, когда меня уже макали в купель. С тех пор ношу крест, не поверишь – глубоко осознанно.
А завелись мы на эту тему ещё и в связи с тем, что ты как-то прислал мне картины Томаса Кинкейда. Я тогда удивилась таким выбором художника. Решила даже про него почитать и наткнулась на интересные замечания: он, оказывается, получает вдохновение от религии для своих работ. А я его таким коммерческим китчем считала всегда, репродукции его картин висели в домах у людей, не обладающих не то что изысканным вкусом, а просто вообще вкусом, на мой взгляд. Для меня это всегда картинки для складывания пазлов, а не картины как высокохудожественное произведение. Тем не менее, сам художник видит в своих работах большой морально-нравственный аспект. И считает своей задачей трогать людей всех вероисповеданий, чтобы принести мир и радость в их жизнь через образы, которые он создает в мире своего лубка. Вот на этом моменте я согласилась, потому как его мировоззрение применительно к сегодняшней ситуации меня вполне устроило. Хотя до этого он у меня с тобою никак не ассоциировался. Томас Кинкейд – лубочный китч, скажи, пожалуйста: Художник Света (интересно, что эту фразу от защитил товарным знаком)! А ты, эстетствующий психиатр, Скульптор Мечты, до товарного знака не додумался. Ты мне пояснил, что это жена дала тебе задание подготовиться к встрече Там и построить для вашей совместной Вечности домик в стиле картин Томаса Кинкейда.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































