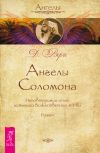Автор книги: Ирина Минералова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Описание и повествование в романной прозе. Эволюция образа неба в романе Е.И. Замятина «Мы»
Жанровый синтез в романном пространстве. Динамический пейзаж. Роль пейзажа в развитии сюжета
Кажется, роман Е.И. Замятина изучен, если не с исчерпывающей полнотой, то все-таки достаточно глубоко, со стороны идеологической– прежде всего (роман антиутопия). В связи с этой именно характеристикой исследователей занимают и черты стиля. Однако «утопия» не исчерпывает всего содержательного плана повествования. Анализ хотя бы одной составляющей описаний романного целого, например образа неба, заставляет увидеть многослойность, многоплановость, многомерность его внутренней формы, явно сужаемой нынешними определениями.
Обратившись к пейзажному описанию[41]41
Вслед за Л.Н. Дмитриевской мы понимаем под пейзажем «многофункциональный художественный образ природы в литературном произведении, обладающий внутренней формой и содержанием, отражающий индивидуальный авторский стиль и стиль эпохи». В романе выявлены доминантные для системы символистов образы природы: неба, солнца, тумана, дома – которые несут в себе многозначную семантику. (См. подробнее: Дмитриевская Л.Н. Портрет и пейзаж: проблема определения и литературного анализа. М., 2005.)
[Закрыть], мы показываем, что роман Е.И. Замятина – мистерия наоборот, в которой автор применяет принцип зеркального отражения. Если традиционно мистерия имеет вектор нисхождения в ад, а оттуда – восхождение к Богу, то в романе Замятина дан путь от мертвой души к ее воскрешению, и затем для автора дневника следует омертвение, для героини I-330 – мученическая смерть ради спасения души. Мистериальный план разворачивается и в сюжете повествования, и в аккомпанементе этому сюжету в описаниях. Так, солнце (розовое, веселое), ясно (в начале и в конце романа) – это смерть чувств, мыслей героя, ясность мертвенности); туман, облака, ветер, буря – пробуждение чувств, любви – жизнь души. Конфликт рациоцентризма, рассудочности и эмоций, кажется, доведен писателем до логического конца.
Солнце в данном случае оказывается не только элементом пейзажа, но и символом (даже аллегорией) Благодетеля, Бога. Е.И. Замятин использует христианский образ, который «нисходит с небес. Он – новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних»[42]42
Замятин. Мы // Избранные произведения М.: Синергия, 1997. С. 327. Далее ссылки на это издание даются в тексте в скобках с указанием страницы.
[Закрыть]; «Благодетель – есть необходимая для человечества усовершенствованнейшая дезинфекция» (346). Небо – образ сознания рассказчика, математика, нумера Д-503. Описание неба появляется уже во второй его дневниковой записи. «Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком…» (238). Ничем не испорченное, «неомраченное безумием мыслей» (240). Сознание нумера Д-503 такое же ясное, как у всех остальных нумеров: «…мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо» (238). Они едины и счастливы в своем единстве: глаза, «отражающие сияние небес, может быть, сияние Единого Государства» (265); «углубленная, строгая, готическая тишина» (265); «солнце – сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное – снизу» (264). Единство в понимании неба гражданами единого государства полемично по отношению к собственно христианскому единению в образе соборности. В соборности доминантна Гётерофония, по мнению П.А. Флоренского, свободное обращение к Богу каждого в отдельности в молитве, в литургии вообще, и общее, объединяющее всех чувство соборного обращения к Богу, когда «Я» и «МЫ» – не легион, а собор.
Туман, облачность – указание на зарождение души нумера Д-503. Не случайно облачность появляется сначала «внутри нумера». Затем она выплескивается наружу, нарастая по мере развития сюжета: «…облако на гладкой синей майолике» (253); «Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью и не видно: что там – дальше, выше» (275); «Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молочно-золотистой тканью, если бы знать: что там – выше? И если бы знать: кто – я, какой – я?» (279). От ясности к ощущению тайны, таинственности, и первый раз нумер осознает себя отдельно от остальных нумеров, первый раз он видит в зеркале отдельные черты своего лица. «Появление облаков» в сознании Д-503 связано с его новой знакомой, нумером I-330.
Образ нумера I-330 – образ революции, в выдуманном Замятиным мире; эта женщина пытается разбудить от летаргического сна дремлющую душу нумеров, провести через туман, через «немое бетонное небо» к солнцу свободы мыслей, свободы выбора (ведь Бог в христианстве дает человеку выбор). Через этот путь проводит Е. Замятин своего героя, с неподражаемым мастерством художника, где каждое слово значимо, ясно, прозрачно.
Д-503 на протяжении романа находится на перепутье двух дорог: первая – это ясный, солнечный, безмятежный мир, к которому он привык с детства; вторая – мир смятенных чувств, мыслей, выплеснувшийся на всю окружающую природу. И все такое привычное, знакомое, а уже другое. «Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло – не наше, не настоящее, это – тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит… и пожилая луна улыбнется чернильно…» (270). Чувственно-душевная старость мира, его рационализм, книжность, выдуманность, неестественность охарактеризованы олицетворением и метафорой.
«…Сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь – туман. Сумасшедшие облака, все тяжелее – и легче, и ближе, и уже нет границ между землей и небом, все летит, тает, падает, не за что ухватиться» (282). Юнифы нумеров сотканы из тумана. Везде туман, и только два нумера, Д-503 и I-330, «Мы шли двое – одно. Где-то сквозь туман чуть слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным» (284). По существу, эти эпитеты – характеристики и внутреннего состояния героев, и мира вокруг – пасхально-праздничного, указывающего на воскрешение души героя в любви: «А без нее завтрашнее солнце будет только кружочком из жести, и небо – выкрашенная синим жесть, и сам я…» (326). Туман становится золотым, «розово-золотым» (285). Впервые туман вынесен рассказчиком в одно из названий своих записей. Д-503 прошел через туман, и теперь утро для него «розовое, прозрачное теплое золото. И самый воздух – чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все – живое: живые и все до одного улыбаются – люди» (290). Цветовой эпитет не только поэтизирует рассудочно-механистически устроенный мир, для него теперь мир вокруг открыт заново, как это происходит в самый главный праздник православных – Пасху.
Солнце как образ Благодетеля, уже не ясное, безмятежное, оно «тускло подымалось, измученное полднем» (291). «Что со мной? Я потерял руль… я не знаю, куда мчусь: вниз – и сейчас обземь, или вверх – и в солнце, в огонь…» (292), «кругом – стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня» (293). Один и тот же образ оказывается наполнен диаметрально-противоположными смыслами. Душа, оказывается, – «неизлечимая болезнь». И вот, когда начинается лечение: «легкие, тяжелые тени от облаков, внизу – голубые купола, кубы из стеклянного льда – свинцовеют, набухают…», «ветер хлопает темными крыльями о стекла окон» (316). Но теперь это не просто нумер Д-503, а человек, у которого проснулась душа, он знает тайну I, это знание подкреплено любовью. И все, что его окружает как бы подернуто пеплом, «вечерний розовый пепел – на стекле стен… иная эта розовость – сейчас очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром – опять будет звонкая, шипучая» (304). Розовый пепел по сути – оксюморон, в нем соединены, кажется, диаметрально-противоположные характеристики: розовый – жизнь, цветение, пепел – смерть, то, что остается после того, как отбушевал огонь: «В глазах у меня – рябь… Я подхожу ближе к свету, к стене. Там потухает солнце, и оттуда – на меня, на пол, на мои руки, на письмо – все гуще темно-розовый, печальный пепел» (305). Что сожжено? Что возродилось из пепла розовым цветом? Отчего печаль? Без сомнения, параллелизм пейзажа небес и пейзажа души делает прозу Е. Замятина поэтичной.
А буря вовне и в душе нарастала, «над крышами метался огромный ветер, и косые сумеречные облака – все ниже…» (317). Сознание проснулось не только у Д-503, на протяжении романа его проявление Замятин сравнивает с метеором (318), а в том мире с «соскочившей на полном ходу гайкой» (318), от которых «вся прогулка застыла, и наши ряды – серые гребни скованных внезапным морозом волн» (319). Чем «гуще» туман, тем отчетливее видит Д-503 окружающие предметы и, наконец, с торжеством восклицает: «Луна, – понимаете?» (321). «Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями (разумеется, это было и все время, но услышал я только сейчас)» (323). Рождение души для героя связано с пробуждением любви, он боится и борется с чувством: «Но почему же во мне рядом и «я не хочу» и мне «хочется»?» Герой молится: «Благодетель Великий! Какой абсурд – хотеть боли» (324). И это так похоже на молитву его предков.
«Ветреный, лихорадочно-розовый, тревожный закат» (325) перед днем единогласных выборов, в день которых «…было, как у древних перед грозой. Воздух из прозрачного чугуна. Хочется дышать, широко разинувши рты» (330), – так встречает день появление Благодетеля. И, «будто пожар у древних – все стало багровым» (331), «тысячи рук взмахнули вверх – «против» – упали» (331). Но ничего не случилось: солнце не стало «четырехугольным» (333), не появились и люди «в разноцветных одеждах из звериной шерсти» (333). «Сквозь потолок – небо по-всегдашнему крепкое, круглое, краснощекое» (333). Появляется образ «немого бетонного неба» (335). Кругом тишина, но наверху уже началась буря: «Во весь дух несутся тучи. Их пока мало – отдельные зубчатые обломки» (347). Что же победит: солнце (утилитарно понятое счастье) или стихия (свобода)?
Но «счастье», «Единое Государство», не дремлет: изобретена формула абсолютного счастья – машина, которая излечивает от фантазии, «последней баррикады на пути к счастью» (353). Д-503 радуется, несет улыбку – как фонарь, высоко над головой. «Там, снаружи на меня налетел ветер. Крутил, свистел, сек. Но мне только еще веселее. Вопи, вой – все равно: теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся чугунно-летучие тучи – пусть: вам не затемнить солнца – мы навеки приковали его цепью к зениту – мы, Иисусы Навины» (354). Сама природа против такой операции: «…там тучи – все чугуннее» (356), «обломки чугунного неба летели» (357), река вздулась, ветер свистит, «весь воздух туго набит чем-то невидимым до самого верху» (358), «хлопает по ветру белое знамя с вышитым золотым солнцем» (359). Стройные ряды нумеров «от ветра колеблются, гнутся» (358). «Как струя воды… разбрызнулись веером» (359), убегая от Хранителей, загонявших нумера на операцию. Ветер достигает своего апогея, его «тугие, хлещущие ветки» (360) окружают «немые свинцовые дома», «ветер гудит – как где-то невысоко натянутая канатно-басовая струна» (362). Образ несвободы, возвращенный сознанию героя как счастье, завершающий повествование, выписан и точно, и емко, и глубоко. Эпитет «чугунный» характеризует одновременно и цвет, и фактуру, и объем, и массу, противопоставляя невесомость живого и безмерную тяжесть оков мертвенного, упорядоченного, регламентированного существования.
Конспективно Е. Замятин повторяет весь путь, пройденный душой его героя, в записи 34, конспекте: «Отпущенники. Солнечная ночь. Радиовалькирия. Полет мятежников, захвативших Интеграл». В начале полета нумерам «жутковато, серо, без лучей» (364), у них «серые, без лучей, лица», «тяжкие, чугунные пласты неба» (366). «Потом – мгновенная ватная занавесь туч – мы сквозь нее – и солнце, синее небо… каплями холодного серебряного неба проступают звезды… И вот – жуткая, нестерпимо-яркая, черная, звездная, солнечная ночь. Как если бы внезапно вы оглохли: вы еще видите, что ревут трубы, но только видите: трубы немые, тишина. Такое было – немое – солнце» (366). «…Бредовая, с черным звездным небом и ослепительным солнцем, ночь» (367). «Запах синих молний» (370), и Интеграл вернули на Землю, мятежников предали. Д-503 снова остается один, «и вот – один. Ветер, серые, низкие – совсем над головой – сумерки» (372), сумерки, которые останутся с ним до «операции». Он совершает «убийство» предателя, но это «убийство» смехом. А вокруг «свитые из ветра канаты» (380), «какой-то огромный, до неба, железный круглый гул…», «мчались, давили, перепрыгивали друг через друга тучи» (379), Стену взорвали (379), «на западе небо каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой – и оттуда глухой, закутанный гул» (382). При последнем разговоре с I-330 наш герой становится чужим для самого себя, «я двинул свои – чужие ноги, задел стул – он упал ничком, мертвый» (384): он предал ее, «на западе ежесекундно в синей судороге содрогалось небо» (384). Пейзаж становится метонимическим, по нему мы уже судим и о происходящем в душе героя. Синий цвет со звездами в православии образ Богородицы, радости всякого человека на земле, ибо она дала миру Спасителя. Так пейзаж указует и на исчезновение этой надежды для героя, на гибель души.
Д-503 бежит в Бюро Хранителей, его сознание, как «небо – пустынное, голубое, дотла выеденное бурей. Колючие углы теней, все вырезано из синего осеннего воздуха – тонкое – страшно притронуться: сейчас же хрупнет, разлетится стеклянной пылью» (384), он рассказал обо всех «врагах счастья».
Операция. «День. Ясно. Барометр 760» (388).
Жрица свободы, стихии, «вихревая, сверкучая», I-330 закончила свои дни «в знаменитой Газовой Комнате», «под Куполом», из которого насос вытягивал так любимый ею воздух: с помощью электродов ее приводили в себя и снова сажали под Колокол (не на кол, как в древних варварских пытках-расправах), так продолжалось три раза «и она все-таки не сказала ни слова» (390). Но Е. Замятин дал в руки I возможность повторения попытки разбудить желание свободы счастья в нумерах. Именно она переправляет О-90, которая ждет ребенка от Д-503, за Стену, теперь будущее станет строить его ребенок. «Раз число чисел бесконечно, <…> какую же ты хочешь последнюю революцию?» (350).
Анализ только образа неба в романе позволяет указать на важные черты стиля писателя: его всемерное стремление использовать возможности и художественного, и жанрового синтеза (соединение прозаических и поэтических приемов развертывания содержания), на особую функцию синестетических образов, способных создать внутреннюю форму художественного целого, в которой мистериальное, дневник и поэма не конфликтны, а взаимообусловлены.
Микромир и макрокосм крупномасштабной прозы. Молитва и песня во внутренней форме романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон»
Произведение в произведении. Функция эпиграфа и стихотворной цитаты в произведениях малых жанров и крупномасштабной прозе
Молитва и песня порознь и вместе в разных прозаических и поэтических жанрах становились феноменами, определяющими содержательный (социально-философский) и эмоционально-чувственный (лирический) план художественного целого. Впрочем, этот содержательный план определялся не столько самим фактом присутствия названного жанра как такового, но характером доминант (народная песня или принадлежащая авторам, композитору и поэту, внутри народной: лирическая или содержащая в себе разного рода эпическое)[43]43
Таково, например, пение Наташи Ростовой и ее молитвенное стояние на службе в церкви. См. подробнее: Минералова И.Г. Любовь, дом и семья в русской литературе // Темы русской классики. М.: Век книги, 2002. С. 27–73.
[Закрыть]. Не случайно в пространстве шолоховского романа-эпопеи они оказываются феноменами, авторски поставленными в многомерность его художественного мира и определяющими строй всего эпического содержания романа.
Заметим, что фрагменты двух старинных казачьих песен предваряют текст первой книги и формируют хоральное настроение повествования. Обе песни ритмико-интонационным, да и всем речевым строем отсылают нас, с одной стороны, к былине (исторический, эпический план): «Не сохами-то славная землюшка наша распахана…», а с другой – к форме и оборотам фольклорного плача: «А засеяна славная землюшка казацкими головами…»; «Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами». Вторая книга также всей композицией указывает на «старинность», и выстаивающая мифопоэтический план эпопейного повествования: «Ой ты, наш батюшка тихий Дон!» (дети батюшки Дона) и «Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи!» (батюшка тихий Дон).
Народная песня, рассыпанная по всему полю повествования – глубинное, родовое, архетипическое таким образом кумулятивно вынесено в эпиграф; старинная казачья – указывает на древность, почти глубинную темь веков в породе и природе казачества.
Но, открывая третью книгу эпопеи, М.А. Шолохов обращается, по существу, к песне, «прерванной» в эпиграфе к первой книге, однако тональность и смысл этого фрагмента иной, уже чреватый возвращением «детей»: «Распустил я своих ясных соколов, / Ясных соколов – донских казаков. / Размываются без них мои круты бережки, / Высыпаются без них косы желтым песком». Мог ли М.А. Шолохов столь многоголосо, Гётерофонически полно (О.П. Флоренский) выразить и внутринародную распрю как внутрисемейную, и душу народа в ее трагедийной сущности, не заставив звучать песенно эту самую душу?
Сейчас трудно об этом толковать, но тот же И.А. Бунин в своей повести «Деревня» нашел, кажется, единственно верный финал, завершая произведение не словами венчальной службы, что было бы вполне оправдано, но метонимически поданной песней «У голубя, у сизого золотая голова!..», которая венчает создание внутренней формы повести, таким образом указывая, что свадьба эта подобна отпеванию, что грядущее чревато смертным холодом, если нет любви. У М.А. Шолохова благодаря песне образ народа и его представителя-«возмутителя» – Григория – всеобъемлющий, лишенный идеализации, как пригоршня воды, зачерпнутая из донской быстрины.
Для Шолохова-писателя важно было (в отличие от современников, стремившихся вместить эпопейное содержание в романы, например, отсылая читателя к библейским в широком смысле ассоциациям: «Хождение по мукам» А.Н. Толстого, «Зверь из бездны» E.H. Чирикова, «Белая гвардия» М.А. Булгакова), указать не на апокалиптическое мирочувствование, а на то, что бунтует в духе и плоти народа, что кажется слиянным и нераздельным и что при всем том вечно и победительно. Заметим, что финал второй книги «уравновешивает» народно-песенное народным представлением о конце времен:
– Притопчем? – спросил казак помоложе, когда могила сровнялась с краями.
– Не надо, пущай так, – вздохнул другой. – Затрубят ангелы на Страшный суд – все он проворней на ноги встанет…
И эта фраза функционирует метонимически, указывая на сокровенный сакральный смысл образа, тем более что он усилен живописным образом часовенки, под «треугольным навесом» которой «в темноте теплился скорбный лик Божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма:
«В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата».
Это и не песня, не звучащее слово, интонационно-ритмически указывающее на некую исчерпанность бунта, – все это «зримо» и «неумолчно», потому здесь стрепета бьются за любовь, за грядущую жизнь.
Напомним, что в песне, «цитируемой» в эпопее, преобладают в основном два чувства: любовь и чувство родины, рода. В этом смысле не случайно такое, Шолоховым выписанное начало рода и любовь его зачинателей и продолжателей; парадоксальность начала этого рода налицо: враги по статусу оказываются семьей по сути.
Пройдет время – и снова из глубин природы, натуры поднимется бунтующая любовь, так часто выраженная в русской песне, казачьей в частности. Но и жертвенность, вольная и невольная.
Через образ песни писатели нередко пытаются выразить сокровенное в душе народа (функция песни у A.C. Пушкина, романтиков вообще, у Н.В. Гоголя, H.A. Некрасова, у них, особенно у И.С. Тургенева в его рассказе «Певцы», выражающем два типа русской натуры: (песня рядчика – удаль, песня Якова «и всем нам сладко становилось и больно»).
У Шолохова в песне доминирует голос родового, еще слиянного с миром, с Доном, как будто бы в самом имени Дон было и значение Дома, а с другой стороны, в этих песнях говорят инициационные момены жизни – любовь, бой и смерть, еще и отсюда в песне – былинный строй и строй плача, а между ними множество вариаций.
Как никто другой, Шолохов «услышал» душу народа в роковые для него времена и сумел неповторимым образом ее запечатлеть, оставшись в широком разливе эпического, эпопейного пространства, избежав в обращении к песне лирического мелодраматизма, «извлекающего» отдельного человека из рода, мира, сосредоточивая его на его самости. У Шолохова при всей живописности, пластичности многочисленных образов, остается их взаимообусловленность, повторимся: хоральность, а отнюдь не последовательно выписанные соло каждого. Таким образом, можно утверждать, что и выбор песен автором указывает на систему персонажей и на их взаимообусловленность в сюжетно-композиционном пространстве эпопеи.
При всей несравнимости художественного почерка Шолохова-эпика и Блока-лирика, масштабов их произведений, доминантное в стиле эпохи обоими выписано тождественно, не равнозначно, но именно тождественно: «Девушка пела в церковном хоре»… – «Плакал ребенок». У Блока создан метонимически по существу образ литургии, но начало и финальная строфа символически обрамляют плотно, едва ли не одними местоимениями воссозданный путь человеческий, и путь этот, эта жизнь человеческая – между песнью и плачем. Так, у Блока образ пения, песни обретает иные смыслы, указывая в песне на доминантное – молитву. Однако в Шолохове нет рафинированности и эстетизма символиста Блока, но есть органическое чувство нераздельности, неотделенности Человека от пуповины Природы.
В молитвах, которые не произносятся, а переписываются, зашиваются как талисман – опять парадокс: несказанности сокровенного и слиянности канонической христианской молитвы и заклинания – изначального и в песне. Шолохов дает три молитвы, молитвы не канонические, «обжитые» народным сознанием, соединившие собственно христианское и архаическое славянское, заклинательное. «Молитва есть восхождение ума к Богу»[44]44
Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993 Т. 2. С. 211.
[Закрыть]; «Молитва по качеству своему есть пребывание и соединение человека с Богом; по действию же, она есть утверждение мира, примирение с Богом…»[45]45
Лествичник Иоанн. Лествица, возводящая на небо… С. 436–437.
[Закрыть]; «Молитва есть вообще возношение ума и сердца к Богу, являемое благоговейным словом человека к Богу»[46]46
Библейская энциклопедия: В 2 т. (Репринт 1891). М., 1991. Т. 1. С. 482.
[Закрыть].
Молитва от ружья[47]47
Текст романа М.А. Шолохова воспроизводится по изданию: Шолохов М.А. Тихий Дон: Роман в четырех книгах. Т. 1–2. М., 1980.
[Закрыть]Господи, благослови. Лежит камень бел на горе, что конь. В камень нейдет вода, как бы и в меня, раба божия, и в товарищей моих, и в коня моего не шла стрела и пулька. Как молот опрокидывает от ковалда, так и от меня пулька отпрядывала бы; как жернова вертятся, так не приходила бы ко мне стрела, вертелась бы. Солнце и месяц светлы бывают, так и я, раб божий, ими укреплен. За горой замок, замкнут тот замок, ключи в море брошу под бел-горюч камень Алтор, не видный ни колдуну, ни колдунице, ни чернецу, ни чернице. Из океан-моря вода не бежит, а желтый песок не пересчитать, так и меня, раба божия, ничем не взять. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь.
Молитва от боя
Есть море-океан, на том море-океане есть белый камень Алтор, на том камне Алторе есть муж каменный тридевять колен. Раба божьего и товарищей моих каменной одеждой одень от востока до запада, от земли и до небес; от вострой сабли и меча, от копья булатна и рогатины, от свинцовых пулек и от метких ружей, ОТ ВСЕХ СТРЕЛ, ПЕРЕННЫХ ПЕРОМ ОРЛОВЫМ, И ЛЕБЕДИНЫМ, И ГУСИНЫМ, И ЖУРАВЛИНЫМ, и дергуновым, и вороновым; от турецких боев, от крымских и австрийских, нагонского супостата, татарского и ливонского, немецкого, и шилинского, и калмыцкого. Святые отцы и небесные силы, соблюдите меня, раба божьего. Аминь.
Молитва при набеге
Пречистая владычица святая богородица и господь наш Иисус Христос.
Благослови, господи, набеги идучи раба божьего и товарищей моих, кои со мною есть, облаком оволоки, небесным, святым, каменным своим градом огради. Святой Дмитрий Солунский, ущити меня, раба божьего, и товарищей моих на все четыре стороны: лихим людям ни стрелять, ни рогаткою колоть и не бердышем сечи, ни колоти, ни обухом прибити, ни топором рубити, ни саблями сечи, ни колоти, ни ножом не колоти и нерезати, ни старому и ни малому, и ни смуглому, и ни черному; ни еретику, ни колдуну и ни всякому чародею. Все теперь предо мною, рабом божьим, посироченным и судимым. На море на океане на острове Буяне стоит столб железный. На том столбе муж железный, подпершися посохом железным, и заколевает он железу, булату и синему олову, свинцу и всякому стрельцу: «Пойди ты, железо, во свою матерь-землю от раба божия и товарищей моих и коня моего мимо. Стрела древоколкова в лес, а перо во свою матерь птицу, а клей в рыбу». Защити меня, раба божия, золотым щитом от сечи и от пули, от пушечного боя, ядра, и рогатины, и ножа. Будет тело мое крепче панциря.
В романе-эпопее Шолохов в соответствии с общим строем художественного целого приводит подлинные, а не «стилизованные» молитвы, на наличие которых указывал еще Ф. Буслаев: «Народная вера приводит к появлению апокрифических молитв и духовных стихов с молитвенной тематикой, которые могли даже заменить это таинство»[48]48
Буслаев Ф.И. Народная Поэзия. Исторические очерки. СПб., 1887. С. 451.
[Закрыть]. Молитвенное, охранное слово в романе, как мы уже заметили, соединяет заговор и молитву, формируя эпические значения ее и, как ни странно, в итоге разоблачая «сверхчувственное», может быть, «мистические составляющие»: «Увезли казаки под нательными рубахами списанные молитвы. Крепили их к гайтанам, к материнским благословениям, к узелкам со щепотью родной земли, но смерть пятнала и тех, кто возил с собою молитвы.
Трупами истлевали на полях Галиции и Восточной Пруссии, в Карпатах и Румынии – всюду, где колыхали зарева войны и ложился копытный след казачьих коней». В этом комментарии не только авторская позиция, его отношение к «зашитым молитвам», сколько трагическое мировидение эпохи, шолоховское следование правде жизни.
С другой стороны, в романе встречаются и молитвы, «вырвавшиеся из самой глубины страдающей души». Напомним, что молитва в христианстве есть и вариация песни, но обращенной к Богу – псалом, песнь сокровенного обращения к Богу.
Этим определяется жанровая и содержательная суть наличествующих в романе молитв, нередко рассредоточенных по всему пространству романа, но аккумулированных в трех данных однократно, затем растворенных в отдельных словечках, фразах, даже кратких обращениях «Господи!», характеризующих и героев, и землю, и жизнь, и страсть. Напомним, что Псалтирь, помимо учительных псалмов (напр. 136), содержит как славословия и хваления (их практически нет в романе), так и простительно-покаянные молитвы, органически включенные в сюжетные линии с трагической доминантой.
По сути, соположение молитвы и песни в содержании эпопеи формирует те смыслы, которые по-своему глубоко и полно выражены М. Волошиным в его «Заклятье о русской земле»:
Не слыхать людей,
Не видать церквей,
Ни белых монастырей, —
Лежит Русь —
Разоренная,
Кровавленная, опаленная.
По всему полю —
Дикому, великому —
Кости сухие, пустые,
Мертвые – желтые.
Саблей сечены,
Пулей мечены,
Коньми топтаны.
Финал эпопеи констатирует и эти значения, но тихий Дон – река жизни, путь вековой, и грешный человек Григорий Мелехов, потерявший и любовь, и веру, держит на руках Мишатку, сына. Отец и сын, как в старинной песне о Доне-батюшке, – живительная, жизненная и жизнестроительная связь:
Чтоб оно – Царство Русское
Рдело – зорилось
Жизнью живых,
Смертью святых,
Муками мученных.
Будьте слова мои крепки и лепки,
Сольче соли,
Жгучей пламени…
Слова замкну,
А ключи в Море-Океан опущу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?