Текст книги "Соблазнитель"
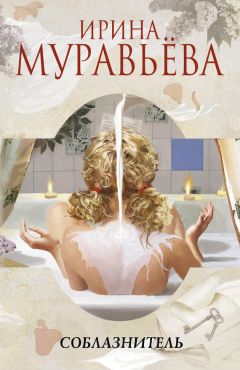
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава IV
Дом, в котором жила старшеклассница Вера со своей бабушкой и изредка – мамой, потому что мама наведывалась не каждую неделю, а ночевать оставалась все реже и реже, был в десяти минутах ходьбы от метро «Спортивная». Это была громоздкая сталинская постройка с большим, заросшим липами и кленами двором. Зимними ночами покрывались слегка синеватым льдом голые и обездоленные деревья, отчего двор сразу становился хрустальным, и хрупким, и словно молящимся, поскольку не все его ветви глядели на землю, а некоторые замерзали причудливо, поднявши наверх свои длинные пальцы. Лифт в доме часто не работал. Но ужасно не то, что он не работал, а то, что он застревал между этажами, и в кромешной, позвякивающей железными цепями темноте висели в потухшей кабинке почти задохнувшиеся пассажиры, крича голосами, похожими часто на тонкие птичьи и на комариные. Никто, однако, не спешил им на помощь, потому что редко открывались двери квартир, жители были по большей части старые, неуклюжие, несколько даже пугливые. И те, которые висели в темноте кабинки, хотя и вылезали, в конце концов, живыми, румяными, в полном рассудке, но потрясения не выдерживали и многих потом выносили из дома, накрытых простынками и неподвижных. Соседи печально смотрели из окон, но мысль, что и их понесут точно так же, пока что не всех посещала. А странно. Верину бабушку, сильную, но полностью сосредоточенную на материальных ценностях, эта мысль не посещала никогда. Бабушка словно и не подозревала, что она умрет, и, судя по своей властности, намеревалась жить вечно. Так думал любой, кто с ней соприкасался, а ведь ошибался. На то мы и люди. Воспитав дочку в уважении к семейному достоинству и, главное, верности (да, это главное!) – и видя теперь, как ее надувают, и как она плачет, и как она бьется, и как Переслени калечит ей жизнь, просила несчастная бабушка Бога, чтобы Он забрал ее лучше к Себе, лишь только не видеть бы этих страданий. Однако потом она вдруг вспоминала, что ей с высоты будет только сподручней вести наблюдение за Переслени, а что уж касается Лары – тем более. А стало быть, там ей покоя не будет.
– Ларочка, ты такая привлекательная, – повторяла она дочери, – за тобой столько ухаживали и будут ухаживать. И предложения у тебя будут и…
– О Господи! Я не могу!
Дочь хватала любой бесполезный предмет, вроде нитки, свисавшей со стула, и, всю эту нитку зачем-то себе намотав на мизинец, глаза поднимала на мать:
– Не могу-у-у!
– А ты вот смоги! Вот другие-то могут!
И спор обрывался.
Напрасно, однако, запутавшаяся в жизни Лариса Генриховна не прислушивалась к тому, что ей говорили. Тем более кто говорил? Мать родная. Ведь именно она и заметила перемену в поведении Веры, и совпала эта перемена как раз с появлением во дворе совершенно посторонних людей, к тому же иностранцев. Сборная бригада, составленная силами трех стран: Турции, Сербии и Болгарии, занялась ремонтом их прочного, немного угрюмого дома. Зима была в самом разгаре, но солнце слепило как будто весною, и не привыкшие к русскому холоду приезжие, поначалу отчужденные и молчаливые, постепенно вошли во вкус своей работы, бойко стучали, таскали, бурили и красили синею краскою стены. При этом уже говорили: «привет», «а мне западло», «послал бы тебя» и «Европа».
Жители сталинской постройки отнеслись к усатым и кудлатым чужим паренькам с почти материнскою заботой.
Есть определенная душевная странность в русском народе: с одной стороны, привык русский человек очень ругать иностранцев и обзывать их, например, совсем некрасивыми словами, вроде «черножопые» или «косоглазые», но, с другой стороны, есть и какая-то сентиментальная, до странной слезливости даже, внезапная к ним расположенность, как будто вот хочется вдруг обогреть, к груди своей щедрой прижать паренька, хоть он «черножопый», хоть он «косоглазый». Загадочны мы и весьма необычны.
Наблюдательная бабушка Переслени сразу заметила, что с появлением во дворе черноусых и чернобородых рабочих ее драгоценная внученька стала какой-то развязной и нервной при этом. Откуда же было понять ей, что Вера, худой, золотоволосый подросток, вообще на них не обратила внимания? Ее-то ведь мучило только одно: он что, разлюбил меня? Он разлюбил? Когда одичавшая взрослая женщина, уже и лицо подтянувшая дважды, поскольку оно начинало сползать, воскликнет, поднявши глаза к облакам: «Как так – разлюбил?» – ее можно понять. Прошла золотая пора, хризантемы в саду отцвели, и акация тоже. Но девочка в самом рассвете своей едва распустившейся женственной силы должна бы у мамы спросить и у бабушки совета в таком деликатном вопросе. И мама, а также и бабушка Вере должны были бы объяснить, что учитель, во-первых, не пара ей, а во-вторых, забудь поскорее, что он там болтал, бессовестный и безответственный, надо его посадить за решетку, и все, а ты еще, дурочка, уши развесила! А если он вновь к тебе сам подойдет, то я тогда сразу в милицию, слышишь?
Поэтому Вера молчала как рыба, и молча терзалась, и плакала только, когда была дома одна или ночью. Лариса Генриховна кружилась, вертелась, сама хуже девочки, сдергивала и надевала на указательный палец левой руки серебряное кольцо с массивным желто-черным балтийским янтарем, что говорило о том, что она находится на пределе сил, но сдаться не может и будет бороться. Да, мама кружилась, вертелась, дрожала вокруг центра маминой слабой вселенной – мужчины, отца ее дочери Веры, который ничем не участвовал в дочери, вернее сказать, в воспитании дочери, а только мог ей передать свои гены, которые лучше держать при себе.
С бабушкой было еще неуютнее, чем с мамой, именно потому, что бабушка никуда не отлучалась. Насколько мама была рассеянна и далека, настолько близка и сосредоточенна была бабушка. Временами она так въедливо смотрела на Веру, как будто хотела залезть ей под кожу. Но Вера крепилась. В самом начале осени, когда этот ни на кого не похожий Бородин вдруг так изменил ее жизнь, что скрыть эти перемены было невозможно, и случалось, что Веру охватывали и восторг, и страх, и отвращение ко всем, особенно к мужчинам, и дикая нежность к родным, и желанье сейчас же, сию же минуту увидеть его, а потом умереть, и пусть он придет на могилу с цветами, и пусть все увидят, как он будет плакать, и ляжет на землю, и будет смотреть часами на памятник, где фотография (а взять лучше ту, где она в красном платье!) – когда это все подступало, и бабушка, с испугом прислушиваясь к бормотанью и шепоту вместе с русалочьим смехом, стояла под дверью, не зная, что думать, то разве могла она хоть на минуту расслабиться и задремать над вязаньем? Конечно же нет, не могла, не дождетесь.
Спросила:
– Над кем ты, Веруся, смеешься?
На что ей Веруся никак не ответила.
А вскоре такие дела наступили, что бабушка выпила всю валерьянку, и валокордин, и пустырник, и ношпу. Теперь Вера не улыбалась, а молча как будто бы вся уходила под лед, и темно-зеленая с черным вода, живущая там, подо льдом, становилась уже не водою, скользящей и сильной, а твердым, как кость, продолжением льда. И так с каждым днем: глубже, глубже и глубже. Врастала в себя, все в себя, все в себя. Она застывала.
И бабушка, женщина властная, сильная, во всем, как всегда, обвиняла Ларису:
– Но как же? Ведь люди живут и без этого! Ты правда не можешь? – и хмурила брови.
– Без этого я не могу, – отвечала ее эта блудная, бедная дочь.
Представить себе, что и Вера идет по шатким следам материнским, равнялось тому, чтобы взять и поджечь свой собственный фартук, а с фартуком – волосы. Возникнет боль адская и нестерпимая. Поэтому бабушка не обобщала и насмерть боялась любых обобщений. Зато она к слову сказала Ларисе, что Вера, похоже, больна, как отец. Такие же вот настроения мрачные, депрессия, слабость, и нужно лечить.
– Когда ты заметила? – дочь побелела.
– Да месяца два уже, если не три, – ответила мать.
В институте имени Бурденко у миловидной, хотя и замученной жизнью с Марком Переслени Ларисы Генриховны работал друг ее детства и юности профессор Аксаков, Иван Ипполитович, когда-то давно проживавший с ней рядом, в соседней квартире. Их роман, полный огромных букетов сирени и крохотных букетиков ландышей, которыми десятиклассник Ваня Аксаков забрасывал Лару Поспелову, продолжался всего один месяц, когда во всю силу цветет и сияет сирень, кружа головы и Подмосковью, и даже чванливой столице, но ландыши ей не уступают в своей популярности. Ваня Аксаков обломал сирень со всех дачных участков Загорянки, где он готовился к выпускным экзаменам. С Ларисой, заваленной этой сиренью, они целовались под запах ее, как люди целуются только под музыку. Дальше поцелуев дело не пошло, поскольку (сказала же я!) шли экзамены, и Лара готовилась на философский, а Ваня большими шагами спешил в объятья родной медицины, отставшей слегка от прогнившего Запада. Любовь их завяла, увы, оттого, что хитрый и наглый юнец Переслени заметил Ларису на Чистых прудах. Наставшее утро застало их вместе, уже, разумеется, не на прудах, а на Воробьевых горах, где бывает, что и удается приткнуться в кусты и там провести свою первую ночку. Веселый невыспавшийся Переслени пел прямо с колен бывшей девушки Лары, поскольку лежала его голова как раз на коленях ее в это утро.
И Лара смеялась и плакала горько. От счастья ведь плачут, не только смеются.
Ваня Аксаков, в прилипших к его потной спине лиловых соцветьях – сирень осыпалась, – звонил и звонил, а Ларочка не подходила. Тогда он, все с той же сиренью в руках, и в тех же ее лепестках на спине, и с запахом той же сирени под мышками, примчался к ней в город.
Вот говорят: детские травмы, детские травмы. Все в мире, включая и взрывы, и бомбы, и их испытания на побережьях, – все только от этих ребяческих травм. А я возражаю: неправда! Вернее – неполная правда, не вся. Пускай ты уже не в пеленках, горячих от свежей твоей, родниковой мочи, пускай тебе даже не три, не четыре, а все восемнадцать – и что? Разве легче? Напротив – ты хуже ребенка, слабее, и травма твоя может так повернуться, что жизни не хватит, чтоб справиться с нею.
Именно такая травма, определившая судьбу будущего профессора и заведующего кафедрой нейрофизиологии и знаменитого во всем мире ученого, ждала Ивана Ипполитовича Аксакова в момент, когда Лара Поспелова, с распущенными и переброшенными на правое плечо ярко-золотистыми волосами, порывисто открыла ему дверь. Она открыла ему дверь, и он сразу увидел, что это не она. К такой, какою она была сейчас, когда стояла перед ним, наматывая палец на одну из своих отбившихся ото всех остальных волос прядей и словно бы вся задохнувшись от бега, к такой незнакомой и невероятной, такой ослепительной Ларе Поспеловой Аксаков Иван не имел отношения.
– Ах, Ванечка! Ты! – прошептала она.
Она прошептала, как будто и не было ни этой сирени, ни ландышей белых, ни их поцелуев, ни их разговоров, ни даже того, что и мама Ивана, сама педиатр, к тому же известный, всегда говорила, что Лара Поспелова родит ей когда-нибудь внука и внучку. И мама (к моменту тому, значит, бабушка) начнет и лечить этих пухленьких деток от разных болезней.
Она так сказала, и он отступил. И он – о, бедняга! – случайно взглянул ей прямо на грудь под цветастым халатиком. И сразу почувствовал, что эта грудь была нынче ночью в каких-то ладонях. И кто-то ее и сжимал, и давил, кусал ей соски и дышал своим ртом в ее лучезарную плоть. Лучезарную! Поскольку он, Ваня, не смея коснуться и пальцем груди ее, только однажды увидел, насколько она лучезарна. Случайно, невинно и непреднамеренно. Лариса снимала свой мокрый купальник, стояла спиной за кустом и немного склонилась налево, сдирая с плеча бретельку какую-то. Он и увидел. И был ослеплен, ошарашен, раздавлен. Сверкнуло в кустах что-то, словно крыло недавно рожденного ангела, словно стыдливая лилия из тростников, короче, сверкнуло какое-то чудо.
– Ванечка, – быстро и нежно, как ребенку, сказала она, – мы больше не можем встречаться.
– Не можем? – спросил он разорванным, жалобным голосом.
– Не можем, – ответила твердо Лариса. – Я, Ваня, люблю одного человека.
Он бросил сирень на порог и ушел. Потом была свадьба. Он видел, как Лару жених ее вынес, всю в белом, воздушном, и так, на руках, нес до самой машины. А Ваня стоял и смотрел из окна.
Никто, даю вам слово, ни одна живая душа не подозревала, что почти сорокалетний, очень породистой внешности профессор Иван Ипполитович Аксаков не полюбил после этого ни одной женщины или девицы. А все потому, что была эта травма. Она его как пополам разрубила: была жизнь до Лариной свадьбы и после. Иван Ипполитович избегал женщин, но, будучи умным и дипломатичным человеком, не давал им возможности уличить себя в этом. Он просто дружил с ними так, как с другими. В конце концов, есть ведь мужчины, собаки, старухи и птицы, не только ведь женщины. Работа поглощала его целиком, и действительно то, что Иван Ипполитович открыл в очень запутанной и туманной области нейрофизиологии, не подается никакому, даже и самому благодарному перу. При этом случались, конечно, и связи. Из области чистой и грубой телесности. Сходился без всяких букетов, подарков, без слов и без дрожи. Сходился и брал. Но только в том случае, если знал точно, что дело не пахнет любовью и нежностью. Потом забывал, как ножом отрезало.
Первые годы учебы во Втором медицинском он старался как можно меньше сталкиваться с Ларисой Поспеловой, которая так и не стала философом, потому что у нее времени не хватило поступить на этот слишком серьезный и не нужный простой девушке факультет. Да и сама Лариса не стремилась поддерживать отношения с прежним возлюбленным, поскольку вся жизнь ее в браке была несчастливой, загубленной жизнью, и Ванечка все это знал. На то была мама его, педиатр, которая, с грустью взирая на сына, дружила с суровою Линой Борисовной. А Лина Борисовна не собиралась скрывать от всего человечества правду о зяте своем, драматурге, мерзавце.
После окончания аспирантуры и двухгодичной стажировки в Лондоне блестяще образованный, с аккуратной бородкой вокруг доброжелательного лица Иван Аксаков купил себе квартиру на Плющихе, а маму (старушку уже!), педиатра, оставил жить здесь, на «Спортивной».
Во вторник утром шестого, если не ошибаюсь, марта Лариса позвонила Ивану Ипполитовичу (и он побледнел, чуть не выронил трубку), сказала, что им нужно встретиться. И встретиться срочно, по важному делу. Касается Верочки, Лариной дочери. Иван Ипполитович сглотнул соленый ком, немедленно образовавшийся в том месте под кожей, где нежные кудри бородки редеют и сразу видны даже мелкие пятнышки, сказал, что готов хоть сегодня, хоть даже сейчас, ну, минут через двадцать.
Через полчаса они встретились в ресторане «Колесо времени», чудесно расположенном в Орликовом переулке. Иван Ипполитович подъехал на своем «Мерседесе», а Лариса Генриховна на такси, так что она даже опередила его, поскольку таксист был лихим, а Аксаков – весьма осторожным, спокойным водителем. Ничем не выдал Иван Ипполитович своего волнения, когда приблизился к Ларисе Генриховне и ласково улыбнулся ей, и только когда Лариса Генриховна, подтянувшись на красных лакированных каблучках своих невысоких сапог, поцеловала друга детства в щеку, он крепко зажмурился, словно боялся заплакать.
Грош мне была бы цена, если бы я не воспользовалась случаем и не сказала несколько слов об этом ресторане. Я там не была и, быть может, не буду, но сердце мое говорит, что в старинном, засыпанном снегом, с дворами, в которых качели скрипели от холода, месте не станут кормить всякой дрянью. Возьмите хоть вот «Композицию Сырную». Там этих сыров сразу пять: камамбер, гауда, грюе, чеддер желтый и белый. А может, еще что, всего не упомнишь. А папарделле из лосося? Да чудо! Бекон, запеченный в орехах кешью? А чай из брусники и собственной мяты? Капустный пирог? Но, главное, там было тихо, спокойно. Никто не горланил, не пел, не плясал. И официант был любезен, улыбчив, причесан красиво: с пробором, который его небольшую и славную голову делил на два черных, слегка маслянистых и пахнущих нежным шампунем куска.
– Лариса, тебе здесь удобно? – спросил и откашлялся мягко друг детства. – А то пересядем поближе к окну.
– Нет, Ваня, мне здесь хорошо, – сказала она. – Я здесь не была никогда. Так уютно.
– И кормят отлично. У них запеканки такие, Лариса, что… Да не одни запеканки. Ты кофе?
– Я – да, Ваня, кофе.
– А я буду чай. А что будем есть?
– Ты, Ванечка, знаешь, я есть не хочу. Кусок просто в горло не лезет.
– Лариса! – И он положил свою крепкую руку на правую кисть ее нежной руки, закрыв обручальное сальное золото. – Я знаю, тебе нелегко. Но ты все же, Лариса, взгляни на меню. Например…
И вновь он не выдержал: крепко зажмурился, поймав ее взгляд.
– Да мне все равно, – прошептала она. – Возьми сам, что хочешь.
Официант с косым пробором терпеливо ждал, пока Иван Ипполитович, покашливая и недоуменно приподнимая брови, заказал камчатского краба, запеченного в филадельфийском сыре, салат с желтой свеклой, опят подмосковных с телятиной свежей и белых грибов с той же свежей телятиной, но с фирменным соусом. Чай, кофе уже принесли.
– Я слушаю, Лара, – сказал ей Аксаков.
Лариса Генриховна сразу заплакала, и ее ненакрашенные, карие с голубизной глаза, красивее которых Иван Ипполитович, объездивший мир, ничего не встречал, совсем стали мокрыми.
– Ваня, ты ведь в курсе, что Верочкин отец… Что он, так сказать, человек непростой… И врач его даже сказал мне, что он… Ну, он с отклонениями… Вот. Органическими.
– Я знаю, – вздохнул знаменитый профессор и горько сглотнул под бородкой слюну. – Не трать лишних слов, не терзай себя, Лара.
– Она росла легким спокойным ребенком. Я не смогла уделить ей много внимания, Ваня. Мой грех, разумеется, так получилось. Но мама и папа, да, папа особенно, они, Ваня, сделали все, что могли… И вот мы заметили с мамой сейчас… Она стала просто другой! Совершенно.
– Симптомы? – спросил он, слегка побледнев.
Она перестала смеяться.
Не хочет ни с кем ни о чем говорить. Вот в школу вставать… Мама будит ее, а она говорит: «Не пойду я, отстань!» И что можно сделать? Сидит целый день, ест один шоколад. Теперь стала краситься. А для кого? Накрасится и снова дома сидит.
– Какой-нибудь мальчик? Сосед, может быть?
И оба они покраснели и сникли.
– Да нет там соседа, – шепнула она. – Там турки с болгарами. Лестницу красят.
На вилке Ивана Ипполитовича мелко задрожал подмосковный опенок.
– Лариса, я врач. И я должен сказать, что все эти, Лара, психологи, эти… Весь этот их психоанализ проклятый – одно шарлатанство! Одно! Ты поверь. Вот парня вчера привезли из Читы. Простой совсем парень, баранку крутил. Авария. Бац! Еле выжил. Но выжил. И начал творить чудеса. Увидел на улице стаю волков. Места-то ведь дикие, ссыльные земли, а волки голодные. И говорит: «Взмахнул я рукой, а они-то попятились. Взмахнул я опять, а они побежали». К тому же предметы глазищами двигает. Посмотрит на чашку, а та – вжжик! – поехала!
– Ты, Ванечка, шутишь? – спросила Лариса.
– Какое там «шутишь»! Я рад бы шутить! Схватили, ко мне привезли. «Чудеса! Профессор Аксаков, вы только подумайте! Ведь это весь мир взбудоражит!» Смотрю. Обычный верзила. Ни «бе» и ни «ме». «Ну что?» – говорю. «Ничего. Христа часто вижу». – «Где видишь?» – «Везде. Вчера в гастрономе, вон, видел». – «Христа?» «А то! – говорит. – Ясно дело: Его». – «И что Он там делал?» – «Что-что? Ничего! Он в кассу платил». – «Ну, давай, – говорю, – подвигай мне что-нибудь». – «Что?» – говорит. – Что можешь?» – «Да все я могу. Хошь тебя». – «Ну, двигай». Стоит. Красный стал, как арбуз. Глаза побелели. Старался-старался. «Он не в настроении! Очень устал! Москва на него как-то действует плохо!» Ну, это коллеги мои. Им ведь что? Сенсацию бы и народу побольше! Проверили мозг: там одни очаги. Короче, больной человек, шизофреник.
– При чем же здесь Вера?
– Она ни при чем! Я только к тому тебя хотел подвести, – Иван Ипполитович мягко закашлял, – что нужно сначала проверить ей мозг. Сделать эхоэнцефалограмму. Не больно, не трудно. Но по крайней мере можно будет исключить самое неприятное, то есть, Лара, органические изменения ткани, которые, я уверен, к сожалению, присутствуют в тканях твоего… – запнулся и вздрогнул, – отца ее, Верочки.
Белая, как скатерть на ресторанном столике, любимая женщина, ради которой Иван Ипполитович готов был песок целовать при условии, что там отпечаток, на этом песке, ноги ее или хотя бы, краснее, чем кровь, каблучка, любимая женщина грустно молчала.
– Ларочка, – профессор зажмурился, – если бы ты тогда…
– Что «если бы», Ваня?
– Да нет, ничего. Нужно просто обследовать. Все сделаю сам. Безболезненно, быстро. Тогда и решим.
– Хорошо, – она, не сдержавшись, заплакала. – Ваня…
На том разговор их закончился. Официант с косым пробором, удивленно получивший на чай втрое больше положенного, убрал совершенно нетронутое блюдо с телятиной свежей под фирменным соусом, а также и блюдо с опятами.
«Ишь ты! – подумал он бегло. – С морды голодные!»
На следующее утро Лариса Генриховна с дочерью Верой, глаза которой были уже не серебристыми, а черными от злобы и в груди, на том месте, где положено быть чистому и деликатному девичьему сердцу, пылал жаркий уголь все по той же причине, пришли на обследование. Иван Ипполитович, перед которым все расступались, пока он дошел от своего кабинета до приемной, полной пациентов с выкатившимися от изменений в мозговой ткани глазами, с тиками, от которых тела непроизвольно содрогались, с вывернутыми шеями и другими серьезными признаками поразившего их заболевания, поморщился с явной досадой, увидев, что Лара и дочь ее Вера находятся в этой печальной приемной.
– Да как же! Просил ведь: ведите ко мне! Давно вы тут ждете?
– Нет, только пришли.
Лариса смотрела испуганно, а Вера, напротив, с презрительным гневом. Иван Ипполитович хотел было погладить ребенка по голове, но вся голова была в мелких кудрях, покрытых каким-то составом и жестких, а взгляд, полоснувший его по лицу, отнюдь не был детским, приветливым взглядом.
В комнате белокурая медсестра, похожая на голубицу и носом, слегка розоватым, и голосом клекотным, тотчас усадила ее на кушетку и сам Иван Ипполитович, осторожно высвобождая участки кожи между налакированными и мелко завитыми волосами, опутал всю голову Веры железками, которые он проложил снизу ватой, как делают это под елкой с подарками. Он возился над нею и сопел от напряжения и страха сделать ей больно, а она смотрела на его белый халат, на пуговицы, на ниточку, повисшую с воротника, и думала: «Что, если взять и вскочить? Погонится он за ней следом? Конечно. Ведь он же, бедняга, влюблен в ее маму». Она ненавидела всех: и его, и с розовым носом его медсестру, и маму, и бабушку Лину Борисовну. Но больше всего было злобы и ярости в том месте, где прежде сгущалась любовь. Там был Бородин. Ах, не надо про дочку! Болеют и дочки, и внучки болеют! Ведь не умерла же она? Нет, жива. Тогда почему он не смотрит в глаза? За что он ее избегает? И разве она виновата, что дочка болеет?
Ну, пусть избегает, – она поняла бы. Но если бы он хоть бледнел или таял! Была бы надежда, что он что-то чувствует. Но он равнодушен был, хуже моллюска. Он стал незначительной серою частью всего безразличного серого мира и слился с ним так же, как мелкий моллюск сливается с серой морскою водою. А кто же стоял тогда на остановке? Смотрел голубыми своими глазами? Чей рот был тогда пересохшим, бескровным?
И кто ей сказал: «Я женюсь на тебе. У нас будут дети». Не он, да? А кто?
Иван Ипполитович, профессор медицины, между тем закончил свой труд и оглядел горбатую, рогатую и колючую Верину голову с таким наслаждением, словно бы это была не головка красавицы школьницы, а зверя, которого кто-то поймал и он теперь жизнь отдает за науку.
– И сколько же мне так ходить, дядя Ваня? – спросила она хладнокровно и кротко.
– До пятницы, – быстро сказал он. – До пятницы.
– Всего-то? – она улыбнулась. – Всего-то?
Усадив их в такси и заметив, что шофер с опаской посмотрел на бледное женственное и злое существо с забинтованной башней на месте головного убора, Иван Ипполитович сунул ему четыре бумажки, и шофер, глаза у которого сразу же стали спокойно-безразличными, умчал его радость, любовь целой жизни, с ребенком, которого он изуродовал. Хотя не надолго, всего лишь до пятницы.
Поддерживая Веру за локоть, Лариса Генриховна вышла из лифта, и тут же они столкнулись с молодым строителем.
Молодого рабочего звали Исламом, родом он был из Турции, и Вера, московская девушка в кофточке белой, давно приглянулась ему, еще осенью. Сейчас, увидев, насколько сильно она изменилась, молодой Ислам не вскрикнул от удивления, и не крякнул, и не ойкнул, как это сделал бы любой интернациональный рабочий на его месте, а, почтительно прижавшись спиной к только что выкрашенной стенке, пропустил их к двери и взглянул прямо в ее опущенные глаза с таким выражением, которое давало понять, что произошедшая в Верином облике перемена не будет влиять на растущее чувство. Вечером он положил на коврик перед квартирой небольшой букет в целлофановой обертке и на открытке, приложенной к нему, написал яркими буквами: «Спасибо!» Согласитесь, что далеко не всякому молодому человеку, хотя и не богатому, но приятной черноволосой наружности иностранцу, выросшему в одной из горных деревушек Анатолии, пришло бы вдруг в голову благодарить чужую семью неизвестно за что. А этот поблагодарил.
Итак: положил он букет и ушел. Через два часа Лина Борисовна высунулась из квартиры, чтобы забрать почту, и тут же наступила жилистой ногой своей на звонко щелкнувший целлофан. Брезгливо высвободив ногу и нервно понюхав цветочки, Лина Борисовна задумалась. Она, конечно, сразу же поняла, что зять Переслени, опять оскорбив чем-то Лару, пытается к ней подлизаться как может, поэтому и преподносит букетец. В таком случае нельзя, чтобы жалкое это подношение увидела дочь. В то же время нельзя было и выбросить цветочки в мусорный бак, поскольку он должен был Ларе сказать, что был, и принес, и страдал, и так далее. Тогда Лара сразу поймет, что к чему, начнет бурно плакать, кричать, чертыхаться, и, главное, вспыхнет опять эта просьба оставить ее вместе с мужем в покое. Воровато оглянувшись, Лина Борисовна, не притрагиваясь к растениям ни одним пальцем, все тою же жилистой крепкой ногой передвинула цветы так, что они оказались лежащими между двумя ковриками: их, чистеньким и аккуратным, и грязным, совсем уж негодным ковром педиаторши. Лежит и лежит: чей букетик, не знаем. Педиаторша, мать Ивана Ипполитовича, отличаясь большим самомнением, должна будет сразу подумать, что это – подарок и знак благодарности ей за чье-то спасенное детство. А чье и когда – совершенно неважно: «Спасала, спасаю и буду спасать. За этим и клятву дала Гиппократу».
Прошло полчаса, и открылась дверь лифта.
Иван Ипполитович раньше обычного покинул свой кабинет, где пахло всегда свежим кофе и елью, поскольку его секретарша старалась, чтобы кабинет был уютным, домашним: варила ему свежий кофе, пекла какие-то темные сладкие коржики, а ель для того, чтобы пахло как дома, всегда приносила и ставила в банку. Не целую ель, разумеется, ветку. Сама была тоже совсем недурна, мечтала бы стать ему не секретаршей, и жизни своей не жалела, пытаясь достичь этой цели, вполне всем понятной.
Иван Ипполитович отменил совещание и поехал к матери на «Спортивную», извиняя свой сумасбродный поступок тем, что давно не навещал родительницу. На самом же деле – для Лары, конечно. Душа его ныла.
На землю спустились холодные сумерки, такие зловещие и беспокойные, как это бывает в конце декабря, когда колкий снег, вдруг посыпавший ночью, слегка забелил купола и растаял, но тот, кто заметил его белизну, был сам тоже странно печален и бледен. Иван Ипполитович ехал, по своему обыкновению, очень осторожно, но думал о чем-то таком, что могло бы – не будь он таким осторожным водителем – закончиться очень тяжелой аварией. Он думал о скудности всякой науки, поскольку вчера, вон, открыли одно, а завтра, глядишь, и другое откроют, и это другое, какое откроют, поставит немедленно то, что открыли вчера или позавчера, под сомнение. Проезжая мимо Новодевичьего, он вдруг вспомнил, как друг его юности Коля Семенов, веселый, красивый, бесхитростный парень, в двадцать шесть лет заболел очень странной болезнью, от которой у человека постепенно отказывают все мышцы и тело становится вялым, как тесто, а Ваня Аксаков, серьезный ученый, лечил всем, чем можно, несчастного Колю, боролся за Колину жизнь, и как Коля, сначала хрипевший: «Спаси!», постепенно просить перестал, отстранился, весь сжался, и вместе с тем, как изменялось все тело, он сам изменялся душевно и сам как будто сдавал это грешное тело, как пьяница утром сдает с облегченьем пустую бутылку из-под «Солнцедара».
Иван Ипполитович твердо держался за руль, губы его были крепко сжаты, а брови нахмурены, но что-то так сильно и грубо дрожало внутри его нёба и горла, как будто пыталось сломить его волю и, может быть, даже заставить расплакаться. Он вспомнил сон, увиденный за несколько часов до Колиной смерти. Во сне был большой серый кот, с которого сбрили всю шерсть и собирались усыпить. Иван Ипполитович решил вмешаться, спасти несчастное существо и даже придумал отдать его маме, хотя его мама была равнодушна к животным и птицам, служа только людям. Нужно было внести деньги за спасение кота, а денег не было, и, как это часто бывает в ночных кошмарах, Иван Ипполитович долго метался по пустым улицам в поисках нужной суммы, пока не наткнулся на Колю, здорового, крепкого и молодого, одетого даже с каким-то молодечеством. Оказалось, что Коля давно уже поправился без всякой медицинской помощи и теперь, весело улыбаясь, сообщил приятелю, что поставленный им диагноз был ошибкой. А через несколько часов – Иван Ипполитович запомнил, что утро было дождливым и холодным, вставать не хотелось, – он стоял над кроватью умершего Коли, из груди которого только что вырвалось последнее тихое дыхание, и следил, как меняется его быстро светлеющее лицо. Страх, бывший на нем, весь исчез, и в конце концов оно стало похожим или показалось Аксакову похожим на то, какое он ночью увидел во сне. Вот именно в эту минуту к нему и закралось сомнение в сердце. Иван Ипполитович почувствовал, что если и знать, почему и зачем трепещет последний невидимый атом внутри человека, никто никогда из нас не разгадает, откуда вдруг взялся – спокойный и чистый – на Колином мертвом лице этот свет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































