Текст книги "Две недели в другом городе"
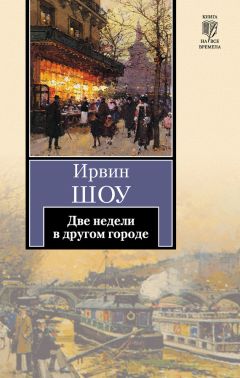
Автор книги: Ирвин Шоу
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава четвертая
Бык ревет в своем загоне, но президент в черной маске и берберской шляпе выходит на арену и бракует животное. Зрители пытаются облить президента бензином. Почему-то очень важно выманить быка из загона, не позволив ему ступить на арену. Двое служителей, оба во всем белом, по освещенному свечами коридору ведут в загон белую корову. Ей страшно, она упирается. Служители заставляют ее пройти вперед и предстать перед быком в наиболее соблазнительном ракурсе. Бык продолжает реветь. Белая корова жалобно мычит сначала на одной ноте, потом срывается на другую, более высокую; она мотает головой из стороны в сторону. Избранный по всем правилам президент в черном костюме, ничем не вооруженный, открывает железную дверь, за которой находится бык. Разъяренный зверь с широко расставленными рогами выходит из загона. Пена, бурлящая вода, корабль, терпящий бедствие, гребень волны, стремительный отлив. Первый Служитель, сначала насаженный на рога, затем растоптанный копытами; его облачение потеряло свою белизну.
Снова в царстве животных. Бык разглядывает белую, жалобно мычащую корову. Он делает выбор между убийством и любовью; сблизив четыре копыта, он вонзает рога в белый бок коровы, столь соблазнительный при иных обстоятельствах. Корова падает, она уже не белая. Ее мольбам приходит конец. Бык стоит возле нее, замечтавшись под стеклянным канделябром.
Снова мир людей. Второй Служитель, тоже в белом, бежит по коридору, мимо бокса, где я прячусь за запертой железной дверью возле отвернувшегося от меня человека, чье имя крутится у меня на языке.
Служитель сломя голову несется по насыпанному в коридоре песку; возникающие при этом звуки напоминают те, что издает медная тарелка, когда по ней бьют металлической метелкой. Из глотки Второго Служителя вырывается вопль. Он прячется в соседнем боксе и, тяжело дыша, запирает дверь. Бык трусцой подбегает к двери и смотрит на нее вполне миролюбиво. Затем он вышибает дверь. Из бокса доносится громкий крик. Бык совершает то, к чему его готовили всю жизнь.
Второй Служитель становится безмолвным, как Первый и белая корова.
Бык снова в полутемном коридоре, он принюхивается к чему-то, стоя у двери, за которой возле отвернувшегося от меня человека скрываюсь я. Затаив дыхание, наблюдаю за тем, что происходит по обе стороны от запертой двери. Мой сосед по-прежнему неподвижен. Бык решает, что обувь, выставленная у бокса, не представляет интереса. Но мой сосед, похоже, исчерпал лимит молчания и неподвижности. Шевельнувшись, он вздыхает, издает какое-то бульканье, затем стон. Я в ярости тыкаю его пальцем в бок между четвертым и пятым ребрами. Бык возвращается к двери, почуяв близость людей. Он испытывает прочность двери, которая дрожит, но не поддается. Бык снова и снова бьет ее рогами, летят искры, темп ударов нарастает, грохот становится непереносимым. Я прижимаюсь к железной двери; та дрожит при каждом ударе. Незнакомец сидит на соломе спиной ко мне.
Дверь не поддается.
Бык отступает, обдумывая свой следующий шаг.
Затем он начинает прыгать вверх, словно лев; с каждым следующим прыжком его копыта взлетают все выше и выше, наконец ему удается перекинуть их через верхнюю кромку двери. Он виснет, заполнив собой просвет между дверью и крышей. Потом смотрит на меня и на моего соседа, который разглядывает заднюю стену бокса.
Бык задумчиво наблюдает за нами своими добрыми печальными глазами; я понимаю, что сейчас его надо ошарашить, сбить с толку песней, танцем или смехом. Я выхожу на середину бокса, как на сцену; бык заплатил за свое место и заслуживает отменного зрелища. Я начинаю петь и плясать: отбиваю чечетку, делаю антраша, исполняю танец маленьких лебедей; пот заливает глаза, я имитирую голосом барабан, скрипку, французский рожок, треугольник. Бык, словно зритель, сидящий на балконе в первом ряду, смотрит с интересом, завороженно, его рога касаются потолка, передние копыта перекинуты через верхнюю кромку двери.
Трижды спев «Провожая домой мою крошку», я чувствую, что мой сосед повернулся у меня за спиной, он больше не прячет своего лица. Я хочу увидеть его, сказать ему: «Друг, нельзя отворачиваться, когда приходит смерть» – и на мгновение отвожу взгляд от спокойных, внимательных глаз быка, чтобы посмотреть на лицо незнакомца. И тут бык делает движение, дверь грохочет…
Вот что снится ночью в Риме.
Джек проснулся. В комнате было тихо, темно. Мягко шелестели шторы, раскачиваемые слабым ветерком.
Он лежал под простыней, ускользнув от гибели, весь в холодном поту. Джеку казалось, что если бы он проснулся чуть позже, то увидел бы лицо своего соседа, и оно оказалось бы лицом того пьяного, который ударил его. Этот человек спал сейчас где-то в Риме; он, вероятно, улыбался во сне, гордясь своим поступком.
«Почему быки? – подумал Джек. – Я три года не был в Испании».
Он сел в кровати, включил свет, посмотрел на часы, стоящие на столе. Они показывали четыре часа пятнадцать минут. Джек потянулся за сигаретой, закурил. Он редко курил и уж, во всяком случае, много лет не курил посреди ночи, но сейчас ему требовалось чем-то занять руки. Зажигая спичку, он удивился – они не дрожали.
Думая о своем сне, Джек опустил босые ноги на коврик; смерть еще бродила где-то рядом. «На этот раз я вырвался из ее объятий. В следующий раз она не отпустит меня».
Рогатый лев, вспомнил он, белая корова.
Смерть проникла в комнату. Не очень-то приятно быть в ее обществе, когда на часах четыре пятнадцать, а ты один в номере; сигарета – неважное средство защиты. Он взглянул на телефон. Не позвонить ли в Париж жене? Но что он ей скажет? «Мне снился страшный сон. Мама, мама! Лежа в римской колыбельке, я видел страшный сон; следующий раз рога вонзятся в меня».
Джек представил себе удивление итальянских телефонисток, высокий раздраженный голос парижского оператора, тревожный, прерывистый звонок, раздающийся в квартире на набережной, свою жену, поднимающуюся с кровати и бегущую в холл, где стоит аппарат; она испугана, в окнах едва брезжит рассвет. Он раздумал звонить.
Джек посмотрел на смятую постель. Нет, уснуть не удастся.
Уолтер Башелл, вспомнил он, Кэррингтон, Карр, Макнайт, Майерс, Дэвис, Свифт, Айленски, Карлотта Ли. Фильм заставил его вспомнить много забытых имен; он слышал голоса, видел людей, которые умерли, достигли вершин славы, потерпели неудачу, исчезли из виду.
Ночной Караульный с исцарапанной звуковой дорожки шепотом зачитывает поименный список.
Убитые, пропавшие без вести, раненые, годные к службе – все в форме, при орденах и медалях. Одна звездочка с полоской, целлулоидный крест, учтенный чек, значок десантника, железный венок. Первый Корпус Эндрюса (или Второй? а может, Третий? или даже Девятый?), иногда называемый Королевской Пехотой, оставшиеся в живых участники переправы у Лос-Анджелеса, стоящие в шеренге на плацу.
Тут все пропавшие без вести.
Прежде – герои, те, кто достиг Вершины…
Кэррингтон, в черном костюме, при черном галстуке, умудренный жизненным опытом, похожий на судью. Несколько лет назад умер в Берлине во время съемок (как сообщали газеты, студии его кончина обошлась в восемнадцать незапланированных съемочных дней и 750 000 долларов). Высокий, велеречивый, представительный седовласый человек с лицом римлянина, любимец женщин, всю жизнь боровшийся со страстью к спиртному, любовник самых знаменитых красавиц; он умер в гостиничном номере на руках монтажницы, произнеся перед смертью имя девушки, которую любил, когда ему было двадцать лет.
Макнайт, маленький ипохондрик, оживавший в гостиных и бассейнах. Погиб в годы войны под гусеницами вражеского танка. Когда снималась «Украденная полночь», ему давали эпизодические роли; он пытался подражать Кэри Гранту, на которого был немного похож. «У меня комедийный дар, – твердил Макнайт; он повторял это, настаивал, умолял. – В двадцатые годы, когда люди умели смеяться, я был бы великим актером». Для звезды он не вышел ростом; однажды, во время съемок вестерна в «Юниверсал», он упал с лошади и едва не умер. Но судьба хранила не вовремя родившегося комедийного актера для гусениц танка.
Лоренс Майерс тоже умер. Бледный, заросший, с куполообразным черепом и дрожащими, как у восьмидесятилетнего старика, руками. Он отчаянно боролся с Делани, который внес изменения едва ли не в каждую строку написанного Майерсом сценария. Лоренс был женат на патологически ревнивой женщине; однажды, когда он не успел вернуться домой к семи часам вечера, она отрезала ножом рукава мужского костюма. У худого, изможденного Майерса был туберкулез. Он вечно проматывал все свои деньги; умер Майерс в возрасте тридцати трех лет, поднявшись с больничной койки, чтобы пойти на обсуждение сценария музыкальной комедии в «Метро-Голдвин-Майер».
Это были умершие, точнее, те, о чьей смерти Джек знал; те, кого он помнил; сюда не входили рабочие, секретарши, монтажеры, рекламные агенты, охранники, машинистки, официантки студийных кафе; когда снимался фильм, все они были бодры, энергичны, строили планы на будущее; с помощью таблиц для расчета ожидаемых потерь Джеку не составило бы труда определить процент умерших за истекшие годы.
Но кое-кто остался в живых…
В этом списке первой идет Карлотта…
«Нет уж, к этому я возвращаться не стану», – подумал Джек, сидя на кровати с сигаретой во рту. Стремительно, как человек, сумевший обрести цель, Джек поднялся и, накинув на плечи одеяло, пошел босиком прочь из спальни, подальше от сновидений, незваных призраков. Включив в гостиной люстру, настольные лампы и бра, он взял розовую папку со сценарием, оставленную Делани.
Джек удобно устроился на диване, слегка поеживаясь под одеялом, и раскрыл папку.
Наплыв после титров.
Четырехмоторный самолет приземляется в римском аэропорту Чампино. Недавно прошел дождь, взлетно-посадочная полоса еще не просохла.
Авиалайнер подруливает к месту остановки, рабочие подгоняют трап.
Дверь самолета открывается, и из него начинают выходить пассажиры. Среди них – Роберт Джонсон.
Он шагает чуть в стороне от основной группы. Он словно кого-то высматривает. Он приближается к камере, и становится видно, что Джонсон – мужчина лет тридцати пяти, очень красивый, у него умные, проницательные глаза.
Джек вздохнул, читая банальное начало; он снова, преодолевая боль, вернулся мыслями к кошмару, попытался разобраться в его символике. Бык, несущий смерть, мгновенно умиротворяемый песней и танцем; клоунские выходки заставляют его забыть о зловещих намерениях. Что это? Публика? Иррациональная, безжалостная, жестокая и послушная, пока ее забавляют плясками, шутовством, пением. Джек помнил свои ощущения перед премьерой, страх, который он испытывал, сидя среди зрителей на просмотрах фильмов с его участием; рот пересыхал, на коже появлялась испарина, в локтях и коленях покалывало. Может, его сон объяснялся тем, что хоть и на две недели, но он все же возвращался в свой прежний мир анонимным голосом, звучащим с экрана?
А кто этот отвернувшийся человек, парализованный страхом враг, которому грозит та же опасность, что и мне? А когда ты поворачиваешься, чтобы увидеть наконец его лицо, лицо страха, в момент узнавания дверь не выдерживает…
Джек устало тряхнул головой. «Завтра куплю сонник, – подумал он, подсмеиваясь над самим собой. – Написанный на итальянском языке. Я прочту в нем, что мне не следует путешествовать по воде, воздуху или суше, или узнаю о том, что мой дядюшка, о котором я никогда не слышал, собирается умереть в Аргентине и оставить мне большое ранчо.
А может, это предостережение, совет убраться отсюда побыстрее, плюнуть на пять тысяч долларов, бежать от Делани, от своей молодости, не ворошить канувшее в Лету? Может, все так просто?»
Но Джек добросовестно продолжил чтение, испытывая жалость ко всем живым существам, включая самого себя, ищущих в этом невеселом деле славы, денег, забытья или развлечения. Добравшись до последней страницы, он бросил рукопись на пол и встал, чувствуя себя разбитым. Джек подошел к окну. Распахнул его и без радости увидел холодный зеленоватый рассвет, забрезживший над узкими улицами Рима. Господи, подумал он, измученный воспоминаниями и предчувствиями, скорей бы закончились эти две недели.
Глава пятая
Делани, Джек и секретарь режиссера смотрели фильм в небольшом затемненном зале. Делани заехал за Джеком в семь тридцать утра. Пристально, с беспокойством всматриваясь в покрасневшие глаза Джека, Морис поинтересовался его физическим состоянием; Джек солгал, что чувствует себя хорошо.
– Отлично. – Делани довольно хмыкнул. – Мы можем приступить к работе.
Поскольку режиссер хотел скрыть свои намерения от Стайлза, актера, чей голос дублировал Джек, они отправились не на ту студию, где снимался фильм, а на другую. Делани нацепил темные очки и опустил кепку на глаза, желая остаться неузнаваемым, но все проходившие мимо него люди говорили ему: «Buongiorno, Signor Delaney»[12]12
Добрый день, синьор Делани (ит.).
[Закрыть]. Он не представил Джека никому, даже своей секретарше – стройной женщине средних лет, сидевшей в зале позади мужчин.
Когда на экране замелькали эпизоды картины, Джек увидел, что, несмотря на вчерашние жалобы, Морис получает удовольствие, глядя на отснятый материал. Он издавал возгласы одобрения, три раза из его горла вырывался короткий отрывистый смех, во время кульминационных моментов двух сцен Делани принимался полубессознательно кивать головой. Лишь когда Делани видел на экране Стайлза, страдания режиссера становились заметными. Он начинал ерзать в кресле, хмурил брови, опускал голову, словно защищая глаза от удара.
– Сукин сын, – бормотал Делани, – пьянь несчастная.
Джеку фильм показался не намного лучше сценария. Местами встречались режиссерские находки, кое-где великолепно играли актеры, особенно Барзелли, исполнительница главной роли, но общее впечатление было тягостным, фильм казался безжизненным; возникало гнетущее ощущение, что всем участникам съемки успели надоесть бесчисленные дубли. Стайлз, как и говорил Делани, выглядел неплохо, но его язык, если он не заплетался после попойки, был деревянным, скованным; он убивал те скудные чувства и мысли, что присутствовали в сценарии.
– Проклятые итальянцы, – сказал Делани. – Обрадовались выгодной сделке. Получили Стайлза за половину его прежнего гонорара и, даже не выяснив, почему он согласился, подмахнули контракт. Лучше бы он не раскрывал рта! – вырвалось у Делани, когда Стайлз говорил девушке, что он любит ее, но считает, что ей следует расстаться с ним.
Просмотр закончился внезапно, на середине эпизода. Зажегся свет, и Делани повернулся к Джеку:
– Ну, что скажешь?
– Мне понятно, почему ты хочешь дублировать голос Стайлза.
– Сукин сын, – почти машинально сказал Делани. – Для него и цирроз печени – слишком слабое наказание. Как все остальное?
– Ну… – неуверенно начал Джек.
Он не знал, насколько искренним мог быть с Делани после более чем десятилетнего перерыва в дружбе. В прежние времена Делани любую свою работу выносил на суд Джека, используя друга как критика. Тем самым Джек оказывал неоценимую услугу Делани, окруженному корыстными льстецами. Он был по-юношески бескомпромиссен, его вкус отличался строгостью, он мгновенно распознавал фальшь и претенциозность; Делани иногда называл безжалостного в своем прямодушии Джека высокомерным отроком, но прислушивался к его замечаниям и чаще всего переделывал забракованный другом материал. Делани оказывал аналогичную помощь Джеку, не щадя его в тех случаях, когда чувствовал, что Джек не реализует свои возможности до конца. За три года они сделали три картины; их свободное и плодотворное сотрудничество не было закреплено юридически. Эти фильмы неизменно оказывались в числе лучших, они создали вокруг имени Делани легенду, и отчасти он до сих пор эксплуатировал ее. Морису в дальнейшем не удавалось приблизиться к тому уровню. У них с Джеком была в ходу язвительная фраза, с помощью которой они выражали неодобрение своей или чужой продукции, когда улавливали в ней слащавость, фальшь или псевдоглубину – пороки, охотно прощавшиеся в коммерциализированном Голливуде тех дней. «Это ужасно оригинально», – говорили они, произнося слова с подчеркнутой медлительностью. Крайнюю степень презрения они выражали так: «Это ужасно, ужасно оригинально, мой дорогой…»
Теперь, когда Джек увидел продемонстрированный Делани фильм, ему захотелось произнести: «Это ужасно, ужасно оригинально, мой дорогой…» Но вспомнив ту неуверенность, что звучала вчера в голосе Делани, когда они ехали в машине, ту отчаянную мольбу о помощи, что скрывалась за словами режиссера, Джек решил не спешить с серьезной критикой.
– Сценарий слабый, – начал он.
– Не то слово! – со злостью произнес Делани. – Ты абсолютно прав.
– Кто автор? – спросил Джек.
– Шугерман. – Делани выплюнул эту фамилию так, словно она жгла ему язык!
– Удивительно.
Шугерман написал за последние пятнадцать лет не то три, не то четыре пьесы, но в материале, прочитанном Джеком ночью, не осталось и следа того таланта, печатью которого были отмечены прежние работы драматурга.
– Этот негодяй прилетел сюда на три месяца, – обвиняющим тоном продолжал Делани, – и принялся шататься по музеям и кафе в обществе вечно пьяных немытых художников и писателей, которыми кишит город, заявляя всем и каждому, что я – тупой сукин сын, хотя сам не сочинил ни единой сцены, которую я мог бы отснять без доработки, и в результате я переписал заново весь сценарий. Драматурги! Старая история. Вот что такое Шугерман.
– Понимаю, – сухо произнес Джек.
После памятного первого успеха Делани воевал со всеми своими сценаристами и в конце концов переделывал рукописи. Он заслужил в Голливуде репутацию режиссера, которого губила тяга к литературной работе; продюсеры, хотевшие нанять Мориса, говорили его агенту: «Я бы взял его, если бы мне удалось вырвать из рук Делани перо». Пока что сделать это не удалось никому.
– Материал пока сырой. – Делани указал рукой на экран. – Но я его доведу. Если итальянцы не угробят меня прежде. – Он поднялся. – Джек, останься тут и посмотри ленту еще пару раз, чтобы лучше познакомиться с ней. Может быть, тебе стоит днем перечитать сценарий. А завтра, в семь тридцать, начнем дублирование.
– Хорошо.
– Я организовал для тебя встречу с Деспьером, – сказал Делани, надевая темные очки. – В кафе «Дони». В десять минут первого. Он хочет получить от тебя информацию для своей статьи. О моих былых победах. – Делани натянуто улыбнулся: – Будь другом, соври ему немного.
– Не бойся. Я скажу, что ты – Станиславский и Микеланджело в одном лице.
Делани засмеялся и похлопал Джека по плечу:
– Гвидо будет ждать тебя в автомобиле. К восьми вечера ты приглашен на коктейль. Водитель знает адрес. Чем еще могу быть полезен?
– Спасибо, пока ничем.
Делани снова дружески, покровительственно похлопал Джека по плечу.
– Тогда встретимся в восемь. Идемте, Хильда, – обратился он к секретарше. Некрасивая женщина в поношенном платье покорно встала и вслед за Делани вышла из комнаты.
Джек глубоко вздохнул, с отвращением посмотрел на экран, завидуя Шугерману, который три месяца провел в музеях и кафе, вдали от Америки. Затем он нажал кнопку, в зале стало темно, и перед ним снова поплыли неубедительные сцены, не дотягивавшие до трагедийного звучания.
Глядя на человека, чей голос ему предстояло дублировать, Джек с улыбкой подумал о свидании с Деспьером, которое устроил ему Делани. Пригласить Джека в Рим режиссера заставило вовсе не стремление улучшить фильм или оказать услугу старому другу, хотя и эти мотивы присутствовали. Джек был для Делани верным другом, помнившим его лучшие дни; Морис хотел, чтобы они нашли отражение в статье Деспьера. Делани, умевший казаться прямодушным, на самом деле всегда был хитрецом. За истекшие годы он, конечно, не изменился. Он ловко манипулировал людьми, преследуя собственные цели и ни в чем не полагаясь на волю случая. Но разгадав уловку Делани и поняв, что Морис был вынужден прибегнуть к ней, Джек испытал к Морису одну лишь жалость. Когда они только познакомились, любой газетчик мог написать о Делани, что режиссер насилует мальчиков из церковного хора – Морис и пальцем бы не пошевелил, чтобы заставить журналиста выбросить из статьи хоть строчку. Годы, неудачи…
Пять тысяч долларов, подумал Джек, глядя на красивое и пустое лицо Стайлза. Пять тысяч долларов.
Шагая по виа Венето сквозь праздную полуденную толпу, состоящую из туристов, клерков, киношников и полногрудых девиц, Джек увидел Деспьера, сидящего за маленьким столиком на веранде кафе. Благодаря солнечному теплу всем казалось, что зимой нет места на земле более приятного, чем Рим, – это было написано на лицах прохожих, слышалось в их радостном многоязычном гомоне.
– Садись. – Деспьер коснулся рукой соседнего кресла. – Наслаждайся итальянским солнцем.
Джек сел и, подозвав одного из официантов, раздраженно протискивающегося между людьми с подносом, на котором стояли чашечки с кофе, тонкие бутылочки с кампари и другими винами, заказал вермут.
– Dottore, – сказал Деспьер, – вчера вечером ты меня испугал. У тебя был вид тяжело больного человека.
– Нет, – Джек вспомнил ночь, – все обошлось. Просто я немного устал.
– Ты вообще-то здоров, Dottore?
– Конечно, – ответил Джек.
– На вид ты крепок, как скала. Я бы назвал тебя бессовестным обманщиком, если бы узнал, что на самом деле изнутри ты изъеден болезнями. Другое дело – я. – Деспьер усмехнулся. – Увидев меня, ученые сломя голову бегут в лаборатории, спеша изобрести чудесный эликсир, способный помочь мне. Тебе известно, что я получал инъекции препаратов, изготовленных из плаценты недавно рожавших женщин, а также из мужских сперматозоидов?
– Зачем ты это делал? – недоверчиво спросил Джек.
– Чтобы продлить жизнь. – Деспьер помахал рукой мужчине и светловолосой женщине, проходившим мимо столика. – По-твоему, мне не стоит пытаться продлить жизнь?
– Ну и как, помогает? – поинтересовался Джек.
Деспьер пожал плечами:
– Я жив.
Официант поставил перед Джеком бокал и налил в него вермут. Деспьер помахал рукой двум длинноволосым девушкам, на бледных лицах которых не было следов косметики; они покинули киностудию на час, чтобы перекусить. Похоже, Деспьер знал каждого второго человека, проходившего мимо столика; он приветствовал всех одним и тем же вялым движением руки и живой, насмешливой улыбкой.
– Скажи мне, Dottore, – не вынимая сигареты изо рта и щурясь от дыма, произнес развалившийся в кресле Деспьер, – какое впечатление произвел на тебя шедевр Делани, который ты смотрел сегодня утром?
– Ну, – осторожно начал Джек, – монтаж еще не завершен. Пока рано что-либо говорить.
– Ты хочешь сказать, получилась дрянь. – На лице Деспьера появилось любопытство.
– Вовсе нет, – возразил Джек.
И Делани, и Деспьер были друзьями Джека, и он не считал нужным приносить одного из них в жертву другому ради какой-то журнальной статьи.
– Дай Бог, чтобы ты был прав, – заметил Деспьер.
– Что ты имеешь в виду?
Сегодня Джек в обществе Деспьера испытывал неловкость.
– Тебе известно не хуже, чем мне, – наш друг Делани прижат к канатам. Один слабый фильм, и ему не найти работы. Ни в Голливуде, ни в Риме, ни в Перу…
– Я ничего об этом не слышал, – сухо сказал Джек. – Я не слежу за прессой.
– Ах, – ироническим тоном произнес Деспьер, – если бы у меня были такие преданные друзья…
– Слушай, Жан-Батист, что ты напишешь в статье? Ты хочешь его прикончить?
– Я? – Деспьер с наигранным удивлением коснулся рукой груди. – Неужто я слыву человеком, способным на такое?
– Ты слывешь человеком, способным на многое, – заметил Джек. – Что ты собираешься о нем писать?
– Еще не решил. – Деспьер улыбнулся, поддразнивая Джека. – Я бедный и честный газетчик, служащий, как все бедные и честные газетчики, одной лишь правде.
– Каким будет твой материал?
Деспьер пожал плечами:
– Я не намерен петь ему дифирамбы, если ты спрашиваешь об этом. За последние десять лет, как тебе известно, он не сделал ни одной приличной картины, хотя по– прежнему держится так, словно изобрел кинокамеру. Позволь задать тебе один вопрос. Он всегда был таким?
– Каким? – Джек изобразил на лице недоумение.
– Ты меня понял. Высокомерным, нетерпимым по отношению к тем бездарностям, с которыми вынужден работать, обожающим лесть, глухим к критике, считающим дерьмо, которое он создает, шедеврами; никого не уважающим, ревнивым к работе своих коллег, транжирой – когда речь идет о чужих деньгах, не пропускающим ни одной юбки, словно ирландская ассоциация коннозаводчиков выдала ему лицензию на совокупление со всеми хорошенькими дамочками, которые попадутся на пути…
– Достаточно, я уже все понял.
Джек на мгновение вообразил, какой будет вид у Делани, когда кто-нибудь переведет ему с французского эту статью. Надо предупредить Мориса, чтобы держался подальше от Деспьера или попытался найти с ним общий язык. Любопытно, чем Делани удалось пробудить в Деспьере такую антипатию, подумал Джек. Как помочь Морису?
Деспьер насмешливо улыбался; тонкими длинными губами француз сжимал дымящуюся сигарету. Жан-Батист пригладил рукой свои волосы, подстриженные по моде, родившейся в Сен-Жермен-де-Пре; он явно наслаждался бурей, вызванной им в душе Джека, и сейчас походил на бледного, болезненного и чрезвычайно смышленого мальчишку, которому удалось разыграть взрослых.
– Скажи, Dottore, правда я – мерзкий, коварный француз?
– Ты его не знаешь по-настоящему. Он совсем не такой, каким ты его видишь. Или, во всяком случае, ты разглядел только одну сторону. Худшую.
– Хорошо, Джек. Я весь внимание. Расскажи мне о его достоинствах.
Джек заколебался. Он устал, голова была тяжелой после бессонной ночи; Джек ловил на себе взгляды людей, рассматривавших его нос и синеватую припухлость под глазом. Сегодня он не испытывал желания защищать кого-либо. Ему хотелось сказать Деспьеру, что он не в восторге от той легковесной, жалящей язвительности, с какой журналисты представляют своих жертв публике. Джек вспомнил, как Делани, сидя вчера в зале кинотеатра, глухо произнес после сеанса: «Я был великим человеком», как потерявший веру в себя Морис попросил его сегодня утром: «Будь другом, соври ему немного».
– Я познакомился с ним, – начал Джек, – еще до войны, в 1937 году. Я был занят в спектакле, который проходил апробацию в Филадельфии…
Он замолчал. Деспьер улыбался двум девушкам, остановившимся перед столиком. Не вставая, Деспьер заговорил с ними по-итальянски. Солнце находилось за их спинами, и Джеку не удавалось разглядеть девушек. Его раздражало, что Деспьер отвлекся, помешав ему продолжить рассказ о Делани. Джек внезапно поднялся.
– Послушай, Жан-Батист, – перебил он француза, – поговорим в другой раз. Ты сейчас занят, и я…
– Нет-нет. – Деспьер протянул руку и сжал плечо Джека. – Немножко терпения. Помни, ты находишься в Риме, а не в Нью-Йорке. Dolce far niente[13]13
Сладостное ничегонеделание (ит.).
[Закрыть]. Девушки хотят с тобой познакомиться. Они видели твою картину и восхищены ею. Правда, девушки?
– Какую картину? – глупо спросил Джек.
– «Украденная полночь», – ответил Деспьер. – Мисс Хенкен. Синьорина Ренци.
– Здравствуйте, – неприветливо произнес Джек.
Он слегка передвинулся, чтобы солнце не слепило глаза, и наконец рассмотрел девушек. Джек, не страдавший избытком патриотизма, решил, что наименее привлекательная из них, вероятно, американка. У нее были песочного цвета волосы и сухая кожа; на тонких губах мисс Хенкен играла безрадостная улыбка, которая словно говорила о том, что к своим тридцати годам девушка успела познакомиться со многими городами и мужчинами и везде с ней обошлись плохо. У ее спутницы, молодой итальянки, были живые темные глаза, длинные черные волосы и оливковая кожа. Высокая синьорина Ренци распахнула свое бежевое шерстяное пальто, спасаясь от жары; она застыла перед столиком, и Джек подумал, что она прекрасно сознает, какое воздействие оказывают на проходящих мужчин ее длинные волосы и роскошная фигура. Она часто улыбалась, ее глаза постоянно двигались, девушка оценивающе поглядывала на людей, потягивающих напитки. Иногда она наклоняла голову, и ее волосы свободно свисали набок. Наверняка, подумал Джек, какой-нибудь поклонник сказал ей, что эта маленькая хитрость волнует мужчин, после чего привычка укоренилась. Удлиненное, пышущее здоровьем лицо итальянки показалось Джеку самодовольным и неумным. Эффектная, бездушная самка, с неприязнью подумал он. Отрывистые музыкальные звуки, вылетавшие из ее горла, напоминали негромкое пение флейты. Девушка периодически облизывала кончиком языка уголок рта. Джек был уверен, что дома она репетировала перед зеркалом этот трюк, будивший чувственность и таивший в себе некое обещание.
Деспьер придвинул ей кресло, стоящее у соседнего столика; официант принес кресло для блондинки. Они непринужденно сели, и Джеку ничего не оставалось, как опуститься на свое место.
– Тебе есть о чем побеседовать с Фелис, Джек, – заметил Деспьер. – Вы занимаетесь одним делом.
– Которая из них Фелис? – грубовато спросил Джек.
– Я, – сказала блондинка. – Вы разочарованы, да?
Мисс Хенкен выдавила из себя улыбку.
– Она тоже дублирует фильмы, – пояснил Деспьер. – На английском.
– А…
«Знает ли Деспьер, что моя миссия в Риме – тайная, – мелькнуло в голове Джека. – Конечно, знает, – решил он, – просто сегодня Жан-Батист не в духе, он настроен против Делани и хочет насолить режиссеру».
– Я делаю это первый и последний раз в жизни, – заявил Джек, подумав, что Деспьер, наверное, не без какого-то тайного умысла ввел девушек в заблуждение относительно его основной профессии. – Вообще-то я зарабатываю на жизнь подделкой чеков.
– Не будь с девушками таким сердитым, Dottore. Они тебя обожают. Верно, девушки?
– Мистер Роял, – сказала итальянка по-английски, – на этой неделе я смотрела ваш фильм три раза. Я плакала как ребенок.
По-английски она говорила медленнее, чем по-итальянски, более резко, менее мелодично, ее голос уже не напоминал пение флейты; судя по акценту, она много общалась с американцами.
– Моя фамилия – не Роял, – сказал Джек, подумывая о бегстве, – а Эндрюс.
– Он ведет двойную жизнь, – заявил Деспьер. – В свободное от работы время подыскивает места для размещения пусковых установок.
Девушки вежливо, смущенно заулыбались.
– Я искала другие фильмы с вашим участием, – произнесла итальянка, склонив голову набок, отчего ее волосы упали на плечо, – но оказалось, что никто не знает, где они идут.
– Они нигде не идут. Я не снимаюсь более десяти лет.
– Очень жаль, – с искренностью в голосе заметила синьорина Ренци. – Подлинно талантливых актеров очень мало, они должны работать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































