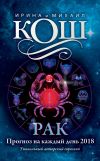Текст книги "Кошелек"

Автор книги: Иван Панаев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Девушка посмотрела на него с удивлением; рука, державшая кошелек, медленно опустилась, глаза ее затуманились… минута… и слезы, горькие слезы вырвались на волю, и грудь ее заколыхалась волною.
– Так вы не хотите от меня ничего взять? – произнесла она невнятно, заливаясь и всхлипывая, – за что же вы меня так не любите?
Иван Александрович не знал, что ему делать. Он сам чуть не заплакал.
– Думал ли я вас огорчить этим? Клянусь богом, нет! – Он взял кошелек из руки ее и поцеловал руку. – Вы настоящий ангел, Елизавета Михайловна!
И она отирала слезы платком и улыбалась сквозь слезы.
– Так вы берете мои деньги? Ах, как я счастлива! Вы теперь будете веселы, Иван Александрович, не правда ли? Тише! – она приложила пальчик к губам, – маменька просыпается, я побегу к ней.
Весь вечер она была необыкновенно весела. Радость вырывалась в каждом ее движении, в каждом взгляде, и старушка, приглаживая ее локоны, говорила:
– Вот ты у меня сегодня умница, Лизанька.
III
Разбирая различные явления мира внутреннего,
идеалист примечает, что они двух родов: одни произведения
самого духа, а другие приемлются нами извне. Сии
разделяются на дна класса: на ощущения приятные и
неприятные, и идеи, или образы пространства, форм и цветов.
Вот все, что мы знаем о внешнем и следственно о веществе.
Но все сии ощущения или образы суть только явления в нас,
точно так же, как наши мысли, воспоминания…
Из лекций логики
Желанный вторник наступил. С пятого часа вечера Иван Александрович начал делать приготовления к туалету. У него был новый фрак, чудесный, цвета Аделаиды, с черным бархатным воротником, с блестящими и узорчатыми пуговицами. Этот фрак был торжественно развешен на кресле, и Иван Александрович ходил кругом кресла и любовался им. Какой отлив-то, прелесть! Красно-лиловый, и сукно самое тонкое, по двадцати пяти рублей аршин. Чудесный фрак!
А жилет? Портной сказал Ивану Александровичу, что к новому фраку необходим и новый жилет, иначе не будет гармонии в целом. И посмотрите, что за жилет! По черной земле цветочки зелененькие, красненькие, желтенькие, и все это сплетено голубенькими стебельками. Иван Александрович взял в руку жилет и повертывал его. Загляденье, просто загляденье!
С самого утра на постели Ивана Александровича лежала отлично выглаженная манишка, совсем готовая, с запонками, – на середней запонке был очень искусно изображен Наполеон во весь рост, а на остальных двух пастушок и собачка на веревочке.
Завившись и одевшись, Иван Александрович несколько раз прошелся по комнате, несколько раз посмотрел в зеркало С приятною улыбкою и потом пошел показаться Елизавете Михайловне.
– Как к вам идет этот фрак, Иван Александрович. Она смотрела на него так внимательно и так от души любовалась им.
– А каково сшит?
– Очень хорошо. Какая талия! Вам сегодня будет, верно, очень весело: вы увидите таких прекрасных, нарядных девиц…
При этом слове она задумалась. Бедная девушка!
Когда Иван Александрович подошел к руке тетушки при прощанье, старушка оглядела его с ног до головы и начала очень серьезно покачивать головою.
– Что это, батюшка, новое на тебе платье-то?
– Да, тетушка, новое.
– Гм! – Она все продолжала осматривать его.
– А что, оно на тебя сшито али готовое куплено?
– На меня-с.
– На тебя, сударь? Да это просто тришкин кафтан!.. Господи боже мой! Рукава-то короткие, узкие, ну точно Митрофанушка… Застегнись-ка.
Иван Александрович сделал усилие, чтобы застегнуться.
– Посмотрите, пожалуйста – и застегнуться-то не может.
– Да это сшито по моде, тетушка.
– По моде? Мошенник уверил его, что это по моде, а он себе и растаять изволил. Ему, бестии, выгодно шить по моде!.. Что, сукнеца-то, чай, немного пошло? Ах! Ах! То – то, старых людей ведь нынче и слушать не хотят. Куда!..
Иван Александрович боялся одного, чтобы тетушка не спросила о цене его модного фрака и о том, откуда взял деньги на этот фрак; но тетушка, к счастию, не спрашивала об этом и занялась весьма, впрочем, длинным нравоучением, как он должен вести себя «в чужих людях».
Потом она перекрестила его, и он отправился; но старушка долго, очень долго по уходе Ивана Александровича ворчала, покачивая головою.
* * *
Около девяти часов вечера у подъезда одного дома в Усачевом переулке стояли четыре экипажа: две четырехместные кареты парами, одна двухместная и дрожки. Последние принадлежали Федору Егоровичу, это были те самые дрожки, которые привлекали завистливое внимание чиновников **… департамента.
Появление Федора Егоровича, сопровождаемого Иваном Александровичем, произвело в гостиной небольшое движение.
Три круглолицые, довольно полные девушки, сидевшие рядом по левой стороне дивана, и две длиннолицые, очень худощавые, стоявшие неподалеку от первых, тотчас прервали свой разговор и занялись рассматриванием нового лица, стали улыбаться и перешептываться.
Одной из худощавых, девице лет за тридцать, Иван Александрович чрезвычайно понравился. Она нашла, что физиономия его очень интересна и выразительна. Другая заметила, что он немножко неловок; третья, что у него слишком широки перчатки; четвертая… но невозможно передать всех замечаний. В десять минут Иван Александрович был разобран в подробности. Самой досужей наблюдательности не оставалось подметить в нем ничего, решительно ничего.
И между тем как он, немного смешавшись, выслушивал приветствие хозяйки дома и кланялся, и между тем как она блистала русскою любезностью с примесью заученных французских фраз и, смотря на него, находила в чертах лица его что-то знакомое, – Федор Егорович, улыбаясь, расшаркивался с девицами.
– Кого это вы привезли, Федор Егорович?
– Кто это с вами приехал?
– Как его фамилия?
Вопросы сыпались на него со всех сторон. С ловкостью истинно непостижимою, с искусством, которое может быть приобретено только опытностью, Федор Егорович отделался от этих вопросов и удовлетворил любопытству каждой из вопрошавших. Да, он владел в совершенстве завидным даром пленять. Я желал бы показать его вам в гостиной: что за утонченное обращение! Что за грация в телодвижениях, что за сила речей во взгляде! Этот взгляд, казалось, говорил той девушке или даме, на которую устремлялся: «Страдайте, сударыня, страдайте: мне известны ваши страданья, но для меня это все равно!» (Какой страшный эгоизм!) Если вы видали в котором-нибудь из бесчисленных кругов среднего петербургского общества молодого человека с таким победоносным взглядом, то нет никакого сомнения – это был Федор Егорович.
После всего этого можно ли удивляться его успехам в легоньких гостиных? Иван Александрович впервые видел его в обществе, впервые восхищался его развязностью… Завидный дар! Он, который чувствовал себя неловким и стоя и сидя, и молча и разговаривая, он вполне постигал, как важно быть наделену таким талантом.
Мало-помалу гостиная стала наполняться. Приехало еще несколько матушек, довольно толстых, в вычурных чепцах, с тоненькими дочками в беленьких, в красненьких и в пестреньких платьицах; приехал тот самый франт с огромным хохлом, с цепочками и лорнетами, которого Иван Александрович видел на набережной с хозяйкою дома; приехал еще какой-то человек, пожилой и очень блестящий: с тремя брильянтовыми пуговицами на манишке, с фермуаром средней величины на галстуке и с большим солитером на указательном пальце. Уже открыли два ломберные стола в гостиной, уже составилась партия виста; хозяйка дома в величайших хлопотах сама бегала с колодою карт и мимобегом дарила каждого из гостей своих двумя-тремя приятными словцами, и всё различного содержания. Остановясь против человека с брильянтовыми украшениями, она сказала, перебирая в руках колоду карт:
– Что, вы будете играть, Алексей Васильевич?
Мутные зрачки глаз Алексея Васильевича забегали при вопросе; он хотел улыбнуться, и лицо его образовало довольно неприятную гримасу:
– А по чему роббер?
– По двадцати пяти рублей.
– Пожалуй, – и при этом слове он опять сделал гримасу. – Ведь вы знаете, что я никогда не отказываюсь, даже иногда играю и меньше этого.
Он небрежно взял карту, зевнул и с важностию поправил свои брыжжи, довольно неумеренно выглядывавшие из-за галстука.
Это был один из известнейших игроков, величайший счастливец, карточный баловень, почти никогда не проигрывавший и допускавшийся даже в некоторые гостиные высшего общества. Для большего эффекта, или, говоря просто, для большей важности в своем кругу, этот господин говорил, по обыкновению, немного в нос и делал различные гримасы, желая, вероятно, показать этим, что он не простой человек, что он имеет знакомства с людьми весьма знатными и что не одни карточные тузы имеют к нему уважение.
Игроки рассаживались; карточные обертки летели под стол. Иван Александрович сидел, пригорюнясь, у входа в гостиную: ему было скучно, он не успел сказать хозяйке даже десяти слов, он не любовался ею десяти минут сряду. Она вот только что остановится, и он только что обрадуется и вооружится всею силою любовного взгляда, как вдруг уже нет ее – она там, в зале. Это очень досадно!
– Что, Иван Александрович, а? весело? – говорил Федор Егорович, улучив минуту и подойдя к нему.
– Да, Федор Егорович, я вам очень благодарен. Иван Александрович был чрезвычайно скрытного характера.
– Полноте, полноте, любезный, – продолжал Федор Егорович, поправляя верхнюю буклю своего хохла, – полноте… за что тут благодарить? Вы сами видите, мне это ничего не стоило: я на короткой ноге в доме – всех знаю. Не правда ли, какое прекрасное общество? А? Сколько людей с весом! Вот видите, налево-то: вон у тех дверей, такой пожилой человек, украшенный знаками отличия: это дядя мужа Марьи Владимировны. Оно, видите, и ничего, но все такое родство – знаете, протекция; он в большой силе… Дело какое или что – сейчас к нему, – просто, зачем далеко идти? Человек свой, близкий…
В эту минуту кто-то кликнул Федора Егоровича, и он исчез.
Лестно быть представлену в такой дом, где, куда ни обернись, куда ни посмотри, назад ли, вперед ли, везде и повсюду перед глазами люди чиновные, значительные, или по крайней мере такие, которые не сегодня-завтра будут много значить, – очень лестно! Против этого спорить нечего. Быть вместе с такого рода людьми – это своего рода наслаждение. Так, – но согласитесь, что еще приятнее, не говорю – лестнее, быть наедине с тою женщиной, которая, будто силою чародейства, заставляет, при мысли об ней, невольно биться ваше сердце, смотреть на нее, любоваться ею? Согласитесь, что ее очи, не говорю – всегда, но порой, кажутся вам очаровательнее всего на свете?
Это заблуждение молодости. Верю; но Иван Александрович был молод, и он думал именно так в то время, когда Федор Егорович описывал ему всю прелесть знакомства с людьми чиновными.
– Знаете ли что, Аграфена Николаевна? – говорила хозяйка дома одной пожилой, толстой, важной и неподвижной даме с необыкновенно выпуклыми и остолбенелыми глазами, одной из тех женщин, которая могла служить превосходным типом русской купчихи, возвысившейся до дворянства, – знаете ли что: не дурно бы девицам потанцевать под фортепиано, не правда ли? Авдотья Петровна такая милая, такая добрая: она, верно, не откажется поиграть? Признаюсь вам откровенно, я не знаю девицы, которая бы так хорошо играла на фортепиано!.. Кто был ее учителем, Аграфена Николаевна?
– Я все забываю его фамилию. Он здесь первый учитель в Петербурге; уж, говорят, лучше его нет.
– Это видно, что у нее был первый учитель, сейчас видно. Ведь она, верно, не откажется сыграть хоть один кадриль?
– Настенька, поди-ка сюда! Вот Марья Владимировна просит, чтоб ты поиграла для танцев.
– С большим удоволъствием-с, maman.
И Настенька, девушка лет двадцати осьми, так же дородная, как ее маменька, сделала очень ловкий реверанс, смотря на Марью Владимировну.
Марья Владимировна имела редкий дар все так хорошо устроить, занять гостей… Такой приветливой, милой, такой разговорчивой и дальновидной хозяйки дома вы не нашли бы, конечно, в целом Петербурге. Я говорю это без всякого пристрастия и готов сослаться на всех, кто посещал ее дом. Федор Егорович, как уже известно вам, человек образованный и светский, он сам, говоря о Марье Владимировне, всегда называл ее идеальною.
– Ангажируйте дам, ангажируйте, Григорий Ильич, Иван Петрович, Федор Егорович и мсье Рижский, вы такие мастера распоряжаться: надобно устроить кадриль.
Видите ли, как тонко Марья Владимировна умела льстить самолюбию?
Федор Егорович и г. Рижский, молодой офицер в золотых очках, бегали и набирали кавалеров, а между тем хозяйка дома подошла к Ивану Александровичу.
– А вы ангажировали даму? – спросила она его с приветливою улыбкой.
У Ивана Александровича от этого вопроса выступил холодный пот на лице.
– Я не танцую-с, – отвечал он, немного замявшись.
– Полноте, полноте. Ангажируйте вот эту девицу, что сидит в углу дивана, с розаном на голове. Она очень любезна. Пожалуйста, танцуйте: ведь не всегда же философствовать. Я слышала, что вы большой философ, но иногда с Парнаса можно спуститься и на землю…
Как хорошо говорила Марья Владимировна! Как искусно каждому она умела показать свои познания!..
Но Иван Александрович, первый раз попавший в свет, очень смутился от ее любезности и не придумал никакой блестящей фразы в ответ ей. Он просто сказал:
– Покорно вас благодарю. Я, право, не танцую.
Но он бы готов был отдать в эту минуту половину своих познаний, которые добывал годами трудов и постоянным усилием мысли, за то только, чтоб уметь протанцевать французский кадриль.
Фортепиано забренчали. Кадриль начался… Федор Егорович и офицер в золотых очках танцевали лучше всех: это можно было сказать утвердительно, потому что в их движениях была и легкость и грация, а другие – что это такое? – просто ходили. Пройтиться-то умел бы и Иван Александрович.
В промежутках танцев, когда музыка смолкала, из гостиной раздавались крикливые голоса игроков. Господин с фермуаром на галстуке кричал громче всех:
– Когда я играл с князем Петром Ильичом, у меня были: король, дама сам-четверт козырей, а у графа Александра Андреевича валет сам-друг; ходил он. Ну, говорит мне князь Петр Ильич, счастье, братец, тебе, счастье. Тебя любят козыри. Не всегда, я говорю, ваше сиятельство. Случается, что у меня не бывает козырей. Князь такой милый, такой шутник. – И господин с фермуаром очень громко засмеялся при сем.
Марья Владимировна, хозяйка дома, была большая охотница танцевать. И уж зато как танцевала! Удивительно! Как она умела показать свою ножку, нагнуть немного голову на правый бок, – прелестно!.. Это еще был маленький вечер, это были еще танцы – так, экспромтом; а надобно было ее видеть на большом бале… Иван Александрович не спускал с нее глаз.
«Странно, – думал он, глядя на нее, – она очень хороша собою, против этого говорить нечего, только что-то у нее цвет лица такой неестественный, чересчур малиновый. Разве, может быть, она разгорелась, танцуя? Да нет, как я вошел, она еще не танцевала, а у нее был цвет лица точно такой же. Бог знает, отчего это!»
Возвратись домой очень поздно, Иван Александрович долго не мог заснуть: было светло, как днем.
Скучны, господа, эти петербургские летние бессумрачные ночи! День, вечно день. Я люблю ночь, с ее таинственным покровом, с ее страшными тенями, с ее поэтическими туманами, которые то прикидываются перед вами безграничным морем, то какими-то чудными громадами зданий… Я люблю ночь, роскошно томящуюся в лунном мерцанье, упоенную ароматами цветов, истаивающую, дрожащую в неге… О, я не променяю ваш ослепительный день на такую ночь, господа! Нет, не променяю…
Иван Александрович в этом случае был совершенно согласен со мною. Он также не любил вечного петербургского дня. Он сидел у постели, пригорюнясь.
«Вот, – думал он, – прошел и этот вечер, которого я целую неделю ждал с таким нетерпением, о котором мечтал ежеминутно… Прошел! Уж не в самом ли деле мечта лучше существенности?»
Иван Александрович был вообще не очень доволен вечером Марьи Владимировны.
«Она, правда, милая женщина, привлекательная, а все не то, что я воображал. Не то!.. Она гораздо лучше, когда любуется Невою, нежели когда танцует в зале».
– Весело ли вам было вчера, Иван Александрович? – спрашивала его Елизавета Михайловна утром за чаем, еще до прихода тетушки…
– Так, не очень-с.
Елизавета Михайловна посмотрела на него, он посмотрел на Елизавету Михайловну: ее глаза были очень красны, веки как будто распухли.
– Не болят ли у вас глаза, Елизавета Михайловна? какие красные!
Она вздрогнула при этом слове и уронила из руки ситечко.
– Будто красны? я не заметила; да, немножко болят…
– Хотите, я вам принесу розовой воды, Елизавета Михайловна?
– Нет, не надо… Впрочем, если вас это не обеспокоит, принесите, Иван Александрович…
Как драгоценность хранила Елизавета Михайловна стклянку с розовою водой. Иван Александрович в тот же день принес ей эту стклянку. Она всякий день утром и вечером вынимала ее из комода, смотрела на нее с большим чувством, обливала слезами и, говорят, даже целовала. Ведь это был подарок Ивана Александровича, что же мудреного? Это был его первый подарок!..
Так день уходил за днем, неделя сменялась неделей… То же однообразие в доме тетушки Ивана Александровича, никакой перемены. Старушка сидит на тех же кожаных креслах и вяжет чулок или раскладывает карты, – только реже вяжет она чулок, только чаще протирает очки своим пестрым носовым платком: здоровье-то ее стало плоше, зрение-то слабее. Елизавета Михайловна, также скучна и также бледна, сидит у ног ее с шитьем в руках, только чаще прежнего оставляет она иголку, и украдкой взглядывает на старушку, и – задумывается, очень задумывается. Жизнь старушки – это ее жизнь… Разве она, сирота, может отделить свое существование от ее существования? Что она будет без нее?.. Сидит напротив старушки и Иван Александрович, он смотрит на Елизавету Михайловну и думает: редкая девушка, какая у нее ангельская душа, какое доброе сердце… Вот так, кажется, в этих глазах и светится небо!..
Мелкий осенний дождь запорошивает стекла; печально серое небо без просвету, печально, как мысли Елизаветы Михайловны…
– Лизочка, Лизочка, что-то ты у меня не на шутку худеешь, – говорит старушка, отложив карты и глядя на нее, – это больно меня беспокоит. Не посоветоваться ли с Францем Карловичем, а?
– Нет, маменька; нет, голубушка. Зачем мне доктор? Я, право, чувствую себя совсем здоровою, – и слеза девушки упадает на морщинистую руку старушки.
– Уж ты и расплакалась, дурочка. Ну, о чем же тут плакать?
Ивану Александровичу стало очень жаль Елизавету Михайловну, так жаль, что у него разрывалось сердце, глядя на ее бледное, печальное личико… что у него, у мужчины, готова была вырваться слеза, глядя на ее слезы; но он скрепился, проглотил эту слезу… Как ему было не понять тайной причины страдания этой девушки, глядя на свою дряхлеющую тетку?
Бедная, бедная девушка!
В эту минуту в комнату вошла горничная и подала Ивану Александровичу записку. Он распечатал: от Федора Егоровича; Марья Владимировна приглашает его к себе на вечер. «У нее, – пишет он, – будет так, кой-кто, человек тридцать, всё большею частию свои».
«Нет, не поеду, – подумал Иван Александрович, – что-то скучно; да и к тому ж я был у нее недавно».
Точно: Иван Александрович раза четыре был у нее после того вечера, в который он с такими надеждами, с таким восторгом представился к ней в новом фраке цвета Аделаиды.
Этот фрак и теперь еще почти совсем новый, нисколько не полинял, нимало не обтерся; пуговицы только немножко почернели, да это ничего не значит: можно поставить новые; но те надежды, те восторги, с которыми он надевал этот фрак, отправляясь в первый раз к Марье Владимировне, – кто обновит их, скажите? Неужели они, цветущие и яркие, так скоро увяли?.. Видно, уж, в самом деле, на свете нет ничего постоянного!
Текла, Юлия, Маргарита, Татьяна – обратились просто в Марью Владимировну, когда Иван Александрович посмотрел на нее вблизи, поознакомился с нею. Как все обманчиво издали! смотришь, что за цвет лица, какая свежесть! Роза! а посмотришь поближе – румяны. Везде подлог, везде обман… Право, не много веселого в жизни; поневоле заноешь элегией!
Полный кипучих, студенческих фантазий, Иван Александрович заговорил однажды с Марьей Владимировной о театре как о храмине изящного, о высоком назначении искусства в мире, заговорил:
О Шиллере, о славе, о любви.
Он думал, что ее сердце забьется от этих речей, что она будет сочувствовать его энтузиазму. Он говорил с жаром и убедительностию, она слушала равнодушно, не знаю – понимая или не понимая, и когда он кончил, она с свойственною ей грацией, которую в другом кругу, вероятно из зависти, назвали бы жеманством, сказала с расстановкою:
– Да, ничего не может быть лучше театра. Я очень люблю спектакли, в особенности веселые водевили. Есть такие смешные, вот так бы и хохотать до упаду. А трагедии я терпеть не могу: там вечно несчастия, резня: это ужасно расстроивает нервы, а я к тому же такая раздражительная…
Иван Александрович хотел возражать, но Марья Владимировна не дала ему вымолвить слова.
– Перестаньте, перестаньте, Иван Александрович. Нет, уж я водевиль ни на что на свете не променяю.
Иван Александрович вздохнул.
В другой раз речь зашла о романах. Иван Александрович выхвалял Вальтера Скотта (вы уже знаете, что это один из любимых писателей Ивана Александровича), доказывал, что до Вальтера Скотта не существовало романа, что роман только в наши дни получил свое высшее достоинство его гением, что и после Ричардсона, Лесажа и Руссо он все еще не имел права на название сочинения определенного и положительного, несмотря на то, что существовали «Новая Элоиза», «Вертер» и проч., и проч… словом, повторил все то, что говорили о нем европейские критики и что вслед за ними печатали наши журналы. Иван Александрович говорил горячо и долго. Марья Владимировна только из одного приличия не зевала. Когда он кончил, она сказала:
– Что ни говорите, Иван Александрович, а ваш Вальтер Скотт прескучный, пренесносный: я не нахожу в нем ничего хорошего. Как можно его сравнить с Дарленкуром или Поль де Коком? Дарленкур такой чувствительный писатель, а Поль де Кок такой забавный. Я всегда хохочу до истерики от его романов. Я очень люблю Поль де Кока.
– Поль де Кок! – Иван Александрович хотел что-то возразить, но слова замерли на языке его. – Поль де Кок! – повторил он снова глухим голосом и снова остановился.
Минут через пять он собрался с духом и сказал:
– Помилуйте, Марья Владимировна! Я не знаю, что же вы находите хорошего в Поль де Коке?
– Перестаньте, перестаньте, Иван Александрович. Ну, что ваш Вальтер Скотт-то написал хорошего? Признаюсь вам, меня никто так не забавляет, как Поль де Кок… Иван Александрович вздохнул.
С этой минуты он совершенно охладел к Марье Владимировне, так охладел, что ему было все равно, есть ли она на свете или нет. Не вините же Ивана Александровича за непостоянство, не говорите же, что он без причины разлюбил эту женщину! О нет! Он готов был любить ее страстно, безумно, он готов был боготворить ее; но я знаю наверно: он не воображал, чтобы в Петербурге могла найтиться женщина, которая бы любила одни только водевили да романы Поль де Кока. И еще женщина из такого прекрасного круга!
Они просто не сошлись. Иван Александрович думал найти в Марье Владимировне существо, гармонировавшее с ним… Что ж делать! он ошибся, он еще мало знал людей. Проказник! он думал, что все должны иметь одинаковый с ним вкус, одинаковый образ мыслей…
Вот отчего Иван Александрович так холодно принял приглашение Марьи Владимировны. Да и Федор Егорович стал наскучать ему: он беспрестанно приставал с своими стишками.
– У меня есть небольшое стихотвореньице, Иван Александрович, – говорил он, пожимая ему руку, – так, знаете, я сочинил для забавы, когда жил прошлое лето по Парголовской дороге. Вы знакомы с одним журналистом, по дружбе – этак, попросите, чтобы он напечатал в своем журнале. Видите, я посвятил эти стишки Марье Владимировне, она ведь охотница до поэзии и, между нами сказать, смыслит кое-что в этом деле. Она очень хвалила вот это место…
Федор Егорович вынул из кармана бумажку, всю исписанную, и начал читать с большим чувством:
Ручей бежал между кустами, Я молча плакал у ручья; Но ты не тронулась слезами, Жестокосердая моя!
Уж солнце к западу клонилось, И я побрел к себе домой, И голова моя скатилась На грудь, изрытую тоской!..
А? как вы находите это место?
– Очень хорошо, – отвечал Иван Александрович.
– Знаете, тут много меланхолии, не правда ли? У меня вообще этак… меланхолическое расположение в моих стихах…
«Неотвязчивый человек, несносный! – думал однажды Иван Александрович, разбирая свои бумаги и отыскав между ними стихи Федора Егоровича. – Ну, что я буду делать с этими стихами?»
Вдруг между бумагами мелькнуло что-то красненькое.
«Что бы это такое?..» – подумал Иван Александрович.
Кошелек! Это тот самый кошелек, который Елизавета Михайловна отдала ему с своими деньгами и который она никак не хотела взять назад.
Иван Александрович призадумался над этим кошельком. Он вспомнил, с каким восторгом эта добрая девушка отдавала ему свои последние деньги, как она была огорчена, когда он не хотел брать их… Он вспомнил ее слезы и потом эту непритворную радость, когда он решился взять деньги…
«Боже мой!» и вдруг мысль: что, если она любит меня? – впервые блеснула в голове его…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.