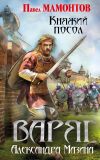Текст книги "Росстани"

Автор книги: Иван Шмелев
Жанр: Классическая проза, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
IV
В погожие дни брел Данила Степаныч на речку. Работник Степан нес за ним раскладной стульчик. Присаживались и молчали. Данила Степаныч переводил занявшийся дух, а Степан покуривал из кулака на травке. Стрекотали по плетням и сараям сороки, шуршали по коноплям воробьиные выводки. Дремалось на солнышке под сонную воркотню ключиков. Данила Степаныч разминал в меховом сапожке затекающие пальцы и думал, выдадут ли Николе из кредитного под новую стройку до Петрова дня, чтобы вовремя обернуться и не затянуться с гавриковским подрядом, а Степан смотрел на его драповое пальто и сапоги и раздумывал, не откажет ли ему старик чего из одежи, если помрет: все-таки он старается, растирает ему по вечерам ноги мазью, и всегда уж так водится, что за хороший уход дают чего-нибудь из одежи после смерти. А одежа бы ему пригодилась, потому что без хорошей одежи нельзя получить хорошего места в городе.
– Ну, подыми… – говорил Данила Степаныч.
Поддерживаемый под руку, шел он на речку, где лавы, узнавал место, видел, что лавы все те же – три бревнышка с поручнями – и все та же, прежняя, вьется в кустиках по откосу тропка на Шалово, идет мелким березняком-веничком, играют на быри те же голавлики и покачиваются давние, сизо-зеленые стрелки тростника. Бывало, вытягивали их осторожно, как цветочки из ландышника, с тонким писком и скручивали из них лодочки. И шумят-журчат звонкие ключики, как молодые – всегда молодые. А с горы напротив, из Медвежьего врага, потягивает утренней травяной прохладой, и растут там, не могут не расти, белые шапки болиголова, кусточки-дички красной смородины и цапкие плети лесной малины.
Протягивал палку к оврагу и говорил работнику, нанятому в Москве и ничего не знающему про эти места:
– А это… Медвежий враг. Понимаешь?
– Так точно-с, Данила Степаныч… Медвежий-с…
– А почему – Медвежий? Вот и не знаешь.
– Не могу знать-с. Надо полагать, медведи жили?…
– Вот и не знаешь. Тут… давно это было… я мальчишкой еще был… даже и до меня… понимаешь, медведь… зашел раз и увяз… понимаешь? Глина там, ключи… Живьем его тут и взяли… Понимаешь?
– Понимаю-с, с этого самого, значит… от медведя! Говорил вдумчиво, точно все это было и для него важно, и хмуро, как и Данила Степаныч, всматривался в глухую чащу высокого оврага в горе, где мелькало синее пятнышко рубашки: должно быть, там собирали ландыши.
– Вот и прозвали: Медвежий!
Говорил Данила Степаныч, чего не видал сам, чего, может быть, не видали и те, кто сказал ему. Может быть, сказку. Носил ее в себе всю жизнь и удержал в памяти среди вороха всяких дел и кипений. И вот теперь вспомнил и рассказал.
– Теперь медведи за редкость… – сказал Степан. – В зоологическом вот показывают… ситнички продают для прокормления…
И подбирал, о чем бы еще поговорить, чтобы было не скучно Даниле Степанычу. Морщил заросший лоб, двигал белыми бровями, поглядывал к небу – и не находил, что бы такое сказать еще. Родился и вырос в Москве и не знал ничего из здешнего. А на Данилу Степаныча напирало совсюду, куда ни глядел, переполняло всего, и нельзя было удержать при себе.
– Кали-ны тут!… – сказал он и махнул палкой.
– Место очень превосходное, – сказал Степан и посмотрел к палке. – Высота очень…
Шли деревней, и Данила Степаныч припоминал, чей же двор, вглядывался в старые ветлы, в завалившиеся сараюшки, с заплатами из обрубков, в затянувшиеся мохом крыши. Признал у колодца водопойную колоду, зазеленевшую от плесени, огрызанную. Постучал по ней палкой.
– Вон какая… – сказал не то Степану, не то себе самому.
– Не наблюдают-с… Наш Вороной и пить не соглашается…
Узнал большой белый камень, на который становились, доставая воду, на который и он становился, – протертый ногами до желобка. Камень долго живет. Остановился и покрестился на похилившийся кирпичный столбик, накрытый ржавой железкой, сколько уже раз заплатанной, в полутемном заломе которого стояла безликая иконка. Столбик стал совсем маленький, а когда-то был и шире, и выше и надо было дотягиваться, чтобы заглянуть: забивались сюда воробьи.
Выходили под окна бабы, незнакомые, молодые, кланялись и провожали пытливым взглядом. Выбежала худощекая, востроносая бабенка, в красном повойнике, с матежами по всему лицу, с животом, поддернувшим синюю юбку, закланялась низко-низко, зачастила:
– Здравствуйте, батюшка Данила Степаныч! Здоровьице-то ваше как… Отдохнуть коли желательно, я вам и стулик со спинкой вынесла бы… под рябинкой-то у меня хорошо, тихо…
А он поднял палку вровень с грудью и спрашивал хмуро:
– А ты… чья же?
– А Митрия-то Козлова… Козла!
– Козла-а?… Что ж это я не помню что-то… Козла!…
– А как же-с… батюшка Данил Степаныч… а мой Митрий-то гесятником у вашей милости, у Миколай Данилыча… Раньше-то в штукатурах все работал, допреждето, а теперь уж гесятник…
– Черный, что ль?
– Самый, самый он! С бородкой, рыжий, складный такой мужик. За вашей милостью и живем… дай вам от Господа здоровьица, родителям вашим царство небесное, деткам вашим на здоровье, на радость… Не оставили нас, сирот, попечением, добрым словом… просветили нашу убогость…
– А-а, ты какая… лопотуха… Ну-ну… Добеги-ка до Ариши, кваску сюда чтобы дала бутылочного…
– И жарко-то уж вам как, Данила Степаныч!… А я сейчас… Манюшка, стул давай с решеточкой, под часамито… В окно давай, несуразная!…
Пахло крапивой и коровьим навозом в холодке. Толклись мошки под развесистой рябиной. Данила Степаныч, красный, в белом сиянии веерной бороды, тяжело дышал и обмахивался белым картузом. Степан дожидался со стульчиком, сидя в сторонке, в тени крапивы. А с соседних дворов высматривали бабы, перебегали девчонки, – оповещали, что сидит Данила Степаныч у Дударихи на стуле под рябиной, а Дудариха побежала к Арине Степановне за квасом. А поодаль, из-за крапивы, выглядывали ребятишки и шептались.
V
Узнал Данила Степаныч колченогого пастуха ХандруМандру, старого ворчуна, – очень обрадовался.
Уже забыли, сколько годов ходил пастух за Ключевским стадом, всегда один, без подпаска, – десятка полтора всего было коров в деревне, – и на зиму не уходил, прижился. Был он чуть помоложе Данилы Степаныча, и как был всегда своенравный и зубастый, таким и остался. За то и прозвали его – Хандра-Мандра.
Подковылял сам, когда старик сидел у садика на скамеечке, стащил бурую шапку и тут же надел.
– С приездом, што ль, хозяин! Корову-то пустишь?
– А, ты, Хандра-Мандра! Жив еще?!
– Ты жив, а мне што ж не жить! Вместе, чай, помирать будем…
– О?! Ну, живи, живи…
– Поживу, коль так. Чего мне не жить! Скольких я стариков-то перехоронил! Мяса во мне нет, жилка да спленка… еще пятерых, гляди, с меня хватит!
– Ишь ты… – протянул Данила Степаныч, разглядывая маленькое, с кулачок, сплошь красно-бурое пятнышко лица пастуха, с жилками, как у королька.
– То-то и есть. Я вон, постой, Семена Морозку еще схороню да вот Мамайку, разбойника… на табачишко вон семитку накинул, шутьи его возьми! А то и еще кого… И тебя, может, еще схороню, что думаешь?! Я на жилке держусь, не скусишь!
Хитро смотрел на грузного, расползшегося к бедрам Лаврухина, помигивая белком попорченного глаза, и с трех шагов слышал Данила Степаныч знакомый дух стада и махорки. И как будто все та же была на Хандре долгополая кофта, обдиравшаяся слоями, в лоскутьях которой держал он кисет и газетку, – залитая смолой, давняя. Дубленое было лицо его с ветров и погоды, со скуламишишечками, без щек. Втянулись они под скулы, поросли серой щетинкой, и только в бровях еще чернело кусточками: посмыло кой-где дождями.
– Поднесешь чего – уберегу коровку, пожальствуешь – та-ак бока настегаю!… Со мной не шути… хе-э… С тебя должно супротив кого другого итить…
– Ну-ну… А ты, Хандра-Мандра… глазок оловянный!… Как раз и вспомнил: оловянным глазком, бывало, звали Хандру, да забыли. Даже пастух подивился и прояснел.
– Упомнил! Эх и стары же мы с тобой стали, Степаныч!… Оба в дураки выписались…
– Что ж это ты так… – нахмурился Данила Степаныч. – Ты, брат…
– А то как! Я вон весь век за коровами, ты за рублем ходил… При том и стались: у тебя рубли, у меня коровы… Ей-Богу! – хитро помигивал белком Хандра. – Может, ты и умней всех… дом-то какой! а я будто с придурью… Ну, давай рядиться. Кажну зорю стану тебе играть веселую.
Порядился на бутылке и рубле – за особый пригляд. Ходил взглянуть на корову. Обошел с боков, помял вымя, подавил кривым большим пальцем на крестец, отвернул хвост, посмотрел на зеркало, сказал:
– Огулёна по третьему месяцу.
Потянул за рог, перебирал пальцами, смотря в угол; прочел, как по книге:
– Ничего жуколочка… по четвертому телку. Вымистая, ничего… Красных восемь дал?
– Ну, ладно, ладно… там сколько ни дал… – осердился на что-то Данила Степаныч: немели ноги или обиделся, что так оценил.
Ушел в дом, а Хандра-Мандра остался под окнами, дожидался. Вынесла ему Арина стаканчик водки и яичко.
– Попригляди уж за коровенкой-то… московская ведь…
– Да уж… гхе!…
Покрестился и потянул из стаканчика, не спеша, запрокидывая голову. Сказал сипло:
– Шибко доиться будет, тетка Арина… без зацепу проскочило. И где вы такое винцо берете!…
Обсосал ус и заковылял, закручивая на ходу через спину свой долгий кнут.
А на зорьке разбудила Данилу Степаныча жалейка под окнами. Сперва и не разобрал, что такое. С минуту лежал затаившись, слыша, как застучало сердце, и когда понял, что это Хандра-Мандра играет, заложил руки за голову, уставился в сосновый потолок и слушал. Ах, жалейка!
Ти-и-а-а-и-и-и-а… ти-и-и-и-а-а-и-и-и…
Ах, жалейка!
Шло давнее, в ноющих переливах, далекое, совсем похороненное. И уже видел Данила Степаныч, как верха Медвежьего врага золотятся, лужок в росе, на речке туман, окна горят к восходу…
Закрыл глаза, совсем затаился, не слыша затекших ног, а Хандра-Мандра все играл, все глубже вытягивал, тащил из страшной дали живые вороха…
Ревели коровы утренним бодрым ревом. И в этих ревах и живых вскрикиваниях жалейки пробиралась тоскливая дума, что это последние голоса и жизнь уходит. Самое-то хорошее и прошло.
Скрипнули творила сарая. Сиплый, утренний, голос Арины понукал ласково:
– Ну, ну, дурашка… Христос с тобой, матушка… иди, иди…
Слышалась в тихом утре тяжелая ступь, и потянуло сытое тягучее мычанье. Крепко, как из пистолета, ударил кнут, побежало, рассыпалось по горам и отдалось в овраге. Всегда отдавалось. Мальчишками стояли, бывало, у крайней избы, где жил старик Золотой, – когда было! – и кричали к оврагу. И отвечал овраг. И теперь отвечает. И петухи в овраге поют, и жалейка играет, и перекликаются бабьи голоса.
И когда услыхал Данила Степаныч, как рассыпалось щелканьем, сказало в нем затаенное, что хорошо это, что он опять здесь и теперь уже больше не уедет. Что это все было неизменно полвека, когда его не было здесь, и каждое утро играла жалейка, и без него продолжалась его детская жизнь. И было ему грустно, и думалось, что уже выводятся настоящие пастухи, помрет Хандра-Мандра и здесь уже не будут играть так. Последние это пастухи.
И припомнилось ему еще, как лет тридцать назад приезжал он сюда с жидом-компаньоном, которого звали Яша, – через него купил он на слом княжеские дома на Поварской и выстроил на складчину первый доходный дом и выгодно продал. И привез он тогда этого Яшу, – вот был человек! – к себе на родину, показывал на радостях свое место, – вот откуда вышел! – а Яша хвалил все и говорил: «Вот место хорошее! вот где дач можно наставить!» Пили тогда они в большой компании, заставили ловить по омутам рыбу и раков, – сила раков была! Пили-пили, девок согнали, уху варили… Было дело… А на зорьке заиграл Хандра. Призвали его тогда на свое гулянье, к ветлам, за деревню, и напоили. Коньяком поили. Вот тогда он играл! Жид плакал и все хотел дачу себе на горе ставить и жить совсем. А Хандру в омуте купали, приводили к жизни…
Давно было… А там еще и теперь стоят ветлы, и можно собрать мужиков праздником, ловить рыбу, накупить коньяку и рому, можно позвать Хандру, и будет он играть… А жид тот помер уже…
VI
Подсолнухи на грядке вытягивались, выравнивались, ширились. На огороде, за погребами-соседями, черные гряды сплошь затянуло сочными огуречными плетями, и стоял там, когда ни взгляни, как будто старый ХандраМандра, рваный и кривобокий, распялив руки. Поставили его с весны – для гороха, и будет стоять так до осени – в огурцах.
Тих и тепел был май, тепел был и июнь, с тихими дождичками. Старый огород, лелеемый теткой Ариной, все еще был в силе, густо зацвели шершавые огуречные побеги, и исстари облюбованный горох оперился и пышно завился вокруг хворостин веселой зеленой рощицей.
Полюбил Данила Степаныч день за днем примечать, как в огороде день ото дня прибывает желтого цвету, а на горохе виснут лопаточки. Полюбил захаживать и на пасечку, позади огорода.
Маленькая была пасечка, старенькая, колодная. Всего только пять дупляков стояло, накрытых дощечками с кирпичиками, потрескавшихся и кой-где стянутых ржавыми обручиками и сбитых жестянками, – давние счастливые ульи. Когда-то, еще при покойном деде, на лаврухинской усадьбе была лучшая пасека, в сорок колод, и приходили из округи за удачливыми роями – благословиться к почину: удачлив был дед на пчелу, хорошо знал пчелиную повадку. А теперь оставались поскребушки: переводиться стала пчела. Но эти уцелевшие пять колод для Данилы Степаныча были не пять колод, а давний пчельник, в березках и рябинках. Только из берез-то оставалась одна-одинешенька, старая-старая, без макушки, да были еще поспиленные ветлы да обраставшие горьким грибом пеньки рябин. А когда-то всю пасеку освещало на закатах с пышных рябин красным горохом.
Как-то теплым июньским утром тихо прошел Данила Степаныч на пасеку. И что же увидел! Увидел своего деда Софрона. И рост такой же, и голова белая-белая, без лысинки, и повыгоревший казакинчик, в заплатах под рукавами. Стоял дед в росистой траве по колено, над дупляком, оскребал верха в буром гудливом рое, как дед Софрон, бывало, поутру. Конечно, это не дед Софрон был, а так похожий на деда двоюродный брат по матери, глухой Захарыч, который жил у Арины: пришел из Манькова, из пустого двора, помирать на людях. Знал Данила Степаныч, что живет Захарыч у Ариши, как в богадельне, что внучка его, одна живая душа из семьи, выдана была в Шалово и теперь едва держат ее в мужниной семье, а муж, слесарь, пропал без вести, когда была на Москве смута.
Когда жил в Москве Данила Степаныч, за всякими делами и своей семьей все перезабыл, как и где кто живет из родных и свойства. Точно и не было никого. А как стал жить здесь, стал вспоминать. Оставалось еще родни. Вот двоюродный брат Захарыч, вот еще какая-то Софьюшка есть, внучка Захарыча, и ему тоже вроде как внучка, какие-то еще племянники внучатные, дети троюродной сестры, которая теперь монахиней где-то или уже померла, – гармонисты, играют на посаде в трактирах. А в Шалове – крестник, теперь сильно разбогатевший, Василий Левоныч Здобнов.
На свободе, за самоваром, разобрали они с Ариной всю родню. Она всех знала, до грудных младенцев, ездила, как праздновали престол, то в Шалово, то в Маньково, то в Черные Пруды, – не теряла родни. Знала много всяких семейных случаев, кто и когда горел, кто чем помер, кто кого брал и откуда, кто выделялся. Многие далеко разошлись. Был теперь внучатный племянник в Сибири, на пароходах, была троюродная внучка выдана замуж за парня из Горбачева, а теперь очень хорошо живет, – приказчиком он на хорошем месте, только ехать туда надо две недели, Хива называется.
«Распложается народ, друг от дружки горохом катится», – вспоминались Даниле Степанычу слова Семена Морозова.
Говорил Данила Степаныч и с Захарычем, который все кланялся ему и называл «батюшка-братец», побаивался все, а ну-ка не позволит ему доживать здесь – летом в сарайчике, на задах, а зимой – в доме. Очень все беспокоился Захарыч, как принялись ставить дом, – рассказывала Арина. Данила Степаныч успокоил и велел жить без сомнения: места не пролежит, хлебом не объест. И все видел, как Захарыч робеет при нем, когда зазовут его пить чай в горницу, пьет чашку с одной изюминой и все старается услужить: то медку пообещает скоро припасти, то чай похвалит, то вспомнит, как его зять любил, «сресаль». И когда рассказывал про слесаря, плакал.
– Бывалыча… побывает когда из Москвы… к покосу… – рассказывал он и моргал красными, без ресниц, веками и уже ничего тогда не видел: сахар по столу нашаривал и мимо блюдечка наливал, – все калачика… а то сахарку хунтик…
Часто говорил про сахарок и про слесаря.
Узнал Данила Степаныч, как все собирался слесарь, Иван Арефьич, жену к себе выписать, все хорошего места дожидался. И Софьюшка все ждала и обещала Захарычу по три рубля высылать. А не вышло – пропал слесарь безо всякого следа вот шестой год как… А смирный был.
Окликнул Данила Степаныч Захарыча – пчел боялся, – не услыхал старик: совсем глухой был, да еще пчелы мешали. Смотрел Данила Степаныч, как накрыл старик улей, как пошел к березе, перекрестился и поцеловал на березе черную дощечку. И узнал он эту дощечку: Зосиму и Савватия, пчелиных покровителей. Каждый шаг, каждый день точно на радость ему сговорились открывать хорошее прошлое. В это утро вот вспомнил он образок, который висел с давней поры на пасеке, на проволочном ушке, на гвоздочке в березе. На зиму его уносили во мшаник. Сколько раз он и сам, бывало, целовал эту иконку, на которой стояли два старца, а за ними церковка с главками. Хорошо помнил и хлопотливый гул пчел в солнце, росе и зелени, и золотистую ворохню у летков, у пупков колод. Полвека не останавливается работа. Полвека все то же.
– Захарыч!
И опять не слыхал Захарыч, выбирал из головы, над ухом, запутавшуюся пчелу. Все то же. Все так же, бывало, и дед Софрон.
И тут увидал Данила Степаныч лоскутное одеяло на плетне и выглядывающего светловолосого мальчишку в белой рубашке. Мальчишка смотрел на него из-за колышков прясла, выглядывал одним глазом, прячась за колышек. Поманил его Данила Степаныч палкой, но мальчишка совсем укрылся за одеяло. Тут услыхал Данила Степаныч молодой бабий окрик:
– Поди, Ванюшка! Данил Степаныч зовет, поди…
И тут увидал Данила Степаныч в пролете плетневого сарайчика молодуху в белом платочке и голубой баске. Кланялась ему. Кто такая?
– А ты кто ж такая? – спросил он, подымая палку.
– Здравствуйте, Данил Степаныч… А Софья я, внучка вот дедушкина, Иван Захарычева. А тот мой, Ванюшка мой… Поди, Ванюшка, не бойся…
Но Ванюшка и теперь не шел, выглядывал половиною головы из-за одеяла. Трещал плетнем.
– А-а… Во-он вы кто-о! Ну-ну, покажись, покажись… Да-а, вон вы кто-о! Ишь ты, хорошая какая… бабочка…
И слово, давно не приходившее на язык, вышло у него ласково – бабочка.
Чернобровенькая была она, как галочка, смуглая от загару, тонколицая, с бойким взглядом, сухощавая, складная.
Тут и Захарыч услыхал говор, подошел, перебирая поясок на ситцевой белой рубахе в черных горошинках, и сказал, взглядом пытая бабу:
– А Софьюшка вот… сресалева-то… Побывать вот пришла… на денечек…
Тут уж и Ванюшка пересигнул плетень, подобрался сторонкой и поглядывал. Сучил босыми ногами в потемневших с росы розовых штанишках, похожий на мать – тонколицый, с черными бровками, в золотухе, сильно высыпавшей на губах и у носа.
– Ванькя вот, Данил Степаныч… правнучек мой… дождался, Данил Степаныч…
– Грамоте уж умеет, буковки уж разбирает… – сказала Софьюшка.
– Та-ак. Вот и расти. А там Николя мой приставит его куда там… – сказал Данила Степаныч, оглядывая Ванюшку, закусившего рукав рубахи. – Чего портки-то как обросил?!
– Покорно вас благодарим, Данила Степаныч… – быстро заговорила баба. – Только бы вам веку Господь послал.
– Ну вот, уж как-нибудь… Не чужие… Плохо живется-то, а?
– Без мужа, Данил Степаныч… плохо… – сказала баба, потупив глаза и косясь на широкие, блестящие от росы калоши Данила Степаныча.
А Захарыч помаргивал и покачивал головой, стараясь понять, о чем говорит братец. Смотрел поочередно на всех, перебирал поясок.
– Да, да… Ну вот, как-нибудь! – сказал Данила Степаныч и стукнул палкой.
Понравилась ему молодуха, скромная ее повадка и как она опускала шустрые глаза и поджимала маленькие губы, и черные ее бровки, точь-в-точь как у его невестки, Ольги Ивановны, когда была молодой. И сироткой, пугливым показался ему Ванюшка. Правнук вот! Тут, на солнце, у пчел, перед черной иконкой, перед откликнувшимся прошлым – так же, как этот мальчонка, сигал он, бывало, через плетни, – мягко и болезно взглянул он на этих, все как будто родных, и сказал, не раздумывая:
– А плохо, так здесь живите! – И посмотрел к черной дощечке. – Вот, у его и живите. Арише помощь…
– Покорно благодарим… – начала было Софьюшка: не ждала.
А Данила Степаныч уже шел с пасеки. У погребов остановился, задумался, повернулся к сараю и поднял палку.
– Живите и навсегда здесь, в дому!
Пошел, постукивая, задохнувшись, неся в себе теплое, сам растроганный тем, что сказал.
Исподлобья глядел на него Ванюшка: чего так кричит? А Захарыч тревожно выспрашивал:
– А чего говорил-то, Софьюшка… ась?
И когда сказала она ему, крикнула к уху:
– Здесь нам велит жить, дедушка! Ласковый! – старик потоптался и зажевал губами:
– А-я-яи, бра-атец… а-а-а…
Сновали пчелы, благодушно трубили. Пахло сырой землей и березой, старой пасекой, разогретым ситцем на бабе и тем пресным зеленым духом, что набирается там, где много сочной густой травы, прогретой солнцем. Пахло росистым июньским утром.
И когда шел Данила Степаныч с пасеки, остановился у огорода, поотдохнул от захватившего его волнения, поглядел и сказал про себя: «Славно растет!» Смотрел, как сновали по грядам пчелы, залезали в золотые кувшинчики огуречного цвета – шевелились кувшинчики. Уже обобрали они горохи и все кружились по редким верхушечным цветам – нет ли еще чего?
«Укропцу-то хорошо бы… к огурчикам-то… Бывало, по краешкам укроп все…».
Вспомнилось, как свешивались с гряд крупные огурцысемянки, а над ними черно-золотые зонтики душистого укропа. Захватишь снизу – как крупа посыплется между пальцев.
Благодатное было лето. Рано и споро росло все, цвело, зрело. Теплые были росы, густые, слышные. Падали тихие солнечные дожди с радугами. Хороши были в это лето горохи, огурцы, травы. Орехов была сила, – говорили ребята. Все сочно и весело смотрело на Данилу Степаныча, точно говорило: «А вот мы! все те же мы! и тогда, давно, мы – и теперь мы! всегда мы!» Точно сговорилось все радовать его, показаться казовой стороной.
И когда смотрел на огородик, думал, что маловат он, что надо его раздвинуть, перетолковать с соседом, взять у него в аренду его половину и пустить на тот год большой огород: все равно чужое в Москве покупают. Понасадить капусты, свеклы, моркови, всего… Маку насеять для охоты. Бывало, в уголушке там, к погребку, мак сеяли: глаза порадовать!…
И нападала на него жадность – сажать, сажать… Думалось, хорошо бы яблонек хоть парочку посадить – белого наливу, китайских: осыпучие бывают. И стояла в нем дума не дума – не привык он вдумываться до конца, – а как бы тень думы невеселой, что поздно. Надо бы раньше, исподволь все завести, и теперь были бы яблони. А капуста!… И вспоминалась крепкая, с заморозками, осень. Уже октябрь, уже в кадушках вода пристывала по ночам. Резали в сенцах капусту, тугую, белую, с хрустом вспарывали вилки, вырезывали кочерыжки. Откусишь – даже звякнет. С песнями рубили…
За делами в Москве и в голову не приходило, что есть еще дела, которые ему по сердцу, как теперь вот: взял бы вот лопату и стал копать. А нельзя, нельзя теперь – и сил нет, и вредно. Было даже любо смотреть, как Степан, хоть и неумело, выворачивает черную землю с хрустом, сечет розовые корешки, выкидывает белых хрущей. Пробудилась давняя в нем, от поколений зачатая, страсть – сажать, сажать, растить.
А издали следил за ним белый Ванюшка, крутил жгутом и драл зубами пруток, смотрел поверх прутика – строгий дедушка, большой.
Белело что-то за плетнем огородика, с уголка, к избе Семена Мороза. Пригляделся Данила Степаныч: маленькая девчоночка задрала платьишко, присела и выглядывает из бурьяна, красная.
– А, ты, какая… расселась!…
И посмеялся, как шуркнула девчонка по лопухам на задворки. Знакомое, бывалое все. Таким и осталось. Таким и будет.
Пришли белые гуси с речки, за ними утки. Стояли у крылечка, просили у бабушки Арины есть. Пошипел гусак на Данилу Степаныча, покружил шеей, погрозил уклюнуть и затрубил, затрубил…
И каждый день много было тихих и радостных дел у Данилы Степаныча: то огородик, то пасека, то посидит у сарайчика, под малинкой, пьет свою воду, с Ванюшкой поговорит. Загадки даже загадывал. Тыкал в живот, выпятившийся над опояской, спрашивал:
– А ну-ка, что будет? «В лес путь-дорога, на пупке тревога, в брюхе – ярмонка»? Ну?
Ванюшка пятился, прижимал золотушный подбородок к рубахе и глядел исподлобья в густую белую бороду, в желтое пухлое лицо. Глядел и думал: какая борода-то, как веник!
– Ну, что? Вот и не знаешь… рубаху-то квасом залил? Во-он они! – показывал Данила Степаныч на колоды.
Стояли они, как старые червивые грибы-березовики, в высокой траве.
То по садику ходил, смотрел на свои любимые подсолнухи, уже начинавшие темнеть усатыми маковками, и радовался. И то голуби, то проскакивавшие со двора в дырки палисадника черным горошком породистые цыплята:
– Шшш!…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?