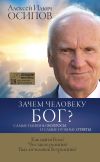Текст книги "Биография Бога: Все, что человечество успело узнать"

Автор книги: Карен Армстронг
Жанр: Зарубежная эзотерическая и религиозная литература, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Подобно всякой религиозной традиции, ислам впоследствии развивался и эволюционировал. Мусульмане создали огромную империю, от Пиренеев на западе до Гималаев на востоке. Однако, в соответствии с заповедями Корана, они не заставляли никого обращаться в ислам. Более того, в первые сто лет после смерти Пророка обращение в ислам даже не приветствовалось: считалось, что это вера для арабов, потомков Исмаила (старшего сына Авраама), подобно тому, как иудаизм – для сынов Исаака, а христианство – для последователей Евангелия.
* * *
Таким образом, вера была вопросом действия и опыта. К абстрактным умозрительным построениям и домыслам она отношения не имела. Иудаизм и ислам так и остались религиями действия: в них ортопраксия (правильные поступки) важнее ортодоксии (правильного учения). Христианство же с начала IV века развивалось в несколько ином направлении. В нем появился идефикс на доктринальной точности, который стал впоследствии его ахиллесовой пятой. Однако не все христиане яростно спорили о сложных догматических определениях. Были и такие, которые (быть может, в качестве ответа на эти споры) подчеркивали важность молчания и неведения. Эта тенденция оказалась не менее значимой, влиятельной и авторитетной.
Глава 5
Молчание
Легализация христианства при Константине Великом – Богословские споры IV века – Противостояние Афанасия и Ария – Христологические взгляды Максима Исповедника – Бессловесная духовность монахов-пустынников – Духовный опыт – Отцы-каппадокийцы – Учение о Троице – Августин Гиппонский – Учение о первородном грехе – Псевдо-Дионисий Ареопагит и его богословие.
В 312 году Константин разбил своего соперника в борьбе за императорский трон в битве у Мульвийского моста и навсегда остался при убеждении, что победой обязан Богу христиан. На следующий год он объявил христианство religio licita, одной из разрешенных религий Римской империи. Это было эпохальное и роковое событие. Христиане перестали быть гонимой и запрещенной сектой. Отныне они имели право владеть собственностью, строить храмы, свободно совершать богослужение и активно участвовать в общественной жизни. Хотя Константин продолжал возглавлять имперский культ в качестве pontifex ma ximus и крестился лишь на смертном одре, было ясно, что ему любезнее христианство. Он надеялся, что, будучи легализованной, Церковь станет сплачивающей силой в его большой империи. Однако императорская поддержка оказалась палкой о двух концах. Константин очень слабо разбирался в христианском богословии, что не мешало ему вмешиваться в доктринальные споры, когда он сообразил, что церковь – желанный оплот единства – сама раздираема догматическими дебатами.
Христианам пришлось приспосабливаться к новым обстоятельствам, а также оглашать неожиданно большое количество людей: в церковь хлынули новообращенные, причем далеко не все обращались бескорыстно. А еще христиане осознали, что их вера может вызывать недоумение. Иудеев в их рядах было уже мало, однако еврейская терминология, заложенная первыми иудеохристианами, сохраняла значимость. Отсюда возникала необходимость перевести богословие на язык греко-римской культуры и попутно ответить на ряд вопросов. Христианство считает себя монотеизмом, но как быть со статусом Иисуса, воплощенного Логоса? Является ли он вторым Богом? И что имеют в виду христиане, когда называют его «Сыном Божиим»? Можно ли сказать, что он наполовину Бог и наполовину человек (как Дионис)? И кто тогда Святой Дух? Проблема усугублялась серьезными переменами в духовном и интеллектуальном климате поздней античности.
Дело в том, что постепенно утрачивалось доверие к физическому миру и человеческой природе. Доселе греки, подобно большинству других народов, не считали, что между Богом и людьми лежит неодолимая пропасть. Их философы полагали, что люди, как существа разумные, несут в себе искру божественного; Сократ, воплощение идеала мудреца, был фактически сыном Божиим и аватарой божественного. Люди ранее не сомневались, что способны взойти к Благу, используя свои природные способности. Платоник Ориген верил, что может познать Бога, размышляя о мироздании, и понимал христианскую жизнь как платоновское восхождение, которое продолжится и после смерти, доколе душа не прилепится к божественному. Египетский неоплатонический мыслитель Плотин (около 205—270) считал, что мир произошел от Бога путем эманации, как лучи исходят от Солнца. Соответственно, материальный мир – это излияние самого бытия Божьего и, когда мы размышляем о мире, то размышляем о Боге. Однако к началу IV века люди стали усматривать огромную, почти непреодолимую пропасть между Богом и миром. Вселенная стала видеться столь хрупкой, смертной и случайной, что не могла иметь ничего общего с Богом, который есть само Бытие. Казалось, устрашающая пустота готова поглотить все живые существа. Древний вопрос («почему что-либо существует?») перестал вселять благоговейный трепет, интерес и восторг. Его сменило тошнотворное головокружение. Где-то совсем рядом, и в начале, и в конце человеческого существования, угрожающе маячило Ничто.
Некоторые христиане стали развивать новое учение, совершенно неизвестное в древности, согласно которому, мир был создан «из ничего» (ex nihilo). Климент Александрийский (около 150—215) считал философскую идею вечного космоса идолопоклонством, поскольку природа в ней получается вторым и совечным Богом. Ничто не может произойти из ничего, а значит, вселенная вызвана из небытия Богом, который есть сама жизнь. Нельзя обожествлять вселенную, но следует знать, что она существует единственно волением Божьим.[366]366
Климент Александрийский, Увещание к эллинам, 4.63.6; Pelikan, The Christian Tradition, I, 36.
[Закрыть] Правда, идея, что Бог создал все «из ничего» создавала серьезные проблемы: не означает ли это, что Бог несет ответственность за зло? Вместе с тем, если считать материю вечной, под вопросом оказывались всемогущество и суверенная свобода Бога. Монотеизм предполагал, что есть только одна всемогущая сила, а значит, на решения Бога не могли повлиять независимые требования материи. Следовательно, нельзя представлять Бога в виде эдакого платоновского демиурга, который лишь обустраивает уже существующую материю.[367]367
Ириней Лионский, Против ересей, 2.30.9.
[Закрыть]
В наши дни христианство, а часто и теизм, уже не мыслят без учения о творении «из ничего». Поэтому любопытно, что появилось оно далеко не сразу. Греческой философии оно было совершенно чуждо. Аристотель счел бы абсурдной идею, что вечный Бог, полностью погруженный в непрестанное созерцание себя, вдруг решил создать космос. Сотворение «из ничего» представляет собой существенный сдвиг в христианском понимании Бога и мира. Отныне уже не было разговора о цепочке постепенных эманаций (от Бога к материальному миру) и о промежуточной сфере духовных существ, которые передают божественную энергию на более низкие уровни. Вместо этого Бог призвал каждое существо из невообразимого «ничто» и может в любой момент отнять свою хранящую длань. Сотворение «из ничего» оторвало вселенную от Бога. Физический мир ничего не может рассказать нам о божественном, поскольку не возник путем эманации (как думали философы), а создан «из ничего». Стало быть, он обладает совершенно другой природой (онтос), чем природа живого Бога. «Естественное богословие», которое делало выводы о Боге из разумного размышления о мире, отныне стало невозможным: согласно новой доктрине мы, если нас предоставить самим себе, ничего не можем знать о Боге.
И все-таки христиане чувствовали, что Бога нельзя считать полностью непознаваемым. Ведь человек Иисус стал образом (эйкон) божественного и дал намек на то, каков трансцендентный Бог. Они были также убеждены, что, несмотря ни на что, вступили в доселе неизведанное измерение человеческой природы, в котором отчасти могут приобщиться к божественной жизни. Свой христианский опыт они называли «обожением» (теозис): подобно воплощенному Логосу, они стали сынами Божиими (как объяснял уже апостол Павел). Однако из-за открывшейся пропасти между материальным и божественным миром, они осознали, что не могли достичь этого собственными усилиями. В них действовал Бог. Бог, который привел все к бытию, преодолел эту бездну, когда «Слово стало плотью и обитало с нами».[368]368
Ин 1:14.
[Закрыть] Однако кто есть Иисус? На какой стороне пропасти находится Логос, через которого «все начало быть»?[369]369
Ин 1:3.
[Закрыть] Некоторые христиане рассуждали так: согласно Евангелию Иоанна «в начале… Слово было у Бога, и Слово было Бог».[370]370
Ин 1:1.
[Закрыть] А значит, Иисус принадлежит к сфере божественного. Другие отмечали: Слово стало человеком, и человек этот погиб мучительной смертью, изведал хрупкость и бренность материи. Не означает ли это, что Слово, подобно всему остальному, создано «из ничего»?
В 320 году в Александрии разгорелся жаркий спор на эти темы. По-видимому, началось все с вопроса, как толковать слова Премудрости в Книге Притчей, которые христиане всегда относили ко Христу: «Яхве создал меня как начало путей своих».[371]371
Притч 8:22.
[Закрыть] Была высказана гипотеза, что Премудрость была как бы помощником Бога при сотворении мира. Арий, харизматичный и привлекательный александрийский пресвитер, полагал, что из текста черным по белому следует: Слово и Премудрость Божья – это первое из творений. Отсюда следовало, что и Слово было создано «из ничего». Арий не отрицал божественности Иисуса, но считал, что он просто получил божественный статус. Бог предвидел, что, когда Логос вочеловечится, он будет вести себя с полным послушанием, и в награду заранее даровал ему божественность. Таким образом, Логос представлялся прототипом человека, достигшего совершенства; если христиане будут подражать его кеносису, они также станут «сынами Божиими» и обретут божественность.[372]372
Robert C. Gregg & Dennis E. Groh, Early Arianism – A View of Salvation (London, 1981), 20—28.
[Закрыть] Александр, епископ Александрии, и его талантливый молодой помощник Афанасий сразу осознали, что Арий подметил некоторые проблемы в александрийских представлениях о Христе. И эти проблемы требовалось прояснить.[373]373
Prestige, God in Patristic Thought, 146—156, 197—223; Pelikan, The Christian Tradition, I, 194—210; Gregg & Groh, Early Arianism, op. cit.; Rowan Williams, Arius: Heresy and Tradition (London, 1987); Louth, The Origins of Christian Mysticism, 76—77.
[Закрыть]
Спор не ограничивался узким кругом специалистов. Арий положил свои идеи на музыку, и вскоре моряки и путешественники распевали песни, в которых говорилось, что Отец – Бог по природе, что Он даровал жизнь и бытие Сыну, который тварен и не совечен Отцу. Вскоре дебаты достигли церквей Малой Азии и Сирии. Современник свидетельствует, что подобные разговоры шли на каждом шагу: спрашиваешь, готова ли баня, – сообщают, что Сын произошел из ничего; спрашиваешь, сколько заплатить оболов, – рассуждают о рожденном и нерожденном; спрашиваешь цену на хлеб, – отвечают, что Отец больше Сына.[374]374
David Christie Murray, A History of Heresy (Oxford & New York, 1976), 46.
[Закрыть] Люди обсуждали эти вопросы с тем же жаром и увлечением, с каким сегодня обсуждают футбол, поскольку здесь затрагивались ключевые моменты христианской жизни. В прошлом символы веры и разъяснения веры часто корректировались с учетом пастырских нужд.[375]375
John Meyendorff, “Eastern Liturgical Theology,” in McGinn & Meyendorff, Christian Spirituality, 354.
[Закрыть] Арианский кризис показал, что придется вносить новые изменения.
В последующие века слова «арианство» и «ересь» стали синонимами, однако в ту пору официальная позиция еще не была сформулирована, и никто не знал, прав Арий или Афанасий.[376]376
Pelikan, The Christian Tradition, I, 200.
[Закрыть] Арий отстаивал трансцендентность Бога. Бог – «единственный не рожденный, единственный вечный, единственный без начала, единственный истинный, единственный имеющий бессмертие, единственный мудрый, единственный благой».[377]377
Арий, Послание Александру 2; см. Pelikan, The Christian Tradition, I, 194.
[Закрыть] Его могущество столь велико, что при сотворении нужен был посредник (Логос), поскольку хрупкие твари не могли быть сотворены абсолютной рукой Безначального.[378]378
Афанасий, О постановлениях Никейского собора 8.1; см. Pelikan, The Christian Tradition, I, 195.
[Закрыть] И уж, конечно, не мог пребывать всемогущий Бог в человеке Иисусе: с точки зрения Ария, это все равно что втискивать кита в банку с креветками или гору – в коробку. Со своей стороны Афанасий пекся о литургической практике Церкви: в богослужении регулярно, хотя и несколько туманно, говорилось о божественности Иисуса. Он выдвигал такой аргумент: если ариане считают Сына тварью, разве не впадают они в грех идолопоклонства, почитая его?[379]379
Афанасий, На ариан слово второе 23—24.
[Закрыть] Подобно Арию, Афанасий соглашался с идеей творения мира «из ничего», но считал, что Арий не додумал его последствия. Ведь творение «из ничего» означает полную несовместимость между самим Бытием и тварями, которые произошли «из ничего».[380]380
Ralph Norman, “Rediscovery of Mysticism,” in Jones, The Blackwell Companion to Modern Theology, 456—458.
[Закрыть] С помощью своего естественного разума мы можем познавать предметы материального мира, а они ничего не говорят о Боге. Наш мозг приспособлен лишь к тому, чтобы распознавать только конечные реальности, созданные «из ничего», поэтому мы понятия не имеем, что такое сущность (усия) нетварного Бога. Бог отличен от всех сотворенных существ, Арий же мыслит его слишком по-человечески.[381]381
Афанасий, На ариан слово первое 18; см. Rusch, The Trinitarian Controversy, 78.
[Закрыть] Кроме того, поскольку Бытие и небытие не имеют абсолютно ничего общего, невозможно говорить в этих человеческих категориях о Логосе, через которого «все начало быть»: «Ибо какое сходство между тем, что из ничего, и между Творцом, из ничего приводящим это в бытие?»[382]382
Ibid., 21. [Цит. по пер. Московской духовной академии. – Прим. пер,]
[Закрыть] Невозможно говорить, что Иисус связан с очень большим и могущественным существом (как получается у ариан). Можно лишь констатировать непостижимую трансцендентность в Иисусе, полностью отличной от чего-либо в человеческом опыте.
Арий положил свои идеи на музыку, и вскоре моряки и путешественники распевали песни, в которых говорилось, что Отец – Бог по природе, что Он даровал жизнь и бытие Сыну, который тварен и не совечен Отцу.
Таким образом, взаимосвязь между непознаваемым Богом и воплощенным Логосом, который привел все к бытию, принципиально иная, чем взаимосвязь между любыми двумя тварными существами. Если, подобно арианам, представлять себе Бога как существо вроде нас, только больше и лучше, то для такого Бога абсолютно невозможно стать человеком. Лишь потому, что мы не знаем, что такое Бог, мы можем говорить о его воплощении в человеке Иисусе. Невозможно также сказать, что во Христе нет божественной субстанции, поскольку мы не может определить «усию» Бога; она слишком непостижима для нас, – получится, что мы даже не знаем, что отрицаем. Христианам было бы недоступно «обожение», и они не смогли бы даже представить себе неведомого Бога, если бы Бог неким непостижимым образом не взял на себя инициативу и не вошел в мир хрупких тварей.
Таким образом, когда мы смотрим на человека Иисуса, мы можем составить некоторое понятие о невидимом Боге, и сделать это нам помогает Дух Божий, имманентное присутствие в нас.
К несчастью, вмешался Константин, совершенно не разбиравшийся в этих вопросах. Он созвал всех епископов на собор в малоазийский город Никея. Собор начался 20 мая 325 года. Афанасию удалось настоять на своем, и Собор вынес вероопределение (орос), в котором Христос объявляется «несотворенным» и «рожденным… из сущности Отца» (не созданным «из ничего», подобно всему остальному!) Он был «от Бога» в совершенно особом смысле, чем все твари.[384]384
Pelikan, The Christian Tradition, I, 201—204.
[Закрыть] Парадоксальные формулировки ороса отражали новый акцент на непознаваемости Бога.[385]385
Не следует путать этот орос с так называемым Никео-Константинопольским символом, который был принят в Константинополе в 381 году.
[Закрыть] Между тем они ничего толком не решили. Под давлением императора решение подписали все, за исключением Ария и двух его коллег. Однако, вернувшись к своей пастве, они продолжали учить, как учили и раньше: большей частью, это был некий средний вариант между Арием и Афанасием. Попытка навязать епископам и прочим христианам единообразную веру оказалась контрпродуктивной. За Никейским собором последовали еще полвека взаимных нападок, разделений, соборных дискуссий и даже насилия, а вся проблема оказалась сильно политизирована. Впоследствии Никейский собор станет символом ортодоксии, однако пройдут века, прежде чем Афанасиева формула обретет вид, который захотят принять христиане (да и то не все).
За Никейским собором последовали еще полвека взаимных нападок, разделений, соборных дискуссий и даже насилия, а вся проблема оказалась сильно политизирована.
Восточные и западные христиане понимали Воплощение несколько по-разному. Ансельм Кентерберийский (1033—1109) определил учение об искуплении, ставшее нормативным на Западе: Бог стал человеком, чтобы искупить грех Адама. Однако православные христиане смотрели на вещи в ином ракурсе. Православный взгляд на Иисуса был выражен Максимом Исповедником (около 580—662), который считал, что Слово стало бы плотью, даже если бы Адам не согрешил. Во Христе мы видим первую полностью «обóженную» человечность. И еще при этой жизни можем в этой обóженной человечности соучаствовать. Слово стало плотью, чтобы весь человек мог стать Богом, обожившись благодатью Бога, ставшего Человеком, становясь полным, целостным человеком, душою и телом, по природе, и становясь всем и во всем Богом, душою и телом, по благодати.[386]386
Максим Исповедник, Амбигвы 42. [Цит. по пер. В.Марутика – Прим. пер.]
[Закрыть]
В результате этой божественной инициативы Бог и человек стали неотделимы. Человек Иисус дает нам не только понятие о том, каков Бог, но и, неизъяснимым образом, возможность обóжения.
Максим Исповедник соглашался с Афанасием, что Бог абсолютно трансцендентен. Откровение воплощенного Логоса показывает, что Бог непознаваем. Лишь потому, что мы не рассматриваем Бога как человека в увеличенном масштабе (как делал Арий), мы можем говорить, что он одновременно оставался Всемогущим и принял человеческую плоть: ведь в доступном нам опыте несовместимые вещи сходиться не могут. Лишь потому, что мы не знаем, что есть Бог, мы говорим, что люди могут тем или иным образом соучаствовать в о бóженной человечности. Даже когда мы взираем на человека Христа, Бог остается сокрытым и неясным. Откровение не дает нам ясной информации о Боге, но сообщает, что Бог непостижим для нас. Как ни парадоксально, задача Откровения состояла в том, чтобы объяснить, что мы ничего не знаем о Боге. А высшее откровение воплощенного Логоса говорит об этом еще яснее. Оказывается, нам нужно сказать о том, что мы чего-то не знаем, в противном случае мы не узнаем и этого…
По словам Максима Исповедника, и после Воплощения Бог остается полностью непостижимым; более того, что может лучше доказать его божественную трансцендентность, чем Воплощение? Его разум неизъясним и непостигаем.[387]387
Ibid., 5.
[Закрыть]
Доктринальными формулировками эти вопросы не решаются: в человеческом языке недостаточно средств, чтобы описать реальность, называемую «Богом». Даже такие слова, как «жизнь» и «свет», означают нечто иное, когда мы применяем их к Богу. Поэтому молчание – единственный способ «сказать» о божественном.
Даже такие слова, как «жизнь» и «свет», означают нечто иное, когда мы применяем их к Богу. Поэтому молчание – единственный способ «сказать» о божественном.
Это не означает, что люди должны просто «уверовать» в неизъяснимые истины. Необходима серьезная духовная работа над собой, чтобы обрести внутренний мир, в котором возможна встреча с Неведомым. Богословие Максима Исповедника основано на духовности, которая развивалась после Никейского собора. В то время как одни христиане испытывали ужас перед первоначальным Ничто, другие смело шли ему навстречу. В то время как одни погрязли в многословных диспутах о нюансах христологических формулировок, другие увидели значимость молчания (наподобие брахмодья в Индии). Настоящими героями были монахи. Они уходили в пустыни Египта и Сирии, чтобы жить там в одиночестве, размышлять над текстами Священного Писания (которые помнили наизусть) и совершать духовные упражнения, дававшие внутреннее спокойствие, какое искали эпикурейцы, стоики и киники. Греческие отцы воспринимали монашество как новую философскую школу. Монахи развивали стоическую добродетель «внимания к себе» (просохе). Они также готовились к смерти и вели образ жизни, который не вписывался в существующие нормы (атопос).[388]388
Hadot, Philosophy as a Way of Life, 129–32.
[Закрыть] К середине IV века некоторые монахи-пустынники углубились в апофатическую, или бессловесную, духовность, которая давала им внутреннюю тишину (исихия).
При интуитивном постижении Бога не следует ожидать экзотических чувств, видений и небесных голосов: если нечто подобное имеет место, это не от Бога, а от воспаленного воображения.
Евагрий Понтийский (около 345—399), один из самых выдающихся исихастов Египетской пустыни, учил монахов методам сосредоточения, чем-то напоминавшим йогу. Эти практики успокаивали ум. Вместо того чтобы втискивать божественное в узкие рамки человеческих рационалистических категорий, монахи развивали внимательное молчание.[389]389
Kallistos Ware, “Ways of Prayer and Contemplation: Eastern,” in McGinn & Meyendorff, Christian Spirituality, 395—401.
[Закрыть] Молитва не была ни беседой с Богом, ни медитацией над божественной природой. Напротив, «молитва есть отрешение ума от всяких помыслов».[390]390
Евагрий Понтийский, Слово о молитве, 71. [Здесь и далее цит. по пер. А.И.Сидорова. – Прим. пер.]
[Закрыть] Поскольку Бог находится за пределами любых слов и понятий, ум должен быть «обнажен». Евагрий советовал:
Возможно обрести интуитивное постижение Бога, совершенно отличное от всякого знания, которое достигается дискурсивным мышлением. Не следует ожидать экзотических чувств, видений и небесных голосов: если нечто подобное имеет место, это не от Бога, а от воспаленного воображения и лишь отвлекает от подлинной цели:
Некоторые греческие отцы называли молитву деятельностью сердца (кардиа), однако это не означает, что молитва есть эмоциональный опыт. В данном случае «сердце» – это духовный центр человека, то, что Упанишады именуют «атман», подлинное «я».[393]393
A.J.Moore, Fifty Spiritual Homilies of St Macarius the Egyptian (London, 1921), 116, 122.
[Закрыть]
В наши дни религиозный опыт часто понимают как глубоко эмоциональный, а потому советы Евагрия могут показаться, мягко говоря, перестраховкой. Между тем духовные учителя всех великих традиций отмечали: видения, голоса и эмоции не только не важны для духовного поиска, но могут отвлекать. Постижение Бога, Брахмана, Нирваны и Дао не имеет никакого отношения к эмоциям. Христиане знали об этом с самого начала. В Новом Завете читаем: в некоторых церквях богослужение было шумным и беспорядочным, верующие говорили в Духе на непонятных языках, впадали в экстатический транс и пророчествовали, – однако апостол Павел напоминал им, что такие вещи должны оставаться в должных рамках, и важнейшим из духовных даров является любовь. Во всех основных традициях железное правило религиозного опыта состоит в том, что этот опыт должен приносить добрые плоды в повседневной жизни. Если в результате своего «духовного совершенствования» человек становится странным и неадекватным, это худой знак.
В этом ключе выстроены и советы Евагрия. Многие созерцательные практики (йога, исихия) направлены именно на то, чтобы освободить ум от земных способов восприятия. Если же потакать обычным ощущениям, это будет означать, что человек не вышел за рамки мирского состояния ума, которое хочет преодолеть. При таких путешествиях в глубины ума не обойтись без духовного наставника, гуру. Погружаться в подсознание рискованно, и необходим опытный человек, который не позволит ученику соблазниться опасными эмоциями, а проведет его к внутреннему миру «исихии», укорененного в более глубоких уровнях «я», чем эмоции.
Жизнь монахов-пустынников была чрезвычайно монотонной. Неслучайно во всех духовных традициях люди, которые хотели заниматься подобной медитативной деятельностью, организовывали монашескую жизнь. Понятно, что в каждой культуре есть своя специфика, но сходства поразительны. Практика показала, что уход от мира, молчание, общинные правила, где все носят одну одежду и делают одни и те же вещи изо дня в день, помогают в духовном (и часто одиноком) пути, «заземляют» в реальности и оберегают от излишней эмоциональности и восторженности. Так появляется элемент стабильности, противовес душевным крайностям, которые все время подстерегают монаха, йога и исихаста. А если молитвенный опыт переполнен восторгами, есть опасность, что человек утратил контроль над психологическими ритмами своей внутренней жизни.
Исихия – это не то, что сейчас называют «мистикой». Это не особая форма молитвы, отличающаяся яркими духовными видениями и доступная лишь элите. Да, монахи были профессионалами – вся их жизнь была посвящена духовной работе над собой, – однако исихия предписывалась и мирянам. Вообще считалось, что исихия должны сопутствовать всякой христианской деятельности: богословию, богослужению, экзегезе, этике и делам милосердия. Исихия – не только для отшельников. Ее можно практиковать, и не удаляясь из общества и человеческих отношений.[394]394
Louis Bouyer, “Mysticism: An Essay on the History of the Word,” in Richard Woods, ed., Understanding Mysticism (New York, 1980), 42—44.
[Закрыть]
Во всех основных традициях железное правило религиозного опыта состоит в том, что этот опыт должен приносить добрые плоды в повседневной жизни.
Одним из выдающихся представителей новой апофатической теологии был Григорий Нисский (около 331—395), женатый человек, работавший профессиональным ритором до того, как стать епископом маленького каппадокийского городка Нисса. С величайшей неохотой включался он в политические перипетии арианского спора. Ему не нравились эти богословские диспуты, поскольку вопросы христианского вероучения не решаются подобными способами. Богословие коренится в духовной практике, и об истинности его могут судить лишь люди, которые пропустили эти доктрины через себя, преобразились через них. Мы не можем судить о Боге рационально, как о других существах, но это не означает, что о Боге не надо думать.[395]395
Coakley, Rethinking Gregory of Nyssa; Louth, The Origins of Christian Mysticism, 80—95.
[Закрыть] Пусть ум идет к неведомому. Необходимо углубиться еще дальше во тьму неведения и признать, что окончательной ясности быть не может. После первоначальной растерянности душа осознает:
Преуспевать всегда в искании и никак не прекращать восхождения есть истинное наслаждение желанным, когда непрестанно исполняемым вожделением порождается новое вожделение Высшего.[396]396
Григорий Нисский, Точное изъяснение Песни Песней Соломона 12.1037. [Цит. по пер. Московской духовной академии. – Прим. пер.]
[Закрыть]
Необходимо оставить «все видимое и постигаемое», после чего «обозрению души остается только невидимое и непостижимое».[397]397
Ibid., 11. 1000—1001.
[Закрыть]
По мнению Григория Нисского, это можно видеть в жизни Моисея. Первая его встреча с Богом была откровением при неопалимой купине, где он узнал, что Бог, назвавший себя «Я есмь», есть Сущий. Тогда понял Моисей, «что из всего объемлемого чувством и созерцаемого умом, ничто не есть сущее в подлинном смысле, кроме превысшей всего сущности, которая всему причина и от которой все зависит».[398]398
Григорий Нисский, О жизни Моисея 2.24. [Цит. по пер. Московской духовной академии. – Прим. пер.]
[Закрыть] После этого первоначального откровения Моисей, подобно великим философам, стал внимательно наблюдать природу. Природа же может привести нас к Логосу, через которого был создан мир, но не к самому Богу. Лишь когда Моисей взошел на гору Синай и вступил в непроницаемый мрак на вершине, он оказался там, где Бог, хотя и не мог ничего видеть. Он отбросил все обычные способы восприятия и достиг совершенно особого видения. Дойдя до пределов постигаемого разумом, он ощутил молчаливую Инаковость, стоящую за пределами слов и понятий. Если исихаст поймет это, он также поймет, что всякая попытка дать Богу четкое определение «созидает Божий кумир, а не возвещает о самом Боге».[399]399
Ibid., 2.165.
[Закрыть]
Григорий знал, что для многих христиан никейский орос сложноват. Как получилось, что Сын – одной природы с Отцом, и при этом не второй Бог? Не будучи знакомы с традиционной иудейской терминологией, они также недоумевали, кто такой Святой Дух. Над ответом на эти вопросы размышлял старший брат Григория, Василий Кесарийский (около 330—379). Христианам не следует думать о Боге как о ком-то вроде нас, только покрупнее и посильнее. Ничего общего с реальностью это не имеет. Бог непознаваем! Наш разум ограничен сущностями в мироздании: мы не в состоянии представить себе «ничто», из которого создан мир, поскольку можем помыслить лишь объекты, которые имеют пространственное измерение и качества. Мы не можем знать, что было до того, как возник наш мир, поскольку мыслим в категориях времени. Именно это имел в виду евангелист Иоанн, когда сказал: «В начале было Слово».
Ибо это «было» неисходно для мышления, и начало непреступно для представлений. Сколько ни углубляйся мыслию в давнее, не выйдешь из сего: «было», и сколько ни усиливайся увидеть, что первоначальнее Сына, не возможешь стать выше Начала.[400]400
Ин 1:1; Василий Великий, О Святом Духе 6. [Цит. по пер. Московской духовной академии. – Прим. пер.]
[Закрыть]
То, что находится за пределами мироздания, непостижимо для нас. Когда мы пытаемся представить себе Творца, наш ум сталкивается с неодолимой преградой. Однако мы видим знаки и следы Бога в окружающем мире. Возрождая Филоново разграничение между непознаваемой «усией» Бога и его «энергиями», Василий Великий настаивал: что есть сущность Бога, выше человеческого разумения. Кто утверждает, что знает ее, глубоко ошибается. И лишь молчание подобает для того, что лежит за пределами слов. Однако мы можем иметь представление о силе и величии, премудрости и благости Божией.[401]401
Василий Великий, Письма 234.1.
[Закрыть]
Чтобы показать, что Отец, Сын и Святой Дух не три разных «бога», Василий Великий сформулировал учение о Троице. Поначалу христиане думали, что Иисус, воплощенный Логос, это одно, а Святой Дух – это другое. Однако апостол Павел отождествил их: «Господь есть Дух».[402]402
2 Кор 3:17.
[Закрыть] Со временем христиане поняли, что божественные энергии, которые они ощущают в церковных обрядах, не поддаются четким определениям, и между ними невозможно провести четкую грань. А значит, «Логос» и «Дух» – одна и та же божественная сила. В Боге нет множественности, и Отец, Сын и Святой Дух – не три отдельных «Бога». Язычники мыслили своих «богов» как различные части мироздания; у каждого из этих «богов» была своя личность и свои функции. Христианский Бог – совсем другой. Когда мы говорим о Святой Троице, мы не складываем: 1+1+1=3. Это «сложение» совсем иного рода: «Неведомая бесконечность + неведомая бесконечность + неведомая бесконечность = неведомая бесконечность».[403]403
Norman, “Rediscovery of Mysticism,” op. cit., 258.
[Закрыть] Нам свойственно разделять сущности, но к Богу этот подход не применим. Троичность Божества есть глубокая тайна. Считать ее логической или математической нелепостью невозможно, поскольку числа – это человеческая категория, и Бога нельзя ими ограничить.
Западных христиан учение о Троице озадачивало, но в восточном православии оно играло огромную роль.[404]404
Prestige, God in Patristic Thought, 76–300; Pelikan, The Christian Tradition, I, 52—67, 172—226; Thomas Hopko, “The Trinity in the Cappadocians,” in McGinn & Meyendorff, Christian Spirituality, 261—273; Lars Thurberg, “The Human Person and the Image of God: Eastern,” in ibid., 292—308; Pannikar, The Trinity and the Religious Experience of Man; Meyendorff, Byzantine Theology, 131—180.
[Закрыть] В начале Нового времени, когда на Западе стал формироваться глубоко рациональный подход к Богу и миру, иррациональность Троицы шокировала философов и ученых. Однако для отцов-каппадокийцев – Василия Великого, Григория Нисского и их друга Григория Богослова (329—390) – весь смысл состоял в том, что о Боге нельзя мыслить рационалистически. В противном случае Бог превратится лишь в «одно из» существ, поскольку это единственное, на что способен наш мозг. Троица – это не доктрина, в которую надо слепо «уверовать», а образ, над которым надлежит размышлять. Это миф, поскольку гласит об истине, недоступной логосу. Подобно любому мифу, он постигается лишь на опыте. Размышляя о Боге, который есть Троица и Единица, христиане приходили к выводу, что он не подобен ничему в человеческой жизни.[405]405
Григорий Богослов, Слова 29:6–20.
[Закрыть] Троица напоминала, что Бога нельзя мыслить просто как личность: именуемое «Богом» недоступно рациональному анализу.[406]406
Василий Великий, Письма 38.4.
[Закрыть] В каком-то смысле это учение можно считать подспорьем в медитации, противовесом идолопоклонству Ария, который представлял себе Бога уж слишком по-человечески.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?