Текст книги "Конченые"
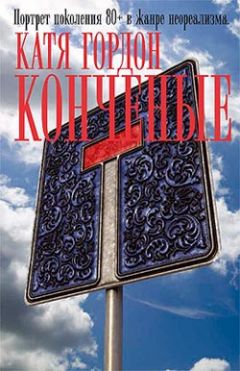
Автор книги: Катя Гордон
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
42…
Сижу в машине. Голова болит. Фонари на металлических стеблях тянутся в космос. На улице никого. В полумраке на соседнем сидении я вижу Екатерину Николаевну.
– Иди домой. Уроки делай. – говорит она, не открывая рта.
– Не могу. Правда, не могу. У меня нет сил о ней заботиться, понимаете. Она обо мне должна!
Я пытаюсь улечься поудобнее, но не могу. В машине неудобно и холодно. Я решаю пойти к Урюковой.
43…
Все у Урюковой. Тусовка явно началась давно. Все пьяные и усталые. Лукьянов смотрит Симпсонов. Арсентьев спит в наушниках, которые орут на полной громкости.
– Где Урюкова? – пытаюсь я узнать у кого-нибудь.
Все пьяны вдрызг.
Я чувствую странное волнение.
– Она купается… – выговаривает пьяная Бардина.
Дверь в ванной заперта. Я стучу в нее. Я чувствую, как у меня начинается паника. Она наполняет меня снизу – втекает в меня как вода в бутыль – выше – выше – к самому горлышку.
– Урюкова! – кричу я, – Сейчас расшибу дверь на хрен!
В ванной тихо.
Медведев и Лукьянов смотрят на меня как коровы после дойки.
Хватаю стул и кидаю его в дверь. Сидение отлетает и падает где – то с грохотом. Я с разбегу ударяю дверь плечом. Я кричу и больше не помню своих движений.
– Свихнулась… – мычит Лукьянов.
Я взламываю дверь и нахожу Урюкову, спящую на унитазе.
Я бью ее по щекам до тех пор, пока она не открывает налитые пивом глаза.
– Конченые! – кричу я и ухожу.
44…
Я позвонила Сергею Юрьевичу. Мы встретились сразу в гостинице. Противно не было. Было наплевать. Зато теперь никто никому ничего не должен.
45…
Нет места, куда хочется идти. Почти зима. Становится очевидно, что лета не было никогда – это был фантом, глюк, запах духов иностранной дамы. Мы с Никитой пошли в кино. Ник глядит на экран своими голубыми хрустальными глазами – я смотрю на него и думаю о том, что когда-то, в школе, я была в него влюблена.
Я просыпалась утром и шла. Шла сдавать свое время, как кровь, в школу №68. Шла к темному зданию с больничным светом в окнах, с лабиринтами раздевалок и лестниц, с физкультурным залом и липкой столовой, с длинными скучными уроками.
Единственной радостью на уроке было выйти в туалет и долго стоять, одурманенной запахом хлорки и урчанием воды в унитазах… Стоять и смотреть в окно на тропинки зимних веток, и бездумно ждать звонка. Иногда в туалет забегали прогуливающие старшеклассницы. Они были красивые и смелые, они ругались и курили, хвастались нижним бельем, – они жили где-то там, в совершенно другой стране. Звонок все не звенел, мне приходилось возвращаться в кабинет и делать вид, что я слушаю, понимаю, знаю что-то, чего, конечно, не знаю… Тогда было сложно представить, что я постигаю унылую тактику общения с мужчинами…
После кино Ники предложил поехать к нему – я напомнила, что уже почти замужем. Он смотрит на меня своими глазами от Svarovski и зачем-то спрашивает, нет ли у меня в роду евреев по материнской линии…
Я говорю, что есть только цыгане…
Он сочувствующе кивает и передает, прощаясь, привет моей маме. Я сворачиваю привет вчетверо и кидаю его, как в почтовый ящик, в урну.
46…
Пошли на концерт «Звезды за свободу слова». Было обещано бесплатное пиво – мы шли за ним.
Народу собралось огромное количество, как на Маккартни.
– Мы имеем право знать правду! – кричала со сцены какая-то еле различимая звезда.
– Да! – Кричал ей народ.
– Где пиво– то? – кричал нам Лукьянов.
– Не знаю… – отвечала я.
Мы толкались как маленькие кровяные тельца внутри огромного организма детины-дебила, не понимая, что происходит.
– «Свободу слова!» – говорили нам со сцены.
– Му – отвечал детина.
Потом его возьмут за руку и, маня пряником, поведут на работу и голосовать, а он, капризничая, демонстрируя наличие некой воли, все же пойдет.
– Ты читал «критику чистого разума»? – спросят его.
– Да… – наврет он.
– Тогда за свободу пойдешь?
– Естесено. – пробурчит он и сожмет кулаки.
Неясный образ свободы слова возникает в его допентиумном сознании. Образ долго загружается, виснет, но кулаки сжаты.
Тем временем со сцены поступило предложение объединяться – мы поспешили уйти.
– Пиво ушло, как дети в школу… – задумчиво сказал Лукьянов, когда мы спускались в метро. Эскалатор тащился вниз, к клаустрофобической кабинке с бабушкой под красной кепкой, которая не уставала повторять: «стойте справа, проходите слева».
– На патриотических концертах всегда позитивней. И звезд больше – заметил Медведев, стоя слева.
– Кому не насрать на звезд и на концерты – поднимите руки! – Лукьянов предложил уже традиционный способ закрыть тему.
47…
Снег завалил нашу «аудюху» по самую голову. Надо почистить – в память о нашем море.
Мама ушла на собрание. Телефон трезвонит день на пролет: «трррр – тррр – тррр» – мы все стали мобильными.
– Ваш отец серьезно болен. Он в больнице… – знакомый голос длинной «коллеги» диктует мне адрес и с укоризной, вместо до свидания, добавляет: – «Как вам не стыдно!», – как будто я и есть та самая хворь, подкосившая папашу.
Чувство долга странная штука. Не скажу, что оно тяготит меня, напротив, когда мне лень углубляться, анализировать и проникаться ситуацией – я просто руководствуюсь чувством долга, как инструкцией по безопасности на борту самолета: достать – надуть – и разбиться вдребезги с чувством выполненного долга.
Я взяла из стола немного денег – купила мандаринов – и отправилась к папе.
Я «углубилась» в метро…
Поезд меряет мое время остановками. «Октябрьская» – называет он еще семь пустых минут моей жизни, «Ленинский проспект». Замученные работой люди глядят на меня, повиснув на поручнях. Когда поезд тормозит – они покачиваются, как огурцы на яблоне, – но не падают, потому, что не растут огурцы на деревьях. Кто-то кому – то уступает и не уступает место – мы висим на железных ветвях, терпеливо пережидая ненужное время наших жизней. А теперь я иду по снегу – как тогда, с Екатериной Николаевной. И вместо ранца у меня – мандарины, но совершенно так же как прежде, я иду в учреждение, для людей учрежденное, потому что так надо… А во всех подобных учреждениях прячутся, доживая свой век, жители совка: они могут не пустить тебя в палату, они могут отчитать тебя при классе, они могут обидеть тебя и заставить им служить. О, они всевластны, эти неудавшиеся лавочники – госпожи уборщицы и директрисы, серые мужчинки, пропускающие и ставящие разные печати. О, как они царствовали во времена совка! И теперь ты, дитя рыночной экономики, отплатишь им сполна за развал СССР, придя в школу, больницу, библиотеку и паспортный стол.
– Куда пошла? – окликнула меня королева.
– О, госпожа, я сейчас надену бахилы и пойду в прекрасную палату, где возлежит мой отец…
Королева смотрит на меня изучающе, на полу раскинуты полы ее тряпки.
– До приемных часов еще четыре минуты… – гневится королева.
Ничего не ответив, я сажусь на банкетку у входа.
– И здесь я буду сейчас… Мешаете… – королева берет свой жезл и направляется к банкетке.
Она почти толкает меня. А мне ведь нужно, и потому я терплю. А куда я денусь? Чувство долга же…
– Слушайте, мадам, – все-таки начинаю я, – Во-первых, не хамите, а то я про вас такой сюжет в новости отгрохаю, что вас даже на кладбище сторожем не возьмут, а во-вторых, если у вас настроение хреновое – то сверните его в трубочку и засуньте себе в свой толстый, совковый зад!
Четыре минуты прошло, я, не дожидаясь ответа, пошла по коридору к палате. Почти не было стыдно, хотя перед глазами всплыла душная семья этой несчастной тетки с двоечниками и мужем, который пьет, как будто он без дна.
47…
Я стою в дверях палаты. Отец спит. Ему снятся дельфины и парапланы, коллекционные солдатики и шашлык. «Стою ли я этого сна?» – думаю. Смогу ли я доставить ему радости ну хотя бы как тот, с шашкой наголо, с отколотой правой рукой?… Нет, конечно… понимаю, вешаю мандарины на ручку двери и ухожу…
48…
Иногда я смотрю фотографии. Глупая традиция улыбаться фотоаппарату превращает мое фотографическое прошлое в сплошное счастье. Вот я с папой… Улыбаемся…А ведь я точно помню, что он сжимал мою руку так сильно, что я старалась не думать о том, что это моя рука… А теперь, оказывается, было счастье… Мой класс… И за чем я слушалась этого фотографа в грязной байковой рубахе навыпуск – и растягивала рот? Надо было послать его в жопу, чтобы он не снимал вранье, чтобы потом, однажды, в старческом маразме, я не решила, глядя на фотографический снимок, что была счастлива.
А я все улыбалась. Улыбалась и ждала. Ждала, что вот-вот, совсем скоро, можно будет отмереть и больше не улыбаться, ждала, что меня заберут из сада – и наступит счастье; ждала, что отсижу эти десять лет в гимназии и наступит настоящая жизнь… Ждала, что пройдут эти пять бестолковых лет «на вышке» и… А теперь, смотрю фотографии и оказывается… Оказывается: счастье было изобретено вместе с фотоаппаратом.
Четверть лишней жизни… Следующая остановка «Октябрьская»…
Теперь мне очень жалко этого времени. Не потому, что я нашла бы ему лучшее применение – молоко все равно бы кисло и молочные зубы выпадали – а потому, что все это время меня не было. Время было, а меня не было.
А вот теперь я почти знаю, что я есть. Знаю ровно настолько, чтобы, робко краснея, катая в руке шарик из старой жевачки, сказать:
– Я… есть, господа. Извините… В жопу… Блин…
А время смотрит на меня сверху брезгливо и говорит:
– А Я – Бог!…И меня нет!
49…
Море замерзло, ожидая нас. Я чувствую себя сволочью из-за зажатых денег.
Футбольная команда Скворцова и Медведева проиграла. Они пьют. Пьют многозначно, по-мужски, как пьют герои фильмов, похоронив лучшего друга. В квартире Урюковой тихо. Мы доедаем сыр. Медведев, запрокинув голову, выливает себе в глотку стопку. Кино.
Зима не кончается. Она тикает снежинками, дышит впалой грудью подтаявших пустырей. Зима – это бедствие. И лыжи, и палки, и коньки, и сноуборды – фанатичная борьба за удовольствие, во что бы то ни стало – не спасут от зимы.
– Зима… – говорю я.
– Летом поедем в Крым… – мечтательно говорит Урюкова.
– Или не поедем… – Бардина затягивается.
– Мы все умрем – напоминает Урюкова.
– Ах да… – вспоминаю я.
И мы сидим тихо – и отмеряем вздохами последнее время. И ничего не будет.
Или бежать? Делать, типа, карьеру. Арсентьев делает… Вкалывает денно и нощно с самого девятого класса – обманывает себя движением в сторону «силиконовой долины». И еще достаточно большое количество наших амбициозных знакомых работает на рулон мягкой туалетной бумаги в цветок. Встречаясь, они пугаются успехов друг друга, а оставаясь наедине с собой – ужасаются бессмысленности своего оголтелого движения.
И можно, вероятно, глубоко вздохнув, разобрав всякий хлам в своей голове, проникнуться идеей успешной американской жизни с барбекью по выходным. Можно, вероятно, отравившись общением с европеизированными, сытыми недоумками, проникнуться мечтой о коллекции картин и огромной квартире на последнем этаже где-нибудь в Париже; или захотеть славы настолько, что голова перестанет работать, – и станет уже не важно что делать и как… И тогда, позабыв о Достоевском и Павлове, Адлере и Рембо, можно будет вступить в эту вожделенную мировую секту целеустремленных и успешных, счастливых во что бы то ни стало потребителей; и жизнь превратится в бесконечную стратегическую игру. Enter.
А пока – снег. И хорошо, что нет деда Мороза. Я бы долго, уныло думала, что бы ему загадать на Новый Год.
50…
Я бегу на лыжах за наш Университет. Первая ли – последняя – зачет по физкультуре мне поставят. Бартер. Я им – сорок минут своего учащенного сердцебиения, а они мне – зачет. Я бегу. Я человек не спортивный, дыхание у меня «непоставленное».
– Спорт любишь? – наша физкультурница Пономарева (запасная сборной по баскетболу) смотрела на меня откуда-то свыше.
– Семь раз поджаться – пять раз оттянуться? Обожаю… – отвечала я.
– Побежишь? – спрашивала меня физкультурница Пономарева.
– За зачет – даже проползу! – показывала я свою готовность.
– Ползать – не надо! А ты, каким видом спорта занимаешься?
Физкультурница видела меня впервые – я прогуливала этот предмет принципиально.
– Плаванием, – наврала я.
– Ну, хорошо, – обрадовалась физкультурница, – значит дыхание поставленное.
– А лыжи есть? – на прощанье поинтересовалась она.
– Нет. Но есть купальник «Speedo». Фирменный.
Физкультурница юмора не поняла, но поинтересовалась размером моей ноги. Из – за того, что из меня целый день выплескивались лишние слова, я также рассказала ей объем своей талии, груди и «черепа по периметру».
– Эта информация мне не нужна… – серьезно сказала физкультурница и ушла.
И вот я бегу на чужих лыжах за филологический факультет. Перед глазами две параллельные полосы на белом снегу. Раз – два – раз – два. Тяжело дышать: сердце колотится везде – в ушах, щеках, стволах деревьев. Кто-то меня обгоняет – кого– то обгоняю я. В глазах плывет – не успеваю делать вдохи. Зачем я бегу? Нужно ли мне показать хорошее время? Дадут ли мне за это квартиру, или официально отпустят грехи? Бесконечная лыжня. Раз – два – раз – два. Флажки – красные точки на белом. Кто-то обгоняет. «Лыжню» – кричит кто-то. Я не сбиваю темп. Я чувствую, как сердце начинает обратный отсчет: «100 – 99 – 98…» Овцы начинают перелетать обратно через забор задами. 65 – 64 – 63… Никита роняет хрустальные слезы у моего надгробья. 44 – 43 – 42… «Лыжню!» – кричат мне в спину. Зачем я наврала про плавание? 33 – 32 – 31… «Спокойной вам ночи, приятного сна…» А что если не останавливаться – бежать до последнего счета? «Осла и козла…» Кто поручится, что дальше не то же самое – две полоски чужой лыжни. Раз – два – раз – два – муж – ребенок – климакс. 10 – 9 – 8 – 7… Бабушка закрывает дверь.
Щеки горят. Я открываю глаза.
Крупным планом чье-то мужское лицо в соплях и лыжной шапке.
– Че это ты? – он испуганно смотрит на меня, продолжая механически лупить меня по щекам.
– Это я так… – поднимаюсь на локтях. – Мужика клею…
– Че, правда? – он смотрит на меня своими заиндевелыми глазами.
– Правда, правда. Двух зайцев сразу: и конкурента убрала – и мужика склеила.
– Врешь… – задумчиво прошептал конкурент.
– Лыжню! – попросила ошалелая от бега девушка в красных щеках.
Парень еще раз с недоверием оглядел меня.
– Беги – беги… – порекомендовала я.
– Дура – попрощался он и поспешил нагонять потерянное время.
Я сняла лыжи и пошла напрямик. Было бесконечно на все наплевать.
51…
Сижу у подъезда Екатерины Николаевны. Гули – гули. По снегу ходят голуби с голодными глазами. Раньше здесь жила Екатерина Николаевна – она их кормила. Теперь ее нет, а гулям – то что? Гулям есть надо.
Из подъезда выходит тетка с коляской. В коляске она везет гражданина будущей страны. Нас не будет, а он будет – ему то что? Тетка идет по тротуару и ни о чем не думает.
А что, если сейчас встать – и наступая след в след, не сворачивая ни на шаг – идти до школы? Если дышать снегом и начинать предложения, которые не кончаются?
Я встаю и иду…
– Понимаете, Екатерина Николаевна… – говорю я.
– Понимаю… – молчит она.
– Я всех терпеть не могу…
– Ты терпеть не можешь… – молчит она.
Мы идем по снегу. Он лежит серый и мокрый, на нем грибницы собачьих фекалий. Тетька везет гражданина новой страны. Гражданин сосет лапу и тупо глядит вникуда.
– Жалко, что вы завещание… Мне бы квартиру… – говорю я Е.Н.
– Глупости… – смеется она.
– Не смешно, – думаю я…
И скоро – скоро кончится наш драгоценный разговор – мы нырнем, набрав воздуха, в месиво детских рук и ног, и мешочков со сменкой – и нас не станет. И время уйдет, как дети в школу.
52…
Идти есть к матери не хотелось – я пошла к Урюковой. Открыла дверь ее мама. Я впервые заметила, что у нее овальное однотонно – розовое лицо с маленькими, узкими глазами.
– Вы приехали? – я не ожидала увидеть ее.
Она оставила открытой дверь и, ничего не ответив, ушла.
Я перешагнула через порог.
В квартире непривычно тихо. Слышно, как за стеной лает пес. Он лает низким грудным голосом, возбуждая в сознании образы огромных суровых собак, о четырех массивных лапах и алом языке.
– Здравствуйте! – я замечаю урюковского отца, который сидит на диване.
Он устало смотрит на меня, не узнавая, и, через паузу, кивнув головой, закрывает глаза руками. Все его движения кажутся медленными и нереальными, только лай с точностью метронома отбивает ритм времени.
– Я… Урюкову…Ой, за Светой, – объясняю я свое присутствие.
На кухне раздается плач урюковской мамы. Она вскрикивает и начинает тихо скулить. На ее вой соседский пес отвечает учащенным лаем. Мне становится страшно. Не разуваясь, я иду в комнату Урюковой. Заправленная кровать и стеллаж с книгами. Фотография с нашими тупыми, улыбающимися мордами. Карта Крыма с прочерченным красной линией путем. Пустота комнаты начинает гудеть, биться в висках. В чем дело? В чем дело? Мгновенное превращение недавнего предчувствия в реальность. Ужас от того, что тогда – день, может час назад, – еще можно что-то было сделать, а теперь – все… Начался новый отсчет. Лай.
В комнату заходит отец. Он медленно, тихо, будто не решаясь тревожить эту всевластную Пустоту, подходит к окну:
– Я не понимаю: зачем она сделала это…
– Что? – зная ответ, спрашиваю я.
– Убила себя. В 22 года! – он садится на кровать и плачет, – Мы же все делали… Деньги высылали, квартира…
– Она несчастна была? – он поднимает красные, зареванные глаза на меня.
– Да нет… Просто не понятно ради чего…
– Что? – спрашивает он.
– Да нет, ничего… – тихо отвечаю я, хотя ради чего жить – Урюковой, как и многим из нас, было совершенно не ясно.
53…
Никита ждет меня у маминого дома. Он стоит у дерева, а над деревом серой выглаженной простыней висит небо.
– Как ты? – спрашивает он, разглядывая мое лицо.
– Не знаю…
– Про Урюкову слышала?
– Слышала… – отвечаю я.
Из окна на первом этаже тянет горячей сдобой. Холодно.
– Пойдем ко мне? – Никита берет меня за руку.
– Мне все равно. – Не скрываю я.
И мы идем. Оставляем следы на новом снеге. А потом мы поднимаемся, пьем чай и раздеваемся догола. И долго, мучительно занимаемся сексом. И, кажется, что мы оба попали в мутный водоворот, и нечем дышать, и невозможно остановиться. И густой солнечный свет через водную толщу, и темнота, почти смерть. И вот уже усталость легко спутать с нежностью.
– Я тебя люблю – говорит Никита.
– И я тебя люблю – говорю я.
И нам обоим совершенно понятно, что мы друг друга не любим, и, конечно, счастья не случится, но очень – очень хочется сказать эти слова. Непременно произнести их какому – нибудь человеку:
– Я те – бя люб – лю.
А потом мы едим бутерброды с сыром и прощаемся.
– Не будем жениться? – зачем-то спрашивает Никита.
– Дурак, что ли? – отвечаю вопросом я.
54…
Конечно, можно было бы выйти замуж за Никиту. Родители Ника почти все время в Израиле – квартира свободна. Мы бы пошли в Загс и расписались, а потом бы поехали в Иерусалим. А в Иерусалиме мы бы зашли к родителям Ника. Они бы усадили меня за стол и милосердно накормили досыта, и расспрашивали бы меня про жизнь в России, каждый раз удовлетворенно выдыхая: «Как, все так же?… Ужас – ужас… Как вы там живете?». А я бы доставляла им удовольствие, рассказывая о взрывах и инфляции – начиняя их головы малиновым повидлом: все верно, милые евреи, вы правильно сделали, что поселились в этой стране кем-то избранных. А потом тетя Маша передала бы моей маме «кохтачку», которую она «всего один раз одевала» – и долго бы Гершины – зоны меня целовали и обнимали, почти нехотя отпуская нас в эту, слишком холодную для жизни страну. А потом бы мы сказали: «Дорогие, Гершензоны, давеча мы скрепили наш союз подписями, и теперь мы муж и жена…» Мамаша Гершензон точно бы офигела, отобрала бы у меня кофточку и пошла бы пить сердечные капли. Папаша стал бы меня расспрашивать про родственников, в надежде найти хоть какого-нибудь далекого еврейчика. Я бы ему честно сказала, что у меня из необычных кровей только цыганская – и он бы тоже пошел пить капли. Титры.
55…
Мама снова разобрала мой стол. Я в ужасе обнаружила в ящиках тетрадки в стопках, карандаши, перетянутые резинкой и коробочки с мелочами. Я чувствовала, что внутри моего организма прошлась бригада уборщиков и все расставила по местам, уложила по размеру органы, очистила вены от лишней жидкости. Я не расстроилась – я просто села на кровать.
Вскоре пришла мама.
– Ты дома? – спрашивает она.
– Вероятно.
– Как ЛенаУрюкова?
– Мам, а где деньги?
Мама разувается.
– Мам, не говори, что ты их отдала… Мессии…
Мама молча подходит к книжному шкафу и достает сверток из-за Толстого.
– Это же твои деньги… – она отдает мне конверт.
– Откуда они? – спрашивает мама.
– Заработала. Помогла перевести… Письма Солженицына к Ким Чен Иру…
– Они переписывались? – мама смотрит в глаза.
– Конечно.
– Молодец…
Хорошо, что она не спрашивает, на какой язык я переводила письма, а просто идет ставить чай.
– Устала… – говорит она.
Мне становится ее жалко – так жалко, что душно, словно нет во мне ничего кроме этой жалости, ничего…
– Мам… – окликаю ее я, – Возьми ты эти деньги. «Ближним» отдай… Я баксов двести возьму – мы там машину чиним, а остальное – тебе.
Она не отвечает – я кладу деньги на стул у ее кровати – и мы пьем чай.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































