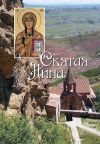Текст книги "По поводу VII тома «Истории России» г. Соловьева"

Автор книги: Константин Аксаков
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Г. Соловьев на с. 163 говорит: «Из разных юридических грамот, отступных, дельных, отказных, видим общее родовое владение и разделы родичей, как видно двоюродных и троюродных братьев, видим раздел неполный». Как же это общее родовое владение и в то же время раздел? Г. Соловьев ничем более не объясняет своих слов, и мы вправе оставить это проявление убеждения в родовом быте без дальнейшего возражения.
Говоря о «Домострое», г. Соловьев делает определение Сильвестра, определение, которое кажется нам весьма верным и удачным. Сделаем несколько выписок. Сказав о поучении Сильвестра сыну, автор говорит:
«В этом наставлении, в этом указании на свой образ мыслей и жизни, Сильвестр обнаруживается перед нами вполне. Мы понимаем то впечатление, какое должен был производить на современников подобный человек: благочестивый, трезвый, кроткий, щедрый, ласковый, услужливый, превосходный господин, любивший устраивать судьбу своих домочадцев, человек, с которым каждому было приятно и выгодно иметь дело – вот Сильвестр» (с. 227).
Следующие две выписки дополняют и объясняют сейчас приведенное нами место:
«Несмотря на то, что наставление Сильвестра сыну носит, по-видимому, религиозный характер, нельзя не заметить, что цель его – научить житейской мудрости: кротость, терпение и другие христианские добродетели предписываются как средства для приобретения выгод житейских, для приобретения людской благосклонности, предписывается доброе дело, и сейчас же выставляется на вид материальная польза от него» (с. 228).
«Что смешение чистого с нечистым, смешение правил мудрости небесной с правилами мудрости житейской мало приносит и житейской пользы человеку, видно всего лучше из примера Сильвестра; он говорит сыну: „Подражай мне! Смотри, как я от всех почитаем, всеми любим, потому что всем уноровил“. Но под конец вышло, что не всем уноровил, ибо всем уноровить дело невозможное; истинная мудрость велит работать одному господину» (с. 229).
Повторяем, что мы совершенно согласны с г. Соловьевым относительно характеристики Сильвестра, прекрасно им начертанной. Прибавим к тому, что Сильвестр не был таким человеком только на деле, но и в сознании; это было его убеждение, его взгляд. Мало того, он хотел передать свой взгляд и другим; он составил себе целое учение, которому и учит. При таких условиях, можно ли наставления Сильвестра, в которых он учит, каким должно быть людям в жизни, – принимать за изображение того, какими люди были в жизни? Ведь не думаем же мы, чтобы все современники Сильвестра были Сильвестры. А Сильвестр именно желает, чтобы другие люди походили на него, учит их быть такими, как он, или такими, какими, по его убежденно, они должны быть. Значит ли, что люди тогдашнего времени на деле были такими? Конечно, нет. Сильвестр же в то время был вовсе не похож на других людей, был весьма своеобразен. Итак, именно поучения Сильвестра должны приниматься не как изображение нравов тогдашнего времени, но как личные идеалы самого Сильвестра или (что сказали мы в нашей критике на VI том «Истории России») как его pia desideria. К тому же надобно прибавить, что духовенство древней России, столь много оказавшее ей услуг, столь тесно связанное с нею с одной стороны, с другой стороны отделялось тогда от народа риторикой, охотою формулировать, своего рода схоластикой, и отчасти византийским воззрением, так что иногда в сочинениях духовенства нельзя узнать ни мысли, ни речи народной; а потому и сочинение духовного лица древних времен не может быть принимаемо за отражение ни действительности народной, ни народного идеала.
Вот почему странно нам читать у г. Соловьева восклицание, противоречащее, по нашему мнению, его собственному взгляду на Сильвестра как на личность, выдающуюся из других, со своеобразным взглядом на вещи, как на человека, желающего учить других и сделать их похожими на себя. Приводя мнение Сильвестра о том, какова должна быть жизнь домашняя, г. историк совершенно неожиданно восклицает: «Вот идеал семейной жизни, как он был создан древним русским обществом!» (с. 232). Такое восклицание совершенно неуместно и непоследовательно, равно как и следующие за ним строки, развивающие ту же мысль.
Г. Соловьев указывает, что иные из вельмож не знали грамоты. Но в XVI веке тому примеров не менее, кажется, можно найти и в Западной Европе. В противоположность тому, мы можем сказать, что выборное устройство, проникавшее всю Русь, без сомнения способствовало распространению грамотности в простом народе, ибо очень часто требовались выборы за руками, при которых встречаются и собственноручные крестьянские подписи.
В заключение мы должны сказать о первой половине VII тома «Истории России», что это даже не исследование, как назвали мы VI том «Истории России», даже не извлечение, а отрывочные, не подвергнутые критике выписки из актов, поражающие нас, с одной стороны, своей неполнотой, а с другой – ненужной подробностью; ибо увлекается выпиской автор и выписывает тогда подряд и нужное и ненужное, пока не остановится, не бросит одну, и не начнет другую выписку.
Переходим теперь ко второй половине VII тома, заключающей в себе царствование Федора Иоанновича.
Все царствование Федора разделяет г. Соловьев на четыре главы: Глава II. Царствование Федора Иоанновича, усиление Бориса Годунова и торжество его над всеми соперниками. Глава III. Внешние сношения и войны в царствование Федора Иоанновича. Глава IV. Дела внутренние в царствование Федора Иоанновича. Глава V. Пресечение Рюриковой династии.
Из одного уже названия глав, из одного расположения, видно, как изображает г. автор историю царствования Федора Иоанновича. Видно, что она разрывается на отдельные монографии; события рассказываются не в совокупной связи, как должна рассказывать история, но отрешенные друг от друга, подобранные друг к другу по своей однородности, так, как делает это монография или отдельное историческое исследование. В этом отношении о VII томе мы должны повторить то же, что говорили о VI томе или еще сильнее; ибо здесь разобщенность событий, отсутствие жизненного между ними единства и хронологического преемства, столь необходимого в истории, – еще заметнее, чем в VI томе. Во II главе (всего 14 страниц) рассказывается отдельно взятая борьба Годунова с враждебными ему боярами и митрополитом Дионисием, говорится о могуществе, до которого достиг Борис, и описывается наружность Федора и Бориса. В главе III автор начинает сперва говорить о сношениях Польши с Россией и доводит свой рассказ до избрания Сигизмунда на польский престол (1587 г.). Потом переходит он, возвращаясь назад, к Швеции и рассказывает о наших с ней сношениях, между прочим и о войне с Швецией, рассказывает и о вмешательстве Польши в эти сношения и доводит свой рассказ до 1595 года. Здесь, впрочем, автор опять говорит несколько о сношениях наших с Польшей, как бы уступая на сей раз исторической последовательной современности событий. Сказав об отношениях со Швецией, автор обращается опять к началу царствования Федора (11 лет назад), начинает рассказывать об отношениях наших с Австрией и доводит опять свое изложение до 1597 года, причем говорит и о послах папы в Россию. Потом опять г. Соловьев возвращается к началу царствования Федора, начинает говорить о сношениях России с Англией и доводит их до 1588 года. После того он переходит к Крыму и начинает говорить об отношениях его к России; здесь рассказано и нашествие хана Крымского на Москву в 1591 году. Рассказ свой доводит автор до 1593 года, говоря тут же о запорожских, терских и донских казаках. Речь дошла до Турции; о Турции опять автор начинает говорить с 1584 года и доводит свой рассказ до 1594 г. Он говорит здесь опять о казаках и о сношениях наших с Грузией и Персией. Потом автор говорит о Сибири; снова начинает рассказ свой с 1583 года и доводит до 1597 года.
Этим рассказом оканчивается III глава. Глава IV о делах внутренних совершенно составлена в том же роде, как уже разобранная нами глава I этого же тома «о внутреннем состоянии русского общества», которая могла бы, в свою очередь, быть названа главой «о делах внутренних». В главе IV говорится об администрации, о пошлинах, о воинской службе, о местничестве с такого же рода иногда подробностями, как и в первой. Г. Соловьев говорит в этой же главе о прикреплении крестьян и крайне неполно без всякого критического исследования потом говорит о делах церковных, о патриаршестве, о монастырях и несколько о нравах, обычаях народных и художествах. В главе V о прекращении Рюриковой династии г. Соловьев рассказывает отдельно кончину Дмитрия, бывшую в 1591 году, говорит о рождении у Федора дочери Феодосии и, наконец, о смерти Федора в 1598 году.
Из представленного изложения, кажется, очевидно, что здесь нет истории, как связного или последовательного изложения событий: это несколько статей о царствовании Федора. Вся эпоха разорвана на части и так представлена читателю. Мы согласны, что автору так легче; но так гораздо труднее для читателя, и всего невыгоднее для самой истории. Оставив в стороне требование истории от книги г. Соловьева, мы можем требовать, чтобы она была удовлетворительна и в том виде, в каком она является. Но что же такое VII том «Истории России»? Не есть ли он исследование, как назвали мы VI том? Нет, мы не можем сказать и этого. О первой главе VII тома мы выразили наше мнение; то же самое является в следующих главах, разве только не с такой яркостью, то есть выписок не так много, и они не столь подробны, так что рассказ принимает по временам вид – не одного собрания выписок из актов, не подверженных критике, но исторической статьи, весьма легко написанной.
В этих последующих главах, как сказали мы, находятся те же недостатки, как и в первой. Так, например, на с. 413–414, начавши об одном, автор переходит к другому; он говорит: «Кроме приведенных указов о крестьянах и холопах времен Федора до нас не дошло других дополнений к „Судебнику“. Относительно заведывания судом любопытно известие разрядных книг под 1588 годом. Царь велел отставить Меркурия Щербатова от славной рати и послал его в Тверь судьей. Дошла до нас от описываемого времени любопытная челобитная царю старцев Иосифова монастыря по поводу спора о земле между их крестьянами и крестьянами боярина Ивана Васильевича Годунова». Далее приводится грамота без объяснений, почему автор считает ее любопытной. Выписки и ненужные подробности мы также встречаем, хотя в меньшем количестве, сам рассказ сжатее; например: «В царствование Федора торговля производилась с Польшей; московские купцы ездили в Варшаву и Познань; но по-прежнему встречаем сильные жалобы купцов на притеснения, обманы и разбои. Торопецкий купец Рубцов ездил торговать в Витебск; исторговавшись, поехал назад на Велиж, и здесь его ротмистр Дробовский прибил, взял два челна ржи, а в них 35 четвертей, куплена четверть по 20 алтын с гривною, до 10 литр золота и серебра, ценою по 5 рублей литр, до 25 литр шелку разных цветов, по 40 алтын литра, да постав сукна лазоревого, в 14 рублей, да двум челнам цена 5 рублей с полтиною» (с. 380–381). Слог также в иных местах неясен, неправилен; как например: «Зборовский с приятелями подняли громкие голоса против Батория: нарекали на могущество Замойского» (стр. 263). Слово «нарекаше» у нас употребляется, но выражение: нарекали на могущество весьма неудачно и неправильно и неточно; можно, пожалуй, понять совершенно в другом смысле, то есть нарекали Замойского на могущество (хотя это было бы тоже неправильное выражение). Или например: «Летописец говорит, что Борис Годунов, мстя за приход на Богдана Вельского, дворян Ляпуновых, Кикиных и других детей боярских, также многих посадских людей, велел схватить и разослать по городам и темницам» (с. 251). Выражение это неясно. Сверх того, в пример весьма сбивчивого изложения, можем привести одно место, где говорится об управлении государственном. Вот оно:
«Относительно управления, все государство разделялось на четыре части, называемого четвертями или четями: первая посольская, находившаяся в ведении думного дьяка Андрея Щелкалова, получавшего 100 рублей жалованья; вторая разрядная, в ведении Василия Щелкалова, за которого управлял Сапун Абрамов; жалованье и здесь было тоже 100 рублей; третья четь поместная, в ведении думного дьяка Елизара Вылуз-гина, получавшего 500 рублей жалованья; четвертая казанского дворца, в ведении думного дьяка (Д) дружины Пантелеева, человека замечательного по уму и расторопности; он получал 150 рублей в год. В царских грамотах четверти называются по имени дьяков, ими управлявших; например: „четверть дьяка нашего Василия Щелкалова“. В других же приказах сидели бояре и окольничие: так в 1577 году царь приказал сидеть в разбойном приказе боярину князю Куракину и окольничему князю Лобанову. При областных правителях находились по-прежнему дьяки, помощники или, лучше сказать, руководители их, потому что эти дьяки заведовали всеми делами. Областные правители обыкновенно сменялись через год, за исключением некоторых, пользующихся особенным благоволением: для них срок продолжался еще на год или на два; они получали жалованья по 100, по 50, по 30 рублей; народ, по свидетельству Флетчера, ненавидел их за взятки; и русский летописец говорит, что Годунов, несмотря на доброе желание свое, не мог истребить лихоимства; правители областей брали взятки и потому еще, что должны были делиться с начальниками четей или приказов. В четыре самые важные пограничные города назначались правителями люди знатные, по два в каждый город, один (одно) из приближенных к царю лиц. Эти четыре города: Смоленск, Псков, Новгород, Казань. Обязанностей у правителей этих городов было больше, чем у других, и им давалась исполнительная власть в делах уголовных. Их также сменяют каждый год, исключая особенные случаи; жалованья получают они от 400 до 700 рублей».
«Дворцовый приказ или приказ Большого дворца, управлявши царскими вотчинами, находился при Федоре в заведывании дворецкого Григория Васильевича Годунова, отличавшегося бережливостью: при Иоане IV продажа излишка податей, доставляемых натурою, приносила приказу не более 60 тыс. рублей ежегодно, а при Федоре до 230 тыс.; Иоанн жил роскошнее и более по-царски, чем сын его. Четверти собирали тягла, и подати с остальных земель до 400 тыс. рублей в год» и проч. (с. 376–377). Здесь из слов автора читатель сперва узнает, что все государство относительно управления разделялось на четыре части, называемые четвертями или четями. Эти четверти перечисляются, говорится, что они управлялись дьяками, и потом говорится: «а в других же приказах сидели бояре и окольничие». В других же приказах? Следовательно, четверти – тоже приказы? (Если же это так, то стало быть, государство делилось не на четыре части.) Еще ниже автор прямо говорит: «четей или приказов!» Итак, приказы и четверти – одно. Каким же образом сказал автор, что четвертей было четыре, когда кроме поименованных четырех еще упоминает он о двух приказах (или четях): о разбойном приказе, о дворцовом приказе? Странное противоречие с собственными словами!
Теперь обратимся к самим мнениям автора и поговорим о них.
Во время царствования Федора произошло одно из важнейших явлений в общественной жизни допетровской России – прикрепление крестьян к земле. В «Истории России» г. Соловьева это столь важное явление далеко не объяснено, точно так же, как далеко не объяснен быт вотчинных и помещичьих крестьян, отношение их к владельцам, к государству, к другим крестьянам, до укрепления и после укрепления, да и вообще быт крестьянства не объяснен. Не естественно ли было ожидать от нашего историка, что он займется этим предметом, и говоря об укреплении крестьян, определить нам те отношения, в каких находились они к другим крестьянам, к другим сословиям государства, к помещику или вотчиннику и вообще к государству? Если определить эти отношения довольно трудно, то хотя бы г. автор высказал свои предположения, хотя бы постановил вопросы, и это была бы заслуга, и за это были бы мы ему благодарны. Но ничего этого нет; этому вопросу посвятил автор всего шесть страниц. И здесь в словах автора, столь мало касающихся сущности дела, мы находим важную ошибку. Г. Соловьев говорит: «В московском государстве в описываемое время не было земледельцев-землевладельцев; землевладельцами были: во-первых, государство, во-вторых, церковь, в-третьих, служилые люди-отчинники» (с. 396). Мы скажем г. профессору, что кроме поименованных землевладельцев землевладельцем могла быть отдельная крестьянская община. Удивительно то, что сам г. Соловьев, не замечающий этого, приводит тому пример, а именно: «Видим, что целые общины приобретали земли: так, в 1583 году Никита Строганов отказал свою деревню в волость, в слободку Давыдову, старостам и целовальникам и всем крестьянам» (с. 163). Кажется, ясно. Но кроме этого примера можно привести и другие. Например, уставная важская грамота 1552 года обращается к важанам и шенкурцам и Вельского стану посадским людям и всего Важского уезда становым и волостным крестьянам; в этой грамоте между прочим говорится: «а на пустые им места дворовые, в Шенкурье и в Вельске на посаде и в станах и в волостях, в пустые деревни и на пустоши и на старые селища, крестьян называть и старых им своих тяглецов крестьян из-за монастырей выводить назад бессрочно и беспошлинно, и сажать их по старым деревням, где кто в которой деревне жил прежде того»[7]7
Акты архивные. Т. I, с. 238.
[Закрыть]. Здесь целая область является землевладельцем. Не распространяемся более о состоянии крестьян до укрепления, и также о самом укреплении; мысли наши об этом деле надеемся мы предложить в особом исследовании. Говоря о прекращении Рюриковой династии и о насильственной смерти Дмитрия царевича, г. Соловьев приводит рассказ об этом летописцев и потом рассматривает следственное дело. Г. Соловьев признает рассказ летописцев справедливым; но, как нам кажется, он несколько пристрастно разбирает оба исторические свидетельства. Мы намерены представить свои соображения об этом деле. Г. Погодин в своем прекрасном исследовании «об участии Годунова в убиении царевича Дмитрия» давно еще высказал свое мнение, что Борис не был участником в этом злодействе; но тем не менее он не изъявляет прямо сомнения в том, что царевич был убит, и только из некоторых слов почтенного ученого можно заключать, что он не убежден в этом.
Наши соображения иного рода.
Изложив летописное сказание, г. Соловьев говорит: «В этом рассказе мы не встречаем ни одной черты, которая бы заставила заподозрить его» (с. 424). Мы же напротив встречаем прежде всего положительную неверность в этом рассказе. В нем говорится, что угличане показали об убиении царевича, что Нагих пытали в Москве, и они с пытки говорили, что царевич убит. Между тем в следственном деле собраны многие показания угличан большей частью в пользу того, что царевич убился сам. Наконец, в следственном деле видно, что только один Михайло Нагой не в Москве, а в Угличе показал, что царевич убит; а другие два его брата показали, что царевич убился сам. Мы не можем предполагать, чтобы в следственном деле все это было выдумано, во-первых, потому что тогда уж лучше было выдумать и на Михаила Нагого, а во-вторых, потому что в следственном деле выдумывать ложные показания трудно, особенно когда они скреплены подписями. Такой наглый подлог едва ли возможно предположить. Кроме этой, по нашему мнению, несомненной неверности летописного рассказа есть другие обстоятельства, им повествуемые, которые допустить трудно. В летописном рассказе говорится, что сперва пробовали отравить, давали яд в пище и ястве, но понапрасну. Можно ли допустить это? Отчего не действовал яд? Нельзя же предполагать вместе с Карамзиным, что, может быть, дрожащая рука злодеев бережно сыпала отраву, уменьшая меру ее. Можно ли думать, чтобы злодеи, имея на своей стороне мамку царевича, не нашли случая отравить его? Это весьма сомнительно. Наконец, рассказываемые летописцем все предварительные, неосторожные, неудачные совещания Бориса об убийстве царевича также не внушают доверия. Подробности рассказа заставляют предполагать г. Соловьева, что рассказ не выдумка. Но такие же подробности или еще более встречаем мы в следственном деле, говорящие в пользу другого мнения о смерти царевича. Убеждение же народное, заметим кстати, как например убеждение в виновности Бориса, сейчас принимает характер художественный, характер эпоса, облекается в подробности и вообще в формы действительности.
Перейдем теперь к следственному делу. Начало его, к сожалению, утрачено.
Г. Соловьев находит, что следствие было произведено неполно, невнимательно, особенно там, где могли раскрыться обстоятельства, где могло бы выйти указание против Годунова, одним словом, что следствие было произведено недобросовестно. Следствие могло быть произведено полнее и внимательнее – это справедливо; но это еще не показывает недобросовестности. Уклонения же в следственном деле от вопроса, который должен был бы обличить злодейство, уклонения, которое можно бы счесть умышленными, не показывает нам и сам г. Соловьев.
Между тем, из самого следственного дела выдаются несколько обстоятельств, которые дают повод думать, что злодейское дело было или выдумкой, или по крайней мере мечтой, порожденной подозрением и враждой. Михайло Нагой обвиняется в том, что он велел собирать ножи, пищали, палицу железную и сабли, и класть на убитых людей. Михайло Нагой отпирается и говорит, что все эти оружия клал городовой приказчик Русин Раков.
Русин Раков со своей стороны говорит, что Михайло Нагой запирается и что он по его приказу спрашивал нож у Бориски, и проч. Кто клал оружие, это решить трудно; но неоспоримый факт тот, что оружие было положено на убитых. Нельзя предположить, чтобы все эти люди пришли на царевича с оружием, и именно с оружием такого рода, как пищаль и палица: это бы противоречило и летописному рассказу. Итак, оружие было положено потом нарочно, и было положено, конечно, стороною Нагих. В этом поступке является уже очевидная неправда, умышленная попытка обвинить Битяговского и других в убийстве царевича. Это обстоятельство обличает весьма неловкую, грубую хитрость, весьма близорукий расчет с целью уверить, что все эти люди, побитые народом, точно виноваты в смерти царевича, как будто бы они пришли на него с пищалями, саблями и прочим оружием. Можно, впрочем, с другой стороны одно сказать, что Михайло Нагой, будучи убежден сам по крайней мере, что царевич убит, прибегнул для убеждения в том других к этому грубому способу. Но зная истину, он тогда скорее бы мог догадаться, что он ее исказит таким образом; прибегают, не рассудив, даже к грубым хитростям тогда, когда хотят выдать за истину и утвердить ложь, а не тогда, когда думают уверить в истине, которая невольно рождает уверенность в убежденном в ней человеке. Вот почему мы считаем означенное обстоятельство сильно говорящим в пользу того, что царевич был не убит, а сам убился. Быть может, что Михайло Нагой сгоряча и подумал, что царевич был убит, особенно при своей вражде с обвиненными людьми; но потом, опомнившись и узнавши истину, прибегнул к этой грубой мере, чтобы накинуть подозрение или даже улику на побитых народом. Прибавим, что Русин Раков и брат Михаила Нагого Григорий прямо объясняют, что Михайло Нагой для того велел класть оружие на побитых людей, что будто те люди Дмитрия царевича убили. Самое то, как добивается Михайло Нагой (как видно из следственного дела) палица Михаила Битяговского тоже наводит подозрение, хотя палица эта была положена не к Битяговскому, а к Осипу Волохову. Впрочем, здесь мог быть тот намек, что Осип Волохов взял у Михаила Битяговского с его, разумеется, согласия его палицу; таким образом Михайло Битяговский, который сам не обвиняется в убийстве царевича, делался участником злодейства.
Далее. Конечно, с другой стороны, наводит сомнение то, что многие и невидавшие твердо говорили, что царевич убился сам. Они, должно предположить, говорили то, что слышали от других: между тем, естественно, что народ, избивши тех, кого он считал убийцами, должен был говорить иное. И точно, как бы в доказательство, что здесь не только приводятся мнения в пользу того, что царевич убился сам, мы находим несколько свидетельств, указывающих, что и народ говорил и то, что царевич был убит (чего не замечает г. Соловьев)[8]8
Вот и все очевидцы! Остальные же лица говорили по чужим речам (чьим – неизвестно): и все эти люди, сами ничего но видавши, тем не менее утверждают, что царевич играл с детьми и в припадке падучей болезни, сам наткнулся на ножь. «История России», т. VII, с. 427.
[Закрыть]. Архимандрит Воскресенский Феодорит и игумен Алексеевский Савватий, услышав звон, посылали слуг разведывать, и они сказали, что слышали от посадских и от посошных людей, что будто царевича Дмитрия убили, а кто – неизвестно. Данило, сын Михаила Григорьева, тоже показывает, говоря, что ему посадские люди назвали даже убийц царевича: Данила Битяговского и Никиту Качалова. Впрочем, положим, что сей Данило хотел себя оправдать, ибо его обвиняли в том, что он с прочими бил Битяговского и других. Иван Пашин и Василий Буторин показывают просто, что они не знают, как не стало царевича Дмитрия и как побили Михаила Битяговского с товарищами. Итак, не все говорят, что он убился сам. Заметим также, что те, которые говорят это, ссылаются не на посадских людей, которые избили подозреваемых в убийстве царевича. Впрочем, очень возможно, что или опомнившись, или даже продолжая быть убежденными в злодействе, которого свидетелями не были, но думая, что следователи не расположены ему верить, и не со страху стали показывать, что царевич убился сам. Тем не менее свидетельство их, как не очевидцев, имеет только относительное значение. Свидетельство же священника Богдана, что он в то самое время, как ударили в набат, обедал у Михаила Битяговского, и что сын Михайлов – Данило был в то же время на подворье отца своего, обедал, – думаем, заслуживает внимания: а свидетельство это устраняет подозрение на Битяговского и сына его. Замечательно также, что все эти люди, подозреваемые в убийстве, были схвачены не на дворе царском; положим, что они успели убежать, но отчего они не убежали дальше? Наконец, если Михайло Битяговский был участником злодейства, то с его стороны было отчаянной дерзостью явиться перед разгневанным народом в ту минуту, как преступление только что совершилось и как народ готов был казнить преступников. Обстоятельства придают делу такой вид, что подозреваемые были схвачены врасплох, а это едва ли могло быть, если бы подозрение было справедливо. Показание жильцов-детей должно иметь, кажется, тоже важность, тем более, что на одного из них весьма правдоподобно ссылаются подклюшники: «Стояли де мы вверху за поставцем: ажио де бежит вверх жилец Петрушка Колобов и говорит: тешился де царевич с нами на дворе в тычку ножом» и проч.[9]9
Собрание государственных грамот и дел, с. 113.
[Закрыть]
В заключение мы находим со своей стороны весьма естественным все углицкое событие, принимая мнение, что царевич убился сам. Надобно вспомнить, что между Нагими и Битяговским (а вероятно и близкими к нему) была вражда; в этот же день поутру Михайло Нагой бранился с Битяговским. Вдруг Дмитрий, начавши играть в тычку, убивает нечаянно сам себя. Выбегает царица, видит умирающего сына и, в отчаянии сейчас называет ненавистных ей людей как убийц ее сына, людей, очень может быть, в самом деле ею подозреваемых; в то же время кидается она на мамку царевича (мать одного из этих людей) – и начинает ее бить; по словам Огурца, царица послала тогда же звонить в колокола. На звон прибегает Михайло Нагой и тоже, может быть, искренно подозревая, обвиняет подозреваемых перед собравшимся народом, который загорается, как порох, гневом и избивает людей, обвиняемых в убийстве. Свидетелей было немного. Насильственная, невольная смерть последнего царевича, поражая ум народный, порождает мысль, что царевич был убит, становится народным сказанием, убеждением народным, страшно сокрушает престол Бориса и переходит в потомство.
Нашего мнения мы не говорим утвердительно; мы представляем только свои соображения в пользу того, что Дмитрий царевич убился сам. К этому мнению склоняет нас и величавое лицо Бориса Годунова, которому такое злодейство несвойственно и который однажды сам жертвовал жизнью, стараясь защитить царевича Иоанна от ударов Иоанна Грозного. Желательно, чтобы, если можно, дело это наконец разъяснилось, и чтобы страшное пятно было снято с имени великого государя Бориса.
Переходим к другим замечаниям.
Г. Соловьев так начинает V главу: «XVI век исходил; с его исходом прекращалась Рюрикова династия. В двух различных положениях, в двух различных странах следили мы за деятельностью потомков Рюрика и не могли не заметить основного различия в этой деятельности. Сначала мы видим их действующими в громадной и редко населенной стране, не имевшей до их появления истории. С необыкновенной быстротой Рюриковичи захватывают в свое владение обширные пространства и подчиняют себе племена, здесь живущие: эту быстроту объясняет равнинность страны, удобство водных путей, малочисленность и особность племен, которые не могли выставить крепкого и дружного сопротивления, ибо не знали союзного действия; каждое племя покорялось поодиночке: ясный знак, что никакого единства между племенами не существовало, что это единство принесено князьями и сознание о единстве народном и государственном явилось вследствие их деятельности. Они расплодили русскую землю и сами размножились в ней с необыкновенной силой: обстоятельство важное, ибо оно дало возможность членам одного владельческого рода устроить себе множество столов во всех пределах громадной страны, взять в свое непосредственное заведование все важнейшие места; не было потому необходимости в наместниках больших городов и областей, в людях, из которых могла бы образоваться сильная аристократия. Князья разошлись по обширной стране, но не разделились, ибо их связывало друг с другом единство рода, которое таким образом приготовило единство земли. Чтобы не порвалась связь между частями, связь слабая, только что завязавшаяся, необходимо было это беспрерывное движение, перемещение князей из одной области в другую, с концов отдаленных. Князья со своими дружинами представляли начало движения, которое давало стране жизнь, историю: недаром Мономах хвалится своим движением, большим количеством совершенных им путешествий. Движение, движение неутомимое было главной обязанностью князей в это время: они строили города, давали им жителей, передвигали народонаселение из одной области в другую, были виновниками новых общественных форм, новых отношений. Все новое, все, что должно было дать племенам способность к новой высшей жизни, к истории, было принесено этим движущимся началом, князьями и дружинами их; они в своем движении столкнулись с греками и взяли от них христианство: чтобы понять значение Рюриковичей и дружин их, как проводников нового, людей, пролагавших пути исторической жизни, стоит только вспомнить рассказ летописца о появлении волхва в Новгороде: на вопрос епископа: „а кто идет к кресту и кто к волхву?“ народ, масса, хранящая старину, потянулась к волхву, представителю старого язычества, князь же и дружина его стали на стороне епископа. Скоро, при описании Смутного времени, мы укажем и на великое значение массы народной, охранявшей старину, когда движение пошло путем незаконным» (с. 418–419).