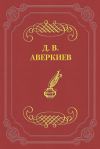Текст книги "Взгляд на русскую литературу с Петра Первого"

Автор книги: Константин Аксаков
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
…литераторы
И по службе в люди шли,
Все министры да сенаторы.
Сумароков был плодовитее всех своих предшественников. Он был чрезвычайно разнообразен, в отношении к формам только – и поэтому имел большой ход и большую важность во мнении современников. В то время достаточно было собственного высокого мнения о себе, чтобы произвести впечатление на умы. И в наше время наглость брала и берет иногда верх, но уже это далеко не то. Не встречаете вы у него живого, сильного и серьезного стиха Ломоносова, не встречаете вы какой-нибудь основы поэзии, какой-нибудь любимой мысли, стремления и, следовательно, борьбы. Нет, Сумароков был человек довольный, и ни мыслию, ни талантом – он был от него избавлен, – талантом, по существу своему жаждущим деятельности, не нарушал отвлеченной сферы. Он вполне ей принадлежал. Литератор вполне отвлеченный, ему было там хорошо, – и отвлеченная сфера любила его: любили его при дворе, любили в обществе. Сверх того, разнообразие или, лучше, разнородность его многочисленных произведений приобретала ему уважение в публике. А в самом деле, чего не писал он? И проза, и стихи, и трагедии, и комедии, и оды, и басни, и эклоги, и идиллии. Здесь-то, ни сознанием, ни талантом, неумеренная отвлеченность является во всей своей неправде и наготе, во всей лжи и бездушной бессмысленности. Почему бы то ни было, Ломоносов не коснулся русской истории в своих трагедиях, в которых есть такие чудные стихи, с которыми можно сравнить только стихи Пушкина, такие поэтические места, которыми мог бы гордиться только величайший поэт. Сумароков не пощадил русской истории; до всего добралась отвлеченность.
Мало этого, народ, что тебя старались искажать в действительности, мы исказим тебя и на бумаге, так что никто тебя не узнает, наклепаем на тебя небывальщину и выгоним из ума твоего величавый образ надолго, по крайней мере из ума публики, если она сколько-нибудь его помнит. На римские, на греческие, на французские, на какие угодно ходули поставим мы тебя, но только не на твои ноги. Вот грозное намерение литераторов, совпавшее, соединенное с таким же действием Петра, – и такой беспощадно отвлеченный литератор есть Сумароков. Теперь, когда пробудилось чувство народного сознания, странно, невероятно и смешно читать, как декламируют Синав, Трувор, Рюрик. Неужто было это время? Свежо предание, а верится с трудом. Здесь-то Росс так уже Росс! уж нет в нем ничего русского, ничего живого: одним словом, из рук вон Росс. Таковы трагедии Сумарокова. Его комедии ничего решительно в себе не имеют, оды ревут, эклоги воют, идиллии пищат, басни картавят – концерт такой, что и вообразить трудно. Все ему удивлялись: хорош писатель, хороша и публика. Сумароков переводил еще с французского произведения литературы, стоявшие на ходулях: каково же было это перенесение еще на российские ходули. Но вообще везде, всюду – совершенная отвлеченность и бездарность. Повторяем: Сумароков был писатель, не беспокоимый талантом, вполне довольный, вполне отвлеченный и любимый своей отвлеченной публикой, которой давал формальное право и удовольствие называть себя Расином, Вольтером и пр. Остроумие было одно из притязаний Сумарокова.
Но вот выступает новое лицо на величавых ходулях: Херасков. Прочтем оглавление его сочинений: оно показывает всю неестественность писателя. Особенно чем сделался он известен – это своими поэмами «Россиядой» и «Владимиром», но первой по преимуществу. Тогда писатели и стихотворцы в натянутой сфере своего величия смотрели друг на друга свысока, величали друг друга поэтами, певцами, и никого и ничего не видали они вокруг себя, что бы могло дать им заметить другое. Впрочем, они и судили некоторых из своих собратий, они произносили им с сожалением приговор, повергаясь в то же время перед другими, которые едва ли были их лучше. Так, Тредьяковский возбуждал во всех улыбку сожаления: «Труженик», – говорили об нем, но восхищались не только Херасковым, но и Петровым. О Хераскове говорили: «Певец „Россияды“. А в самом деле „Россияду“ трудно было написать потому, что надобно было иметь терпенье написать такую бездну стихов. Но поэт, вываливший на свет такое произведение, с гордостью и умилением смотрел на него и получал дани похвал. Дмитриев написал четверостишие, следующ.:
<Пускай от зависти сердца в зоилах ноют;
Хераскову они вреда не нанесут:
Владимир, Иоанн щитом его покроют
И в храм бессмертья проведут>».
Прозаические сочинения Херсакова лишены интереса, их даже и современники не очень замечали, но «Россиядою» и «Владим» он сделался знаменит; все удивлялось ему и ахало. Что же это за произведение? Это героическая поэма в 24 песнях, как велел непременно тогда закон поэзии. «Россияда» – вы догадываетесь, что дело идет о России; догадка справедлива; но когда начнешь читать поэму, то она вновь покажется неверною. О какой земле идет дело, о каких людях? Встречаете вы живые имена Иоанна IV, князя Курбского, вас осеняет мысль целой прожитой ими жизни, жизни с волнениями действительными, с страданиями, с страстями, с историческим значением. Но какой Иоанн, какой Курбской перед вами? Говорится о событии, о взятии Казани; вы знаете событие, знаете его важность. Как долго слагалось оно, как наконец сложилось и совершилось, знаете отчаянную защиту татар, мудрые полкам распоряжения Иоанна, не желавшего угнетать казанцев. О каком же это взятии Казани говорится? Имена и события доказывают между тем, что дело идет о России. О какой же России здесь говорится? Очевидно, о той, которая и была только известна нашим литераторам и публике, т. е. о России небывалой. Но как же можно было хвалить это, как можно было быть довольным? Но что же делать, когда публика стоила литераторов, а литераторы публики. Разве литераторы и публика стоят битвы при Казани? О, до какой степени может доходить отвлеченность и ложь человека не только в его личной жизни, но в общественном быту! Многим ли лучше наше современное общество? Но да мы не унываем: схлынуло невероятное время классической эпохи, первой эпохи обезьянства, Екатерининской литературы, схлынет и другое, наставшее за ним.
Пою от варваров Россию свобожденну,
Попранну власть татар и гордость низложенну…
Вот так начинает Херасков; и поет он чрезвыч. долго, на… страницах. И неужто же только? Нет, иногда слышится, хотя очень слабо, живое выражение (и дает знать, что есть что-то), иногда стих становится хорош и является как будто поэтический образ. Но живое выражение такая редкость, что рад ему как небывалому гостю и ценишь его дороже, нежели где-нибудь:
Не угрожай ты мне мученьями, тиран!
Господь на небесах, у града Иоанна.
Описание казанского лета и зимы показывает некоторый талант, который бился, но не пробился сквозь мишуру отвлеченности, и продолжал петь поэт в голоса, и то фальшивил.
А между тем Герои исторгли два меча, как два луча. Особенно замечателен Гидромир-срацын, защитник Казани, и его два сына с своими дворянами.
Нужно ли говорить, что русской дух литературы развил и Херасков. Тем более стоило завидовать.
Рядом с Херасковым – Петров, пользовавшийся большою славою. Она началась со щедрот монарших […].
Каков отзыв? А это было уже гораздо позднее. – Петров выступил здесь как мерка литературы и публики. Будучи как Сумароков, он отличался от него тем, что говорил все на один голос. Вы видели, как возносил его Мерзляков. Едва ли кто так надувался, как Петров. Рев его од заглушает все прочие оды. Здесь кстати сказать о том, о чем мы еще не говорили, именно о меценатстве. Литература, не будучи выражением народа, не стоя на этом подножии, не поступалась ему ничьей откровенностью, не будучи независима, свободна, искала покровительства и милости у власти, у силы, у знатности, которым она пела величие и усердно служила, ибо это была служба особого рода; и власть, и сила, и знатность оказывали снисходительно свое высокое покровительство тешащим их подобострастно писателям. Явились покровители и благодетели. Ломоносов также был пленен классической властию меценатства, но он по крайней мере, когда случалось, писал своим меценатам такие письма, которые показывали им, что перед ними человек. Унижались перед меценатами многие. Меценат как будто понял, каков Ломоносов, как бы он ни унижался. Другие же писатели поступали так. Меценат и благодетель довершает картину нашей литературы и публики.
Новая слава, по мнению нашей публики, новое бессмертие, является в нашей литературе: Ипп. Федорович Богданович. Но увы! Наши хвалители и судьи литературы, раздавая пальмы первенства и лавры бессмертия, все-таки говорили очень наивно: наш Пиндар, наш Лафонтен и т. д. Одним словом, им хотелось, при всем их восторге, не более как жаловать в известные уже чины Гомера, Вольтера, Корнеля и т. д. Между тем как, разумеется, Пиндар и др. поэты неотъемлемо принадлежат земле своей и никакой другой. Между поэтами может быть рабство, может быть самый акт творчества, самое созерцание быть одно, но бесконечная разница в осуществлении, в явлении частном непременно есть, и выражение «наш Гораций» и пр. не имеет смысла. Богдановича разбирал Карамзин и с свойственной ему деликатностью оскорбился неблагозвучным его отчеством Федорович. А г. Греч примерно выражается о Богдановиче так: «…„Душенька“, превосходнейшее из его произведений, доставившее ему венец бессмертия на российском Парнасе». Обратимся к Богдановичу. Богданович, точно, внес что-то новое, особый тон среди ревущего по преимуществу доселе тона нашей литературы. Он запел на сладкий лад, он хотел быть любезно-простым и шутливым, но эта любезная простота часто приторна. Но талант, который неотъемлемо принадлежит Богдановичу, часто мелькает в его стихах. Сверх того, это был замечательный шаг все-таки к простоте и естественности, до сих пор небывалой. Все удивились и все обрадовались, всем как будто позволено стало и в другом, не столько надутом роде находить хорошее и говорить; конечно, и это было подражание, как все предыдущее, но подражание не встречавшееся, подражание по всему тону, более близкому к естественности; язык, снятый здесь с мучительной риторики, освобожденный от «пою», «парю», слов естественных, но некстати употреблявшихся и потому наскучивших, от разных лавров, венцов, героев – сверкнул, и местами очень хорош. Хотя за Лафонтеном Богданович рванулся к простоте и хотя простота эта сама очень часто натянута, хотя не он ею умилен, как-то и холодноват, но уже по признанию своему она приобретение в отвлеченной сфере нашей литературы.
Всеобъемлющий Сумароков тронул на флейте все тоны литературы, но под бездарною его рукой ни один не отозвался живо и главным господствующим тоном была классическая напыщенность.
Здесь надо сказать, что только у Ломоносова простота, талантливый стих и в одах его часто жив и естествен, и язык является вполне совершенным; у преемников же обращается он в одни ходульные фразы, измучившие русский язык. Мы сказали, что Богданович заговорил на новый лад, и, несмотря на все недостатки его, в этом видим мы великой успех. Вначале наша литература, как это понятно при надутости и неестественности, при лжи и отвлеченности, боялась всего низкого и подлого (или народного), как она выражалась, и потому пустилась стремительным бегом.
Но вот явился еще новый Пегас, новая попытка естественности языка, не развитая для самой литературы, – это басня. Еще Ломоносов для примеров своей риторики написал басню, и, как все, выходившее из-под его гениальной руки, она прекрасна. Но, как мы сказали, последующая литература не обратила внимания на басню, занявшись преимущественно одою во всех видах. Хемницер явился с баснею, сначала решительно не замеченною, но после приобретшею место довольно замечательное. Басня вообще есть самое жалкое явление литературное: ее происхождение в ней слышится. Этот двойственный характер анекдота и сентенции, часто вовсе не нравственной, совершенно противоречащий художественной целости, это переодевание в звериные и всякие образы своей мысли, этот хмельной маскарад, столько унижающий свободную душу человека, – все это придает басне не художественный и не совсем живой характер, характер рабский. Но она в нашей литературе нашла важное значение, как некогда мысль раба, не смеющая высказаться явно, бежала в басню и там нашла себе убежище. Так и язык наш, не смевший в устах наших писателей показаться в своем простом виде, язык, который в их понятии у них только был рабом другого языка, в басне нашел себе убежище и высказывался там, по крайней мере, более, нежели где-нибудь, и, конечно, степенью малою обычно стоящему слову. Унижение, но унижение, падавшее, конечно, не на язык, но на литературу нашу, на наших писателей, так понимавших и не смевших в презренной робости своей внести простой или, лучше, настоящий язык в другие сферы. Вся тяжесть обвинения в рабском чувстве лежит на них. Это явление совершенно согласно с отвлеченным характером нашей литературы и писателей. У Хемницера во многих местах является язык простой и непринужденный, появляется подчас и более смелость и притязание на ум. Как ни грустно видеть басню в нашей литературе, но она явилась таким же плодом подражания, как и другие роды поэзии; как ни грустно видеть басню, но нельзя не сказать, что язык русской, хотя и через нее, получил в литературе себе настоящее место, которое, думаем, было недаром, и вся отвлеченная поэзия обратилась на себя, хотя и в нее влагались общественные вопросы, хотя и не совсем прямо, и мы за это принуждены сказать спасибо. Все положительное было ложь; отрицательное законно и больше действительно: по пословице, что время, где отрицательные истинны законы!
Теперь приступаем мы к обширному отделу нашей литературы, затронутому тоже универсальным Сумароковым, но получавшим значение позднее, – к комедии. Понятно с первого взгляда, что при отвлеченности литературы и всего общества этот отдел должен был получить самое замечательное и обширное значение и самый большой жизненный ход. Что могло предложить жизни положительного отвлеченное общество? В нем самом при отвлеченности и обезьянстве положительного быть ничего не могло. И потому все, что являлось оттуда положительного, носило на себе значительный характер лжи, натянутости, скуки. Но все общество представляло в себе много отрицательного, выросшее само на отвлеченном отрицании, много такого, что не могло не возбудить комического чувства. В отрицательном своем движении общество обратилось само на себя, и отрицательная сторона нашей литературы, комедия, – в обширном смысле – самая замечательная и законная, особливо в сравнении с положительной. Поэтому восторг был смешон, а смех серьезен. Этот характер серьезности смеха есть особенный оттенок комической русской литературы; веселости в ней немного: комедия наша всегда почти горька. Из всего этого важное значение нашей комедии в нашей литературе. Здесь вольнее и легче, без труда положительного сознания – великого труда – прорывалось отрицательное чувство сознания своего обезьянства, своей несостоятельности, непрочности, лжи. Мало одного этого отрицательного сознания, но оно тем не менее важно, особенно в свое время историч. полумер, и, конечно, способствовало и положительному сознанию, теперь возникающему. Мы должны обратить прилежное внимание на этот важный отдел. Этот важный отдел встал, конечно, только с Фон-Визиным (опять-таки иностранное имя). С Фон-Визиным явилась первая комедия.
Кто читал его письма, тот, конечно, заметил настоящую неудовлетворенность, горькую, без улыбки, насмешку, суровость, даже угрюмость ума и какую-то необходительность, нелюдимость, необщительность. Вот какой характер произвел у нас комедию. Он написал их две. Оставляя в стороне другие его произведения, ибо это не история, а историческое обозрение литературы, обратимся к его комедиям.