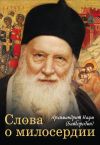Текст книги "Наум Заревой – осиновый кол в руке революции"

Автор книги: Константин Чиганов
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Колдуй, дед
Полуденное солнце прожаривало дорожную колею. Уже умерла, кажется, вся молодая растительность вдоль шляха, кроме самых матерых деревьев, которые и не такое видали, но и они покачивали ветвями устало.

С треском и громом, в облаке белой мельчайшей пыли, несся сквозь раскаленный воздух некогда вишневый, а теперь запыленный до полной неразличимости мотоциклет английской марки БСА, и странник в полувоенной одежде оглядывал с него окрестные поля, щурился сквозь очки-консервы.
Внезапный порыв горячего ветра поволок дорожки пыли навстречу мотоциклу, скрутил из них вихорек. Секунду спустя уже серый вихрь выше человека качался на пути тугой воронкой. С явственным свистом он направился – как-то уж очень разумно, навстречу ездоку.
Мотоциклист, чуть сбросив скорость, снял руку с руля, потянулся к голенищу сапога и метнул в воронку блеснувший предмет.
Вихрь явственно застонал, замотал верхушкой и распался.
Мотоцикл тормознул, и седок поднял из пыли маленький прямой нож с узорчатым гравированным лезвием и простой деревянной ручкой. Вытер о штанину, оставив на малиновой ткани бурую полосу, отправил обратно за сапог.
Пробормотал тихо:
– Встреча была на инператорском уровне, едрить…
На хуторке, залитом солнечным светом, стояла тишина. В сараюшках не гоготала и не кукарекала птица, дом с низким крыльцом слепо глядел немытыми окнами. Этот дом неприятно напомнил Науму Заревому другие места и иное время. Он слез с мотоцикла, поправил ремень и зашагал на крылечко, едва заметно приволакивая правый сапог.
На стук в глубине что-то зашебуршало, закашляло, слабый голос проблеял: «Чего надоть?» Приняв это за приглашение, Заревой распахнул щелястую дверь с ржавой скобой-ручкой и прошел через сенцы.
На лавке у стола сидел старичок в серой несвежей рубахе и черных, лоснящихся на коленках портах, босоногий. Седые волосы, подстриженные скобкой, лоснились от деревянного масла, негустая борода с усами обрамляла впалый рот. Блеклые серые глазки глядели с неприязнью. На столе стояла почти пустая четверть мутного зеленого стекла и небогатая закусь – редиска да огурцы.
Дед сидел, баюкая левую руку, в широкий рукав рубахи белела свежая повязка на запястье.
Наум взглянул на дедка, на пустой красный угол, на часы-ходики с кошачьими глазами, на старинную литографию закапанного мухами и сердитого оттого орденоносного герцога Веллингтона на стене, и сказал:
– Ну, исполать, Кузьма Авдеич, вот и свиделись!
– Доброго здоровьица, Наумушка! Заехал, значить, к старику? Живой? – с улыбочкой отвечал старичок, поджимая грязные пальцы на ногах.
– Живой! – Наум плотно уселся на лавку, потянулся с хрустом.
– Раньше на лошади ездил, а теперь на этаком… стрекозле железном?
– Что раньше было то и поросло. Убили подо мной Грачика.
– Нового не нашел? – старичок с угодливой гримасой задвигал чашками на столе. – Чем богат… А не то чайку, с медком липовым? Цветочным?
– Благодарствую, от твоего чаю еще осоловею… А я ненадолго. Нового коня? Сам знаешь, лошадь тварь чуткая, от нечисти шарахается. А я нынче бесогоном работаю, нечистую силу гоняю.
– Ага, угу… – старичок посмурнел личиком. – Ну, а ко мне зачем? Повидать старика захотел? Дело есть?
– Да так, старое помянуть, – Заревой поискал глазами солонку – не нашел. – Наших ребят-то помнишь? Гришаню рыжего, Семена, Машутку?
– Хорошая была девушка, красивая – сказал старик, – жалко ее. Царство небесное! Мученица…
– Ну, тебе-то лучше знать про царство… А ведь ее вовсе неподалеку деникинцы повесили… На ее же косе… Меня тоже хотели, да не за шею, выдумщики, за ребро…
– Страсти какие говоришь, ох! – старик замотал головою, прикрывая здоровой рукой глаза, словно взгляд Наума его царапал.
– Живой остался. Да с тех пор сам кое-чему выучился… Еще наука такая есть – спиритизм.
– Не слыхивал, – Кузьма как-то незаметно отодвинулся от собеседника и спрятал ноги под стол.
– Дело тебе знакомое, души мертвых вызывать. И вызвал я Гришину душу – вот как тебя видел.
Старый завозился, отвел взгляд от голубых глаз Заревого, сейчас похожих на льдинки.
– И сказал мне Гриша с того света, как на последнем допросе, на очной ставке, видел, кто его полковнику Камчанскому сдал… И кому денежки золотые, царские червонцы, полковник лично в руки отсчитывал. Тому, кому мы верили что родному батьке… Мертвые врать не могут, Кузьма, если спрашивать уметь.
Не изменяя тона, Наум продолжал:
– Кузьма Авдеич, ты вправду думал, что богатеть останешься? Что я до тебя уже не доберусь? Рано похоронил, ох, рано.
Мгновенным точным движением сапога он придавил тоненькую черную змейку, вынырнувшую из-под лавки. Нажал. Тут старик заскулил, закрыл покрасневшее, как от боли, лицо руками, принялся дергать себе бороду.
Заревой крутнул каблуком и растер змейку в жижу. Старик отнял руки от глаз – теперь белки его налились кровью, губы что-то зашамкали.
Наум подождал, пока колдун поймет безрезультатность усилий. Открыл кобуру, достал маузер. Сказал ровным домашним голосом:
– Молиться все равно тебе не положено. Готов?
Старик выпрямился и даже плечи расправил:
– А стреляй! А и черт с тобой, недобиток, бляжий сын! Стреляй, убивец поганый!
Наум чуть отвел ствол и улыбнулся – от той улыбки колдуна прошибла испарина.
– Билет на тот свет захотел? Чтоб без боли, не мучась, и дружков в дурачках оставить? Они это не любят. Не будет тебе успения!
Выстрел хлестнул оглушительно. Из ствола маузера потек дым, старик уставился себе на живот – там в рубахе темнела дырочка, а вокруг расплывалось багровое пятно. Медленно, не веря еще, колдун завалился с лавки и распластался на полу, задрав бороду. Глаза его выражали скорее безмерное удивление.
Наум встал над ним, опустив пистолет, сказал:
– Умирать будешь помаленьку. Успеем твоих кунаков дождаться, успеют и они с тобой попрощаться… Проводят, чтоб не одному.
Лицо старика исказил ужас, бледными прыгающими губами он выговорил:
– Христа ради! Добей!
– Поздно христарадничать. Ты ж сам бумажечку своей кровью подписывал, «отрекаюсь», говорил, на крест плевал. Шалишь, дед! Про веревочку и кончик поговорку сказать? Сам знаешь?
Колдун засипел, глядя куда-то поверх Наумовой головы.
По углам зашевелились тени, поползли по бревенчатым стенам, огибая солнечный свет, едва падающий из окон.
Множество тихих жалобных голосков слились в еле слышное гудение. Откуда-то из-под половиц к колдуну поползли разные гады, держась подальше от Наумовых сапог – змейки, ящерицы, лягушки, разноцветные, от багряных, зеленых, синих до тускло-коричневых и черных. Кузьма захрипел, задергал головой, заскреб рубаху, когда тварюшки полезли к нему под одежду.
Наум стоял с нерадостной усмешкой, глядя, как корчится от болезненных, по всему, прикосновений старик. Отвернувшись, Заревой поглядел на литографию с герцогом внимательно, подошел, снял ее со стены и цокнул языком. Колдун ворочался и что-то неразборчиво стонал, вращал безумными кровавыми глазами. Иногда из его рта или уха высовывалась змеиная или ящеричья головка.
Наум постучал в стену, подцепил какую-то щепку и сорвал незаметную дощечку-дверцу с тайника. Сперва вытащил тяжелый полотняный мешочек, вытряхнул на широкую жесткую ладонь несколько золотых кружков с курносым профилем, бросил все это на пол и вытер руки о штаны. Зашарил в квадратной дыре снова, достал черную книгу, брезгливо поворошил страницы – тоже черные, исписанные белыми значками. Вытряхнул из страниц сложенный лист пергамента с красными строчками. Развернул (старик на полу захрипел, разевая щербатый рот, попытался, давясь, выплюнуть бурую жабу, не смог), почитал, поглядел на бурый крестик внизу и вторую подпись – вроде выжженной трехпалой куриной лапы. Книгу сунул за пазуху, а пергамент из человеческой кожи бросил на уголья в печи.
Плюнул, повернулся и вышел в сени. Завоняло паленым мясом.
Вернулся Наум, покачивая в руке топором.
Свет сильной фары и треск мотоциклетного мотора вспугнул стаю ворон. В сумеречном темно-синем небе они заметались хлопьями копоти над кручей. Седок встал над рекой, поднял за космы хрипящий ком, еще брызгающий теплым. Размахнулся и далеко бросил в реку.
Сказал вслед:
– Отпускаю, плыви себе, старче, в море!
Поглядел на зарево над горящим хутором вверх по течению.
Подошел к одинокому корявому дереву, далеко вытянувшему толстый сук над пропастью. Поднял руку и снял с коры несколько длинных светлых волосков, неведомо кем, как и когда оставленных здесь.
Придет серенький волчок
1
От военного добра не жди. Это Аксютке еще бабка говорила, а она почитай сто лет на свете прожила. Но и отказывать было боязно. Не пешком военный пришел, прикатил на чертовом дрючке о двух паучьих колесах. Вроде палка-палка-загогулька, а посередке мотор, и все в господский цвет какой-то покрашено, бурый не бурый, искрасна.

Английский мотоциклет BSA 1919 г.
Аксютка как раз ворочалась с колодца, несла ведра на коромысле и свежие новости. У вдовы дьякона волки овцу задрали. Прямо в клеть, бирюки проклятые, прорылись ночью, и айда – только капли крови оставили. Дьячиху за вздорность недолюбливали, но тут уже все сочувствовали – как дьяк помер, совсем она обнищала.
Девушка уже к калитке подходила, когда от края деревни донеслось тарахтенье.
Сначала Аксюта услышала треск и вроде пальбу, только не из ружей, ружейной пальбы она наслушалась, когда красные белых били. Потом в закатном золотом свете появилось это диво, а на нем – военный. В полной форме и при фуражке, на боку пистоля в деревянной домовинке. Подъехал, подпрыгивая на седле, стал, заглушил стрекот, откинул сапогом что-то вроде подставки под заднее колесо и попросил попить.
Грех отказать. А напившись, злодей сразу повернул на то, чтоб переночевать – хоть в подпечье, сказал, а то мочи нет, как устал. Аксютка поежилась, но железный засов калитки открыла – кто его знает, военный, да еще начальство… Ох, до греха доведет. Мать тоже не перечила, побоялась, только платок надвинуть пониже дочери шепнула.
Аксюта была справная, румяная да чернобровая, волосы как куделя. Ну, пусть не красивее Варварушки с выселок, и стать не та. Зато пастух Акимка к ней под окна ходит, не к Варваре. И обнимает сладко, когда в ночь выбегает она простоволосая. А и пусть мать ворчит, отца-покойника да вожжи поминая. Сама молода будто не была.
Военный, хоть и напугал сперва самобежкой и пистолью, оказался не охальным. Машину свою прислонил снаружи к стене. Лег в сараюшке, даже не раздеваясь, на старой соломе, только ремни снял и сапоги стянул. Аксюта не утерпела, в щелочку глянула. Человек как человек, без бороды, с одними усами только. Разве вот на защитной фуражке, бережно повешенной на гвоздик в стене, стекла на ремешке странные, вроде стаканных донышек, от солнца, верно. Устал очень, и сапоги все в пыли. Издаля, верно. И как только, бедный, на этой дрыкалке усиживается? Зад ведь отобьешь в камень.
2
Три дня тому Преображение прошло[1]1
Празднуется 19 августа н. cm.
[Закрыть], дни стояли парные, совсем еще теплые, но ночами охолаживало до дрожи. Так что на двор было выскакивать неуютно. Да еще чужой человек вблизи, хоть и спит, но поди-ка. Только на обратном пути от нужника она увидела во дворе чужую остромордую собаку. Невольно подумала: жалко – Тузик месяц назад сорвался и куда-то сбежал, а то бы надрал наглому пришлецу холку. А пес вовсе спокойно подошел к ней, поставив острые уши, вроде даже хвостом вильнул. Полная луна давала довольно света, шерсть на боках и толстый хвост отчетливо виделись девушке. Крупный пес, мордой ей по пояс будет.
– Ты откуда и чей такой здоровый? Поди себе добром… – Аксютка собак не боялась, и те ее любили. Под рубашку забирался ветер, холодил босые ноги, но пес загораживал ей дорогу в сени.
– Ты поди вон, расставился тут, барин такой.
Пес вроде бы прислушивался, но не отходил, и вдруг обернулся и зарычал, блеснув желтым глазом. Дощатая дверь сарайки скрипнула.
Пес лязгнул клыками и оскалился, тогда только Аксюта поняла, кто ее ночной гость, аж сердце зашлось и задрожало:
– Дьячихин волк!
А волк развернулся, толкнув ее в колени меховым тугим боком, махнул к сараю. Оттуда тускло полыхнуло трижды, уши у Аксютки заложило от хлестких выстрелов.
Волк припал к земле, скакнул в сторону, к забору, вмиг одолел аршина три серых заостренных досок, только когти царапнули.
И тогда Аксюта закричала.
3
Собаки Наум в лес не взял. Ни одна из деревенских шавок его бы по этому следу не повела. Тут собаки нужны другие, как куцехвостый Бульбаш покойного товарища Менгиза… Жаль и его, и собаку, и донимала немного совесть, что вот мог бы задержать, потолковать, отговорить… A-а, пропади она пропадом, память человечья.
Не нюх и не зрение вели Заревого, иногда он сжимал в кармане бриджей серебряную бляшку, покалывавшую пальцы холодным узором. Так, потеплела. Все верно.
Еще полсотни шагов, и в тихом, полуденном лесу, почти сплошь сосновом и еловом, открылась полянка. Солнечные лучи сюда почти не доставали, словно Наум шел в зеленоватой воде. Пень сосновый, широкий, с отщепами, не пилой сделан. Вон и гниющий ствол лежит, корявый и черный. Повалило то ли страшным ветром – ага, в лесу-то, то ли громом небесным.
А посреди пня торчал нож лезвием вверх. Простецкий, деревенской кузнечной работы, с деревянной ручкой, гладко оструганной, потемнелой от времени и рук, и забитой в трещину древесного спила.
Наум подошел, прихрамывая, выдернул ножик. Словно кто-то охнул в лесу.
Ручка ножа оканчивалась коротким стальным штырем. Работать таким было бы несподручно, запястье поранишь, зато втыкать рукоятью легко.
– Придешь ночью к костру, дорогу найдешь, лохматый, – громко, безбоязненно сказал Заревой. – Тогда, мож, отдам.
– Акимка, слышь, пропал! – шебуршали старухи у колодца. – Вечером честью пригнал стадо, а утром коров выгонять, а никто не идет. И изба его затворена, приперто снаружи. Пропал, нечистая унесла. Хоть самим коров паси, дела другого нету…
– Матушка Параскева-пятница, – вздыхала другая, – ведь не иначе, батька его за собой в могилу увел. Хоть и грех сказать, а баловался ведь Федул с бисями, ой, баловался…
– А ты будто слыхала, как Федул помирал? То-то же, как счас помню, вроде отходить начал, и вдругорядь…
И кумушки принялись вспоминать сотню раз вспомянутое.
Аксютка ни жива ни мертва вернулась, ведра чуть не опрокинула, когда поставила, хотела было в голос завыть, да приезжий человек не дал. Он подкручивал что-то в своем железном козле, а тут встал, вытер руки и сказал, пронизав ее голубым и будто жестким взглядом:
– Знаю я, где твой жених прохлаждается. Хочешь его вернуть – после заката приходи к костру на старом выгоне. Не боись, не на охулки зову. Без тебя его труднее выручить будет.
Поглядел на солнечное пятно на стене, пожевал губами, закончил:
– Не хочешь, не ходи. Только вряд ли тогда его увидишь. Да, меня Наум звать. Фамилие Заревой.
– Аксинья я. Сивкова. Я приду, – сказала Аксюта, и закусила губу.
4
Наум сидел у правильно разложенного костра, нахлобучив поглубже фуражку и накинув на плечи потертую куртку черной, а теперь почти серой кожи. Смотрел на смолистые сосновые дрова, построенные шалашиком, и кидал в мягкую сыроватую землю найденный ножик.
Кутаясь в бурый кожушок, подошла Аксинья, молча протянула к теплу прозрачные розовые ладошки.
– Грейся, девка, – разрешил Заревой, – дело к полночи, скоро он явится.
– Он – кто?
– А вот… ага! – Наум хлопнул по кобуре, но вытаскивать оружия не стал. По ту сторону из синей тьмы блеснула пара огоньков, и давешний волк без опаски вышел к огню. Аксюта хорошо разглядела. Молодой на вид, шерсть светлела на груди и морде почти до белизны. Глаза желтые, умные и не злые, а будто тоскливые. Уши торчком, хвост зажат между ног. Волку было очень не по себе. Но ведь пришел?
– Ага, – еще раз сказал Наум, – от батюшки поклон передаешь? Слыхал я о нем, еще когда ты под лавкой проходил. Сумел он тебя перед смертью втравить, сбагрил свою подлую шкуру? Сам ты захотел?
Волк отрицательно мотнул башкой.
– Сдуру батьку пожалел? Как тот мучился, а помереть не мог?
Волк вроде бы кивнул – Аксинья тихо охнула.
– Вот он, женишок твой, – оглянулся Наум, – полюбуйся, поди. Ооками[2]2
Японское название божества-волка
[Закрыть]блохастый, дурень сосновый, пень гороховый. Батька ему перед поганой своей смертью шкуру передал, навей положил. Так теперь каждую полную луну бежит с ножиком в лес, через пенек прыгать, шавкой побегать лесной.
А иначе не может, душу жжет. Я знаю. Говорю, адиот-жалельщик.
– А снять с него порчу? – осмелилась Аксюта.
– Если только девка доброй волей за него пойдет, за скаженного. Тогда, может, со временем уляжется, как первенца родит. Только ребенок сам как бы в шерсти не родился. Редко, но бывало. Тут не угадаешь.
Наум помотал головой и, не вставая, ловким движением кинул ножик почти в лапы волку – тот воткнулся рукоятью вниз, словно так и было надо.
Волк заскулил, взвизгнул, отошел на несколько шагов, скакнул и перекувырнулся через темное лезвие, упав на спину, тяжело и неуклюже.
Аксюта зажала себе рот руками. Волчья шкура словно треснула, поползла, открывая живое мясо, тело стало увеличиваться, задние лапы вытягивались, голова меняла форму, укорачивая уши и морду… Чувствуя, как дурнеет в груди от зрелища, она опустила взгляд. А когда подняла, у огня стоял Аким. Совсем голый, грязный, без нательного креста и с отросшей курчавой бородой. В черных волосах поблескивали седые нити – не было их раньше.
Он тяжело дышал, ребра натягивали желтоватую кожу на боках и опадали.
– Овцу зачем задрал, юрод? – мрачно спросил Заревой, подходя и вытаскивая из земли нож. Оборотень не протестовал, моргал на огонь слезящимися желто-зелеными глазами. Закашлялся, надсадно бухая, но ответил:
– Жрать хотел, мочи не было. Ум потерял. А в лесу не поймал ни шиша.
– У вашего брата бывает, – кивнул Наум. – Ущерб возмести. Да не в руки, в окошко деньги подбрось. Может, не сразу догадаются… Хотя все равно.
– Возмещу. Но одно, – подтвердил пастух, – житья не будет.
– Как тебя только коровы слушались, – произнес Заревой.
– Еще лучше, боялись потому.
– А к ней с чем притек?
Аким словно впервые увидел Аксюту. Глянул в глаза, отвернулся. Не слезы ли блеснули?
– Попрощаться хотел. Хоть увидеть в последний раз, хоть так. Уйти хотел в лес насовсем. Как волком, так вою, человеком, по башке себя бью – чего творишь, на каку жизнь девку тянешь. А забыть не могу. Ты прости, Ксюта, что напугал.
– Акимушка, ты что! Куда тебе волком?
– Тьфу на вас обоих, – сказал Заревой и плюнул. Протянул нож рукоятью Аксютке. – Бери, володей, девка. Сама решай, сломаешь, он человеком останется, но без леса пропадет, сгорит, оставишь – в лес так и будет смотреть.
– Я за тебя и такого пойду! – сказала Аксинья и поглядела жениху в глаза. Твердо поглядела. – И куда хочешь, с тобой уеду.
Наум поднялся, чуть оберегая правую ногу, отошел. Оглянулся напоследок.
Двое стояли у догорающего огня и смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. Молча.
– Никакого зла не хватит, – пробормотал Заревой вместо прощания, – тьфу на вас.
И еще раз плюнул под ноги.
Конь-огонь
У трупа не было лица.
Вместо лица на обугленном черепе отпечаталось конское копыто. Тело мужчины лет сорока не опознал никто: и не дивно.

Наум поглядывал на доктора, препарировавшего покойника. Неприкрыто старорежимный земской врач с седоватой бородкой клинышком, пенсне и белейший лекарский куколь дополняли впечатление. Из бывших, но высоко никогда не сиживал.
– И что скажете? Аристарх Иваныч?
– Видел я подобное. Лошадь приласкала ямщика. Он-то был сильно нетрезвый, в отличие от лошади. Копыто по виду самое настоящее, кованое. Но почему такой ожог, не представляю категорически. Словно подкову раскалили прямо с копытом. А лягнула лошадь.
– Да?
– Немного снизу нанесен, рукой так неудобно, разве что ребенку… тьфу, да такой силищи удар рукой и не нанести. Лошадь я уж узнаю.
– Который он такой у вас?
– Второй. Точно та же картина, конгениально. Оба мне незнакомые, хотя опознать, ну… сами понимаете. Но если б осматривал когда, я бы вспомнил. В смысле, живыми осматривал, да.
«Мда, и подкова на счастье», – подумал Наум Заревой, прощаясь с доктором. То, что труп был не второй, а пятый, предпочел Наум не афишировать, и что двоих опознали, тоже. Опознали, зажиточные мужички, отправились на ярмарку покупать лошадь. Вернулись без лошадей и покойниками.
Вот вам и цирк с конем.
Ярманка, ярманка! Август перевалил за половину, самое время для торга, и погода – ни облачка. Хрипит, плюется гугнивой музыкой довоенная шарманка облезлого красного лаку, с бронзовыми мордастенькими немецкими ангелочками на углах. Увечный шарманщик в остатках пиджака и габардиновых штанах невообразимого цвета, босой, крутит блестящую ручку, прижмуривая хитрые глаза и жуя пегую бороду.
Куда этой ярмарке двадцатых годов до тех, прежних! Ни пузатых купцов с миллионами ассигнаций в кошеле, ни батюшек в парадных лиловых рясах, среди птичьих рядов выглядывающих гуся, ни городового в фуражке и с усищами, при парадных погонах бряцающего селедкой-саблей… а! Хотя представители власти тут как тут и сейчас.
Вон, бредет, хромая, усатый в гимнастерке и пыльной фуражке, светлые глаза прищурены, на боку маузеровская кобура-колодка. Расступается народ, чтоб не толкнуть, а лучше и не касаться. Ну уж от греха подальше. Свернул в конские ряды, рожа комиссарская. А чтоб тя копытом приласкало!
Пахло крутым лошадиным потом, жужжали мухи-горюхи, докучные и тупые, позвякивали цацки на уздечках. Лошадки были так себе. На неважных кормах, рожденные в военную и революционную голодуху, крестьянские клячонки, ни статей, ни шерсти. Одно – выносливые и покорные.
И только у одной коновязи останавливались даже цыгане, которых никакими конскими трюками не обмануть. Ох, что за жеребец там топтался, вскидывая длинную горбоносую голову, встряхивал густой долгой гривой. Вороной, пасынок ночной тьмы, с единственным белым пятнышком на лбу. Только глазами он косил уж очень дико, и клацал в недоуздке молодыми зубами так, что барышники поеживались.
А комиссар заинтересовался, судя по крепким его ногам в сапогах с ремешками от шпор, верховая езда и ему была знакома. Подошел ближе, но так, чтобы не маячить на глазах коня, пригляделся, почему-то особенно обратив внимание на копыта.
Смуглый, чернявый, как его конь, продавец, в плисовых штанах и жилетке на синей шелковой рубахе, с короткой бородкой и льстиво-смышленым выражением физиономии, аккуратно коснулся рукава гимнастерки пришельца.
– Глядишь, дядя, глядишь? Купить не сможешь, дорогой, не по тебе лошадка, монет не хватит, да и норовом смурной, капризный, в строй не поставишь.
Комиссар не обиделся, только пристально взглянул в глаза барышнику, скривился и полушепотом, кивнув на коня, сказал:
– Побалакать надо, в спокойном месте, Бахти – везунчик. Ведь не первый я, кому его продаешь? Да и конек приметный, приметный. Только драчлив больно, не? Как бы меня, убогого, не покалечил.
– Ладно, ладно, – цыган спал с лица, поглядывая на маузер, – вот туда, в корчемку проходи, под навес, я только чаворо[3]3
Малец (цыг.)
[Закрыть] кликну постеречь.
Страх, застарелый страх сидел в глазах у цыгана. И вовсе не комиссар с пистолем этот страх вызвал. Заревой попросил гречневой каши со шкварками, пока Бахти наливал себе рюмку за рюмкой очищенной. Хмель его не взял, только взгляд прояснел, словно остыл и перестал ускользать от взгляда Наума. Иногда цыган по-куриному потряхивал головой, покачивалось золотое кольцо в ухе, отвлекая, но Заревой уже гнул свою линию.
– …вчера нашли пятого. И у пятого опять вместо головы каша от конского копыта. А у кого он коня торговал, и что за конь, ты, ром, не сомневайся, уже доложили и обсказали. Кому надо.
– Ай, бедного цыгана всегда оговорят!
– Ай, бедному цыгану корячится высшая мера пролетарской справедливости. Которая в девять граммов весом.
– Начальник, ты ж все равно не поверишь, – лицо у барышника задергалось, как у припадочного, – вы ж нас, цыган, темнотой считаете, дикими людьми. Жили в лесу, молились колесу.
– Отчего ж не верить? Ты расскажи сначала толком. Не сам же ты копытом в лоб потерпевшим бил? Не сам, знамо дело. Может, ты еще и свидетелем будешь, мне ты без надобности. А чертовщины я навидался, не удивишь.
Цыгану явно полегчало, даже криво попытался улыбнуться.
– Товарищ комиссар, Божьим именем клянусь и маминым сердцем, – Бахти понизил голос до шепота, хотя в корчемке поддатые галдели изрядно, – это он… Он сам меня нашел и к делу тому приставил. А про душегубство я ни сном ни духом, чтоб мне мулло[4]4
Род вампиров, которых боятся цыгане.
[Закрыть] после смерти стать! Я думал, он сбегает от покупателя, да и концы в воду.
Цыгану без коня не житье. Сгорит кибитка со всем добром – плюнет цыган на пепел. Сбежит жена – подкрутит ус да песню запоет. Но пропадет конь – зачахнет цыган без топота копыт и ветра в лицо, сопьется и закуролесит.
Бахти потряхивал неспешно на рыжей кобылке, когда за деревьями услыхал крик, голос оборвался на высокой ноте, и пустил бы он лошадку побыстрее прочь, если б не услышал ржание. Кобылка вздрогнула и зафыркала. Потом стала как вкопанная. Как ни бился хозяин, уже ударил ее пару раз – не двинулась, только пугливо прядала ушами. Пришлось слезть, привязать глупую к сосенке и идти самому.
На тропе ничком лежало тело молодого парня с головою, разбитой, судя по всему, о низкую ветку. Странно, что крикнуть успел. Одет в полувоенное, но поясок наборный, черненого серебра, и сапоги юфтевые. А над телом стоял вороной жеребец, внимательно и как-то разумно глядя мертвецу в лицо – рука того еще сжимала повод.
Черт дернул Бахти взять повод из легко разжавшейся мертвой ладони: на окровавленный затылок он постарался не глядеть. Другой черт заставил поставить ногу в добротное стремя хорошего кожаного седла с высокими казачьими луками. А когда он оказался в седле, конь не дернулся, не прыгнул, не попытался сбросить чужака. Только показалось цыгану, что между ног у него раскаленная печка.
– Он на меня поглядел, – сказал цыган, опрокинув пятую стопку, и с виду не опьянев, – а глаза-то были красные как угли. Сам будто йаг[5]5
Огонь
[Закрыть] пышет. А потом оскалил зубы, и заговорил. Будешь меня днем продавать заезжим, я потом сбегу от нового хозяина, к тебе к полуночи ворочусь. А не то…
– И никаких еще условий не поставил? – Заревой доел вкусную кашу и бережно вытер глиняную мису кусочком ржаной горбушки. – Треснул, так колись до пятки, ромалэ.
– П-поставил. Каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье бросать ему в стойло черного петуха без головы…
– И еще теплого, чтоб трепыхался, – заключил комиссар и хлебнул квасу, скривился, сплюнул бесстыдно на столешню, увидав в мутном квасе муху. Отставил кружку и глянул цыгану в глаза. – Заняться вашей шайкой-лейкой надо.
– Родной, – тихо сказал тот, – слушай, раз тут такой грех, стрели ты его, я даже тюрьмы не боюсь, хоть цыгану в тюрьме помереть. Он когда на меня смотрит… так… ведь не жить мне. Старики говорят, пулю из нательного креста…
– Стрелить дело нехитрое. Коня неповинного убьешь, того кто в грай[6]6
Конь на цыганском наречии
[Закрыть]сидит, на свободу выпустишь, искать новое жилище. Нет.
– Со ту камэс? – перешел на родной цыган, – Со мангэ тэ кира?[7]7
Что ты хочешь? Что мне-то делать?
[Закрыть]
– Жди покупателя завтра с обеда. Мандэр[8]8
С меня
[Закрыть] полсотни возьмешь, хватит с тебя. Рядом с ним ни полслова. Польши, ромал?[9]9
Понял, цыган?
[Закрыть]
На следующий день по ярмарке бродил, прихрамывая, пожилой усатый казак в черной потертой папахе и нагольном кожухе, несмотря на жару, как видно, кости его плохо уже грела жидкая кровь. Сапоги сбиты, военные галифе подшиты грубой кожей в шагу. Рубаха нечистая под кожухом, глаза светлые зыркают. У такого и взять нечего, а рука, если попадешься, тяжелая, рассудили ярмарочные щипачи и забыли о нем.
Заглянул он в лавку к кривому сивоусому шорнику, спросил недорогое седло без тисненых узоров и граненых гвоздиков, простую крепкую уздечку, «чтоб новенькие, ни на одной лошади еще не бывшие».
Потом заглянул под навес к кузнецу, в пахнущий смазкой и железом полумрак, поманил бородатого, лысоватого, пузатого, в одном кожаном фартуке поверх штанов, хозяина. Ручищи, правда, у кузнеца совсем от годов не похилились, только кожа потемнела и задубела от жара и искр.
Выбрал казак простые шпоры, хотя были там и со звоном, и со звездочками, и о чем-то, приблизив рот к уху продавца, попросил. Кузнец отпрянул удивленно, казак вытащил кусок чеканного серебряного блюда вроде церковного дискоса. Кузнец перекрестился, кивнул и взял обломок и брякнувшие шпоры.
У чудо-жеребца стояли, как обычно, несколько знатоков. На хмурого бобыля никто и внимания не обратил, пока он не подозвал цыгана, не вытащил, у всех на глазах, из-за пазухи кожаный тертый кисет, и не отсчитал в мозолистую цыганскую ладонь пяток новеньких золотых червонцев с сеятелем.
Вот тут схватился за голову невольный свидетель, местный карманник Яша Волдырь и проклял свою дурость, но казак уже надел уздечку и седлал коня поднесенным цыганом новым седлом. На сапоги он нацепил шпоры но… садится на коня передумал, повел его в поводу прочь, неожиданно послушного. Подивился народ, кто-то даже засмеялся, а мальчишка-босяк свистнул и крикнул в сутулую спину:
– Дядя, тебе зачем конь, коль жопа болит ездить?!
В перелеске, поодаль уже изрядно от ярмарочного шума, казак остановил жеребца. Оглянулся с прищуром. Спина его выпрямилась, налившаяся чугунной силой рука особым приемом закрутила узду, отчего не ожидавший вороной захрапел и выпучил глаза, и в седло ему прыгнул Наум Заревой, первый свой солдатский Георгий взявший в кавалерийской атаке на германскую батарею.
Но и конь попался непрост. Оглянулся, скалясь, на седока, и глаз его горел углем. Волна жара охватила Наумовы ляжки, только толстая подбитая кожа галифе уберегла. Седок вцепился ногами в бока чертову жеребцу, рванул повод и под дикое злое ржание ощутил, как подымается вверх.
Так он чувствовал себя во время единственного в жизни полета на ероплане-разведчике, только не было рева мотора и дрожи от винта. Зато и выскользнуть из-под седалища машина тогда не пыталась.
Жеребец ударил задом, несясь над верхушками деревьев, так что все в глазах у Наума замелькало. Он как клещами вцепился в конские бока, натянул повод так, что черный дьявол невольно сбавил ход и начал опускаться. Все же сил на новые прыжки выше облака у него не хватало, Наум был тяжел и все рвал и рвал удилами пышущий адским жаром рот коня, пригнувшись к луке.
Когда копыта коснулись травы, Наум впервые ударил коня шпорами. Что это была за боль! Обычная шпора не уязвила бы его, но посеребренные кузнецом зубцы проникли глубже, в иную, неземную плоть.
Как конь завопил! Не заржал, не застонал – заорал оглушительным, сверлящим визгом, и Заревой пожалел, что не заткнул воском уши. Он еще и еще ударил шпорами, приговаривая: «волчья сыть, травяной мешок, да спотыкаешься», потом выхватил из-за пазухи нагайку, усеянную звонкими серебряными монетами, и врезал жеребцу по крупу. Из лошадиной пасти вырвался язык вонючего грязного пламени.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?