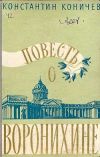Текст книги "Из жизни взятое"
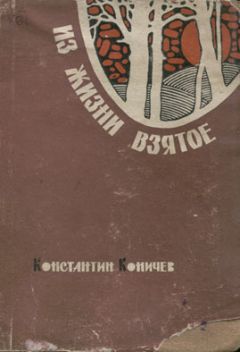
Автор книги: Константин Коничев
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
ГЛАВА ВТОРАЯ
В ШИНЕЛИ, с кожаной сумкой на боку, с наганом на ремне, Судаков вошёл за ворота древнего Прилуцкого монастыря. Прибывшие с Украины куркули с семьями разместились на многоярусных нарах в церквах и монастырских служебных домах. Одни толкались на просторном дворе и кладбище возле своего скарба. Другие, уставшие в длительном пути, сидели около костров, грелись, кипятили воду, что-то варили, что-то выпекали на сковородках и шумно балакали, перемешивая украинские слова с русскими.
Не успел Судаков разыскать коменданта, как спецпереселенцы обступили его тесным кольцом. Вид они имели довольно невзрачный. По их облику нетрудно было заметить горечь переживаемых ими обид, а за обидами – почувствовать злобную покорность судьбе.
– Гражданин начальник, товарищ комендант, дозвольте спросить… – обратилось враз несколько человек к Судакову. – А скажите, верно, що всех куркулей скоро обратно повезут?
– Та не брехай, коль не разумиишь, – перебивали другие. – Дай о деле спросить.
– Где ж така земля Хранца Осипа? Одна людына балакала, що нас туды повезут. А чого мы тамо станем робиты, коли там и лета не бувает. Снеги да льды…
– Будут ли комиссары здесь нас спрашивать, кто за что страдает и правильно ли?..
– Геть, хлопцы! Тикайте, пийшлы прочь! Чого вси до начальника пристали. Хиба не бачите, який он молоденький. Чого он морокует?
Не успел Судаков и рта раскрыть, как подошедший спецпереселенец, тучный, высокий, с окладистой огневой бородой и красным лицом, усеянным веснушками, встал посреди толпы и, обращаясь к нему, зычным голосом заговорил:
– Будьте здоровеньки. Дозвольте знать, хто вы такие и як ваша хвамилия?
– Зачем это нужно? – почти растерянно проговорил Судаков и назвал себя по имени и отчеству: – Иван Корнеевич, здешний сотрудник…
– Тогда позвольте отрапортовать: я бывший казачий есаул Охрименко. Тепереньки милостью божьей состою помощником при коменданте, вроде старосты або старшины надо всей этой монастырской братией, а ей тут нет числа. – Он говорил вроде бы серьёзно, но чувствовалась в его словах и горькая ирония.
Потом он обратился к толпе:
– Слухайте, приказано всем передать от имени коменданта: сегодня к вечеру семьсот душ нашего народу выйдет в поход к местам нашего будущего постоянного жительства, которому суждено ли быть родиной нашего потомства ещё того надвое бабушка сказала. Будьте готовы, все, кто может робить топором, пилою, пойдут, кроме наших жинок и дивчат, – те будут до здешней весны туточки проживать…
Толпа быстро рассеялась. Никуда не денешься: попал в список – иди за ворота, становись в строй и маршем по разбитым снежным дорогам и по бездорожью на север, в леса, на необжитую землю. Люди засуетились, стали готовиться в путь-дорогу, в неизведанные края, о которых никогда-никогда им не думалось. Подготовкой к отправке был занят комендант, ему помогал «штат» писарей, выделенных из наиболее грамотных высланных куркулей.
Судаков с двумя подручными милиционерами и Охрименкой обошел весь этот лагерь, похожий на скопище беженцев, выжитых с места настигшей их врасплох жестокой войной. В детстве, в девятьсот четырнадцатом, ему приходилось видеть семьи поляков, бежавших от войск кайзера. Поляков-беженцев он видел тогда собиравшими милостыню. У тех не просыхали глаза от слез. А эти – угрюмые, хмурые и злые, покорные своей судьбе, однако не потерявшие надежды на что-то неведомое, но лучшее, ибо хуже теперешнего их положения, казалось им, не могло и не может быть.
На могильных плитах вологодских купцов и архимандритов там и тут были разведены костры. Судаков задержался около креста из белого мрамора, на поперечной крестовине которого сохли промокшие портянки. Коренастый черноусый хлопец, жмурясь от едкого дыма, шевелил палкой головешки. На подошедших он даже не взглянул, продолжая своё дело.
– Ай да Шалюпа! – похвалил Охрименко земляка и дружка по несчастью. – Просушивай… Портянки в дороге – главное…
В ту же минуту Судаков как-то машинально прочёл на кресте надпись: «Здесь покоится прах Константина Николаевича Батюшкова». Он вспомнил о том, что Батюшков – это вологодский поэт, знаменитость, участник Отечественной войны 1812 года. Имя его золотыми буквами высечено на стене педтехникума…
– Сейчас же, немедленно перенеси костер на другое место! Вот, чёрт, ещё и портянки развесил, – строго и требовательно приказал он хлопцу. Тот, недоумевая, заморгал глазами.
– Все жгуть, пекут и варят, а мне запретно?
– Да знаешь ли ты, чья это могила?
– Не моя, и слава богу.
– Наверно, грамотный?
– Як же! Восемь классов, девятый коридор! – огрызнулся парень, не собираясь переносить костер в другое место.
– Каких поэтов знаешь? – спросил Судаков.
– Тараса Шевченку, Пушкина, Павло Тычину…
– А Батюшкова?
– Ха! Не чуял про такого.
– Давай, давай… – заторопил Судаков парня. – Убирай с крестовины твои онучи. И на такой могиле чтоб не кощунствовать!..
– Ясно. А можно вопросец? – забрасывая снегом костер, обратился к Судакову Шалюпа. – Хочу знать, кого по справедливости считать куркулём: того киргиза, что имел восемь сотен кобыл, или меня, Шалюпу, с тройкой лошадей и двумя парами волов?
– А земли сколько имел?
– Пятнадцать десятин.
– Батраков?
– Малость прихватывал.
– Значит, эксплуататор?
– Допустим. А при чём моя жинка? Вон та, на мешках сидит. Она беднячка. Виновата, що за меня замуж вышла два роки назад… Да чего гуторить… Вы не знаете. А у нас на Украине такая содомия и гомерия происходит – хуже всякой войны! Великое переселение и отобрание всего нажитого. Ничему не верят. Гнут, загибают, высылают и баста!.. Ох, чем это кончится?..
Судаков не стал вступать в разговор. Некогда. Не время и не место объясняться. У каждого из нескольких тысяч, находившихся здесь, нашлось бы о чём спросить.
– Ладно, Шалюпа, не охай. Поживём – увидим. И мы не без вины виноватые. Всякое бывало, – покладисто и решительно возразил Охрименко. – Оно, конечно, если так по правилам рассуждать, то окажется, что вместе с мусором и янтаря немало повыплескали. Что ж, всему свой черёд. Янтарь отберут и отвезут на свои места. Возвратят, да ещё и с извиненьицем. Только нас с тобой, Шалюпа, едва ли коснется. Мы хоть трудовики, а всё же не совсем чистый янтарь… Ступай вот в эту церковь. Скажи всем нашим бывшим людям, чтоб одевались и были готовы к отправке…
За воротами монастыря Охрименко устроил перекличку. Все семьсот были налицо. Киргизы отдельно. Они должны были следовать за обозом, а впереди обоза – крепкая, трудоспособная сила, в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет.
Судаков, стоявший в стороне, после переклички подозвал к себе Охрименку и приказал ему всех построить в две шеренги и рассчитать на «двадцатки», каждой «двадцатке» выделив своего старшего, ответственного за порученное подразделение.
Охрименко сказал «рад стараться» и немедленно стал выполнять приказание охотно и даже восторженно.
– А ну, хлопцы и всякие куркули, слухай мою команду!..
Толпа заколыхалась. Оказанное Охрименке доверие было принято ими как должное.
– В две шеренги становись! – скомандовал Охрименко. – На десятки номеров рассчитайсь!.. Стоять смирно!..
Судаков удивился командирской четкости Охрименки, быстроте и слаженности построения. «Мне бы так не догадаться, да, пожалуй, меня не очень-то и послушали бы», – подумал он, глядя на шахматный порядок строя.
Образовалось тридцать пять групп, в каждой по двадцать человек. Потребовалось не более пятнадцати минут, пока спецпереселенцы сами назначили старших, а старшие составили списки каждый на свою «двадцатку». И тогда Охрименко, приложив ладонь к каракулевой папахе, доложил подошедшему коменданту и Судакову, что, согласно списку, налицо к отправке столько-то человек и что старшие групп назначены.
Во второй половине дня стало крепко подмораживать. Дорога затвердела. Снег поскрипывал под ногами. Долго шли молча длинной, растянутой вереницей – по три в ряд: двое по лоснящемуся полозу, третий – посередине.
Впереди этой длинной и необычной оравы ехал верхом на бойкой лошади милиционер Сашка Быков. Молодой, только что демобилизованный кавалерист. При нем наган и новенькая сабля. Конечно, ни для кого из куркулей не был страшен этот милиционер; наоборот, роль его – квартирмейстера – оказалась для всех важной и необходимой.
Судаков ехал в санях. С ним рядом в тёплом кожухе теснился Охрименко. Их сани шли впереди обоза. За обозом в длинных стёганых, покрытых цветным ситцем, не виданных здесь одеждах с длинными до земли рукавами устало брели киргизы. На них неуклюже высокие заячьи шапки и почти у каждого отвислые усы. С украинцами они не общались, сторонились. Даже общая участь не роднила и не сближала их.
Куркули с презрением отзывались о киргизских баях:
– Богачи, а вшивики. Жрут кумыс да кобылятину. Шатающиеся. Попрятали, небось, золотишко, а теперь и сами не знают где.
Охрименко сокрушенно рассуждал:
– Мы, жиловатые, мы и в лесах, авось, приживёмся и с холодами свыкнемся, а эти как? Что они окромя кобыл знают? Ничего. И зачем их сюда гонют?..
Киргизы с куркулями ни слова. Им казалось, что среди них есть казаки. А с казаками ни дружбы, ни доброй памяти…
Строй киргизов замыкался пешим милиционером Петькой Косныревым, тоже из демобилизованных, но пехотинцев, уроженцем из Коми области. Коснырев трудненько говорил по-русски, путал слова и понятия, однако не собирался к себе на родину Он поставил цель – выслужиться по линии милиции и, если вернуться на свою зырянскую землю, то не менее, как на должность начальника районного отделения.
Коснырев сверх меры старателен, исполнителен. Видя у Судакова два прямоугольника в петлицах шинели, готов был по его приказанию в огонь и воду. Но выглядел он сумрачно, невесело. Не поддался ли общему настроению этой массы, не охвачено ли сердце жалостью к ликвидируемому классу? На этой мысли ловил себя и Судаков. Подчас чувство жалости проникало и в его сознание. Особенно это было в первые дни прибытия эшелонов с юга.
Судаков ещё в Прилуках, как только двинулись в путь, спросил Коснырева, показывая на тяжело и медленно бредущих кулаков:
– Жалко их, товарищ Коснырев?
– Как человеков – да… как класса – нисколечко не жаль. Диктатура пролетариата знает, что делать. Наше дело служить.
– А почему такой грустный, будто корову продал?..
– Вот угадал, товарищ Судаков. Угадал. Хуже продажи. Жинка от меня не живет. Лес рубит там в Коми. Дома мало была. Вчера худое письмо пишет, с почты получено. Корова умерла – молодая, три года, а тёща стара была – тоже подохла. Просил начальника: пусти домой две-три недельки дела делать, бабу увезти. Не пустил. Куркулей этих надо водить к поселению… Вот…
– Потерпи до навигации. Пароходом быстрей… А с кулаками будь аккуратен, вежлив, не груби, товарищ Коснырев. А кто из них в пути устанет или ногу сотрет с непривычки, не давай отставать, а подсаживай таких на воза, вместо ездовых. Пусть лошадьми правят. Куркули – куркулями, а отношение к ним чтоб человеческое. Не на луну ссылают. На земле станут жить и честно трудиться. На земле, понимаешь?
– Ничего. Пусть привыкают. Наша земля тяжела им покажется. Без навозу не рожает. Товарищ Судаков, а если побегут? Стрелять?..
– Что ты! Ни в коем случае! Некуда им бежать. На родину? Так родина их сдвинула на новые места. Дальше Вологды не сбегут. А там везде заставы…
– Так зачем мы к ним, бесплатное приложение?
– Для порядка, товарищ Коснырев, для порядка. Шашку-то сними. Она у тебя только в ногах будет путаться, брось ко мне в сани. Пусть лежит.
– Мне – что… Начальство приказывает – могу и без шашки, – согласился Коснырев и, закрутив ремень вокруг ножен, положил своё холодное оружие в сани. И эта мелочь, замеченная куркулями, произвела на них умиротворяющее впечатление, хотя наган, висевший сбоку, Коснырев на всякий случай, для острастки, сдвинул себе на живот, к пряжке…
Отряд спецпереселенцев с самого места, от села Прилук, двинулся не спеша, с раскачкой. До ночлега предстояло прошагать около двадцати километров. Кулаки брели, понурив головы, словно на похоронах. И в самом деле, они не представляли себе, каким окажется их будущее. Тут ли, в северных лесах и снегах, придется осёдлость иметь, или же у них будут со временем паспорта, а с паспортом человек – вольная птица, хоть на новостройки, хоть куда, но только не домой, не в свои станицы, где их движимое и недвижимое стало достоянием колхозов. Конечно, были и разговоры о возможности вмешательства капиталистических государств: авось – война, и всё срезанное под корень вновь даст ростки!..
Не прошли они и десятка километров, как все семьсот, а за ними и киргизы, словно по команде, начиная с передних рядов, свалились, будто подкошенные. Свалились и лежат в ряд, вплотную поперёк зимней дороги, как снопы на гумне.
– Устали. Передохнуть прилегли, – сказал Охрименко Судакову. Он говорил с ним, стараясь не прибегать к украинскому языку, боясь быть непонятым. – Минуточек через пятнадцать подниму я их… Вы только мне доверьтесь, гражданин начальник. Дисциплина будет, дай бог!..
Охрименко и Судаков стали обходить весь этот длинный отряд по глубокой снежной обочине. Начинало смеркаться и на закате сильней подмораживать. От лежавших на дороге куркулей клубились испарения. Многих, если не всех, прошиб в дороге пот.
– Не лежите пластом, простудитесь! – предупреждал Судаков. – Сядьте на свои мешки, кошевки и отдыхайте. Воспаление легких в два счета схватите.
– Все равно околевать, – ответил кто-то из лежавших равнодушно, и ни один не пошевелился. Замерли. Лишь слышалось дыхание и кое-где шёпот.
– Как околевать?! Кто это сказал? – зарычал Охрименко, входя в свою роль вожака и помощника Судакова.
– Все так думают. Это не жизня. Одна радость: от земли взяты, земля всех и примет…
– Всех, да не сразу! – обрезал Судаков. – Не те разговорчики. Не теряйте бодрость духа. Вы же люди…
Никто не откликнулся, ни словом не обмолвился, и никто не пошевелился. Так и остались лежать, а некоторых сразил сон, захрапели.
Охрименко шепнул Судакову:
– Плохо. Народ уставши. Не дали им там в монастыре с дороги отоспаться…
– Дойдем до Оларёва, там будет им отдых. Полный, вдосталь…
– Далече это будет?
– Близко, тут рядом. Надо поднимать и двигаться.
– А с песнями можно? – спросил Охрименко. – С песней легче идти.
– До песен ли им?
– Ничего, запоют. Заставлю.
Спецпереселенцы, начиная с передних рядов, постепенно поднялись, построились. Охрименко сказал последнему в ряду:
– Передайте по цепи: шагать десять верст. И пусть там, впереду, запевают старую козацкую!..
Пронеслось по цепи распоряжение Охрименки, и через две-три минуты послышались голоса запевал, поддержанные всей этой многоликой оравой.
Ой, на гори та жницы жнуть,
Ой, на гори та жницы жнуть,
А по пид горою
Яром-долиною
Козаки идуть…
Голоса крепли, усиливались. Самые понурые и те примкнули, стремясь показать, что и они не упали духом, что вынесут невзгоды, воспрянут на новом месте, трудом и хитростью пробьются к нормальной крестьянской жизни.
Всё громче и резче разносились по занесенным снегом полям вологодчины слова никогда не звучавшей здесь песни.
Гей, долиною,
Гей, широкою,
Ко-о-озаки идуть!
По переду Дорошенко,
По переду Дорошенко,
Пид ним коник чёрный,
Чёрный вороной…
Охрименко спрыгнул с саней. Загорелся страстью встать в ряды своих и тоже подхватить.
– Гражданин начальник. Не стерпелось. Держите вожжи. Пешочком подойду. Эх, как здорово поют наши. Да, мы там обживёмся, концерты станем давать. Музыкантов-трубачей заведем. Не место унынию. К чёрту!..
Его басовито грудной голос звучно примкнул к голосам спецпереселенцев.
По середине пан хорунжий,
По середине пан хорунжий,
Веде свое вийско —
Вийско запорожско
Сильно-о-ое дуже!..
«Черти, и в самом деле здорово поют!» – подумал Судаков. А песня лилась в таком темпе, с такими переливами голосов – то в медлительной раскачке, то с нажимом и присвистом, что казалось, будто вольная казачья конница едёт по ковыльной степи после успешного завершения боевой операции.
Замерла песня, и был слышен только скрип снега под ногами и полозьями саней тянувшегося обоза. Но вдруг позади колонны, за обозом, послышалось унылое, похожее на похоронный вой пение киргизов. Судаков не понимал этой песни, но ему казалось, что не в походе годится такое петь, а сидя на войлочной подстилке перед юртой. Была ли допета до конца песня, он так и не слышал: шум, говор и, наконец, громкий смех спецпереселенцев заглушил её.
Впереди в вечерних сумерках мелькнули огоньки небольшого придорожного села Оларёва. Здесь первый ночлег.
«Квартирмейстер» Сашка Быков успел слетать в Оларёво и, выехав навстречу колонне, доложил Судакову:
– Ночлег обеспечен. Тесно будет, зато тепло спать. В школе, маслодельном заводе, да ещё есть общественный амбар-магазея. Можно бы и в церковь, но ключи утеряны…
В этих общественных постройках и разместились спецпереселенцы. Когда все легли спать, Судаков, оба милиционера и Охрименко расположились на ночлег отдельно в избе сельского исполнителя. Председателю сельсовета, встретившему колонну, Судаков велел передать в Вологду телефонограмму о благополучном их прибытии в Оларёво.
Председатель выполнил это нетрудное поручение и на всякий случай, по своей инициативе, выставил за селом, на пути к Вологде, патруль из двух бедняков с дробовыми ружьями.
Охрименко положил под голову свернутый кожух, рядом с собой кисет и спички и уснул немедленно. Не спалось Судакову и обоим милиционерам. При тусклом свете семилинейной лампы они, все трое, лежа поперек соломенной постели, тихо разговаривали.
– А работяги-то они хреновые, – спокойно, ни с того ни с сего сказал Сашка Быков. – Прошлый раз вот такую шатию-братию я за Семигороднюю станцию в лес сопроводил. Заставили их себе жильё строить, так они, несчастные, не знают, как пилу надо держать, как за топор взяться. Того и гляди себя по ногам рубанут. Наши там, лесорубы, им стали помогать. У тех лес под корень, как бритвой. Нарубили им. Ну, прутья-то очистить полегче… Стали строиться нехотя… Счужа, как не для себя. Многие так и считают, что это «вавилонское столпотворение». Рано ли, поздно ли, а так и говорят: «Разбежимся в разные стороны…».
– Чего ты, Быков, от них хочешь, – вмешался Судаков. – Они же на черноземе выросли. Соломой печи топили. Откуда им сразу с лесом свыкнуться. Жизнь заставит. А все не разбегутся. Я так понимаю: часть, конечно, домой уедет, которых перегиб коснулся. У хлеба не без крох… Лес рубят – щепки летят.
– Щепки одно, люди – другое… – заметил Коснырев, пряча наган под изголовье.
– Жалко тех, которые попали сюда по личной злобе, по несправедливым ябедам, по личным счетам местных властей. А есть и такие. Право, есть, – тихонько сказал Быков.
– Ну, что же, – не то возражая, не то объясняя, начальственным тоном заговорил Судаков. – Революция не может обойтись без издержек. Дорогоньки накладные расходы, ничего не поделаешь, ох, дорогоньки. Сильный момент – ликвидация кулачества как класса! Что вы думаете, легко и просто даётся? Неслыханное в истории человечества дело, это у нас только. И это законно и закономерно…
– Почему законно? – спросил Коснырев.
– Читай Ленина – узнаешь.
– Ленина мне трудно. Малограмотен я. Да если бы на коми языке, легче бы понимал.
– Читай на коми. Есть теперь и такие книги. Ленин знал эту классовую породу. Писал он в своих трудах, что кулаки есть самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов… – Притихшим голосом, чтобы не разбудить надежно уснувшего Охрименко, он продолжал, как на уроке политграмоты, просвещать милиционеров: – А что вы думаете, мы невинных агнцев, угодников божьих ведем за Тотьму? Как бы не так!.. Оно, конечно, есть и случайно пострадавшие, есть. С ними разберутся. А главное-то всё же по острой необходимости международного и внутреннего нашего положения – укрепить диктатуру пролетариата. Перевести сельское хозяйство с капиталистического частного пути развития на коллективные – кооперативные формы. А как переведёшь, если кулак сопротивляется. Прячет хлеб. Создает условия голода. Вздувает на хлеб цены. Убивает сельских активистов. Давно ли у нас под Вологдой кулаки в куски изрубили селькора… А сколько они скота извели, чтоб не сдавать государству? А как они цепляются мёртвой хваткой за собственность. Как после революции, завладев порядочными кусками земли, стали быстро богатеть и прижимать бедноту? Нет, ребята, что ни говорите, что ни думайте, а великий перелом – правильный перелом…
В эту минуту Охрименко повернулся на другой бок и захрапел еще громче. Судаков насторожился. А, впрочем, чего он сказал особенное? Не секрет, не тайну выдал, если этот Охрименко и подслушал. Коснырев привстал на постели, спросил:
– А скажи, товарищ Судаков, как в других-то странах? Почему задержка, почему нет революции? А если произойдет, так ужели так же будут высылать?
Сначала ответил ему Быков:
– Куда там высылать? Там ни северных лесов, там ни Урала, ни Сибири…
– После будет видней, – задумчиво сказал Судаков. – Это ещё проблема будущего. А может быть и такое дело: наша советская держава станет мировой крепостью для всего угнетённого человечества. Мы будем такой силой, с таким надёжным тылом и таким сочувствием трудящихся масс всех стран и народов, что там революции будут совершаться легче. Из нашего опыта там сделают свои выводы, применительные к обстановке и прочим условиям. Ленин большие надежды возлагал на угнетённых народов Востока. Вырвутся они на простор из когтей хищных колонизаторов – тогда, знаете, какой перевес будет на стороне мировой революции?.. А ведь им легче будет вставать на путь свободного развития, поскольку у них уже есть такой благожелательный и верный союзник и помощник, как СССР. Это понимать надо.
– Ты, товарищ Судаков, понятно объясняешь. Тебе бы избачом быть… – сказал Коснырев. – Видать, поучен немало.
– Чудак ты, Петька, – одёрнул Коснырева Быков, – у человека две «шпалы» в петлице, а ты его избачом!.. Он поди-ка жалованье за четырёх избачей получает и обмундирование готовое.
– Не в этом дело, ребята, – сухо проговорил Судаков и усмехнулся, увидев, как по лицу Охрименки ползали вперегонки крупные рыжие тараканы. Охрименко лежал не шелохнувшись, похрапывая. – А учился я, ребята, тоже немного, – продолжал Судаков. – Кончил Череповецкий техникум, да два года совпартшколы. Думаю, ребята, о вузе, да как вырвешься из этого учреждения?.. В ГПУ не так просто: попал – служи, пока ноги носят. Проштрафился – вылетишь с шумом и треском. А так-то мне неохота…
Тут не вытерпел и всхлипнул то ли во сне, то ли наяву Охрименко и открыл наполненные слезами глаза. Как ему, человеку богатырского сложения, бывшему есаулу казачьему, были не к лицу эти непрошеные, но простительные слёзы, мутные, мелкими горошинами скатывающиеся в рыжую, надвое развёрнутую бороду.
– Прошу прощения, гражданин начальник, я всё сквозь сон слышал, что вы тут балакали. Всё слышал…
Он поднялся. Сел на пол, протянув вдоль широких сосновых половиц ноги. Смахнул рукавом слезы.
– Может, я не так скажу, извиняй тогда, гражданин начальник. Ленина я уважаю, как никого на свете. Это силища русского народа и мирового пролетария, я так понимаю… Может, я не так скажу, но по-своему верно. Я, хоть и куркуль, согласно постановления сельрады, но душа во мне расколота на несколько частей, и в одной части есть, застряло что-то хорошее… Я скажу про Ленина. Во всех бы городах ему самые лучшие памятники…
Охрименко умолк. Молчали и оба милиционера, недоуменно поводя глазами то на Судакова, то на бывшего казачьего есаула.
После непродолжительного молчания Охрименко заговорил снова:
– И насчет кровавости и бескровности событий и всяких потрясений я вот что скажу. Без смертоубийства нельзя. Так уж испокон веков и мир весь построен, и человечество устроено, что ни у каких животных, птиц, и даже насекомых одной и той же породы, разве кроме ненасытных щук, нет такой вражды между собой, а подчас и жажды крови, как у людей… Я тоже кое-что читывал. Знаю. Задолгонько до революции городское училище окончил. В армиях в той и другой поднатолкался… Знаю, знаю… Реки кровавые от войн и революций. А вот когда присоединимся окончательно к большинству, то есть все умрём, тогда и узнаем затишье… Давно известно, хоть попы и поют «друг друга обымем…» Но объятия-то такие получаются, что кто-то кого-то душит. Полное согласие бывает только на кладбище!..
– Силён! – не вытерпел и воскликнул Коснырев. – Силён!..
Судаков встал с постели, придвинулся к Охрименке.
– Дай, Охрименко, вашего украинского тютюна. Расстроен я что-то и не спится.
– На. Верти-крути. Крепкий. По-вашему – самосад…
Судаков, приняв из его руки кисет, почувствовал в нем что-то тяжёлое. Засунул руку и вместе с щепоткой табаку вытащил георгиевский крест, чистенький, без ленты.
– Ого! Охрименко! – И бережно держа перед собой крест, осмотрел его с обеих сторон. Третья степень. Значит, это не единственный был у есаула.
Судаков спросил:
– За что такая награда?
– Грешен, да не всякому владыке каюсь! – ответил коротко Охрименко и добавил: – Простите, моя это память. Берегу.
Быков и Коснырев испуганно переглянулись. Черт бы побрал этого Судакова. По молодости-глупости готов в одной избе рядком с царским генералом спать. Кто его знает, что это за фрукт – рыжая борода!.. Кулак! И этого немало…
– Ковырните поглубже, там в кишени, то бишь в табачнице, ещё что найдёте…
Судаков снова засунул руку в кисет и достал орден Красного Знамени.
– Н-да!.. – изумился Судаков. – А это?..
Охрименко взял из его рук орден, прижал к груди, поцеловал и, завернув в носовой платок, спрятал в карман штанов.
– А это, – ответил он, – сами догадывайтесь, ничего не скажу… Будет время – правда восторжествует. Нацеплю его на грудь, как получу освобождение от переселения. Поеду на Украину, приверну в ваше ГПУ и скажу: «Вот, товарищ (а не гражданин) начальник Судаков, я поехал по справедливости в свою станицу. И дай мне бог мудрость царя Соломона, кротость царя Давида, дабы не применить мою самсоновскую силу к обидчикам моим… Я всё, всё отдавал. Возьмите!.. Только оставьте у себя в колхозе… Горы сворочу». И слушать не хотели. – На север!.. И, каюк!..
Охрименко лёг. Отвернулся. Судаков заметил, как его могутные плечи слегка вздрагивали от рыданий. До сна ли тут? Быков погасил лампу. Иначе не уснёшь. Спал ли Судаков, он и сам того не знает. Что-то вроде бы кошмарное снилось, но и слышался каждый шорох в избе сельского исполнителя. За полночь прокричал где-то первый петух, с ним, строго и правильно чередуясь, перекликнулось несколько собратьев. Судаков тихонько встал, надел шинель и, пользуясь карманным фонариком, отправился вдоль села к общественным зданиям посмотреть, как почивают спецпереселенцы. И что за чудеса?! Что за наваждение?! Не сразу догадавшись и поняв, в чем дело, Судаков даже испугался: в здании школы – ни души, в магазее – тоже, на маслодельном заводе – пусто. Только специфический запах, запах людской тесноты напоминал, что тут еще недавно было полно народа.
В конце села бродили двое сторожевых с дробовиками.
– Кого ищете, товарищ начальник? – спросил один из мужиков.
– Куркулей ищу.
– Ха! – засмеялся освещенный фонариком мужик, поправляя на плече тульскую дробовку. – Они все, товарищ начальник, по избам разведены. Население сжалилось, в теплынь пустило. Там отдохнут божески. Всё спокойно. Кони на месте, возы тоже. Беглых нет. Мы, пожалуй, уйдем. Никаких происшествиев не предвидится…
Наутро спецпереселенцы подкармливались пшенной и гречневой кашей, сваренной из «походного» запаса, что имелся в достатке в их обозе. Киргизы, купив у единоличников двух захудалых лошадей, прирезали их. Но вот беда: никто в Оларёве из местных жителей в жизни не ел конину, и никто из них не дал ни единого горшка киргизам «запоганить» лошадиным варевом. Сам предсельсовета вмешался в это дело и дозволил варить конину в банях, сразу в четырёх больших чугунных котлах, в которых обычно согревали по субботам воду. Так или иначе, все были сыты, а главное – выспались и теперь могли идти дальше.
– Орудуй, Охрименко, выстраивай людей.
– Есть, выстраивать! – отозвался бывший есаул на приказание Судакова.
Когда колонна построилась вдоль села, Судаков, подтянутый, с ремнями крест-накрест, прошёл вдоль строя и встал посредине, решив сделать предупреждение:
– Граждане! Предупреждаю. Впредь ночевать только в отведенных местах. Сегодня вы нарушили порядок. А всякие нарушения могут вызвать неприятности. Имейте это в виду. Своевольничать не-позво-ли-тельно!.. На первый раз предупреждаю. И если не было принято мер строгости, то только потому, что местное население оказалось жалостливым к вам и гостеприимным. Охрименко, ты что-то хотел сказать?
– Я, да, хотел словцо к этой бражке молвить… Хлопцы!.. Громодяна, видайте, що як скорийше добэрэмся до миста, то нам же гарно будэ. А ми брэдэм, як ленивые волы в упряжке цоб-цобе. Не гоже так!.. Потрибно шагать швидко, солдатским шагом. Шлях до уездного Кадникова-города добрый, не вязкий.
Желая подчеркнуть свою есаульскую военную грамотность и показать себя сведущим в вопросах военной шагистики, Охрименко не преминул заметить, что при государе-императоре солдаты делали по семьдесят пять аршинных шагов в минуту, а скорым шагом – то и все сто двадцать.
– А вы, хлопцы, шагаете, будто жинки на сносях. Гоже ли так?
Из колонны вырвался голос:
– Пан есаул Охрименко, тоби то просто в санях шагать…
– Шалюпа! Нэ пэрэчь! Комендант и гражданин начальник, нас сопровождающий, знает, кого брать себе в помощники. Гражданин начальник, дозвольте вести?
– Ведите, – сказал Судаков и пошел к саням.
– Колонна! Слухай мою команду. На пр-рав-в-во!.. Прямо, за конным милиционером, шагом ар-рш!..
Всё население Оларёва, хоть и не первый раз видело спецпереселенцев, высыпало от мала до велика на улицу. И были всякие суждения и разговоры.
– У нас пустых мест много, обживутся…
– Страдать идут…
– Не страдать, а трудиться. Вот бы так-то и наших кой-кого пощипать не грех.
– Доберутся и до наших…
– А здешних кулаков, говорят, на юг будут высылать.
– Этого не хватало! Они там растолстеют…
– А где у нас кулаки? Осталась одна середняцкая верхушка да твёрдозаданцы. Обложили их дополнительными налогами, а они со своим «твёрдым заданием» часто и справиться не могут. Кулаки настоящие – те уже смылись, ищи их, где пристроились.
– Найдём, – сказал сельский исполнитель, сверкая начищенной медной бляхой, прицепленной верёвочкой к пуговице. – Найдём. Всех кожевников, маслозаводчиков, закупщиков, торгашей – всех найдём!.. А куда высылать, власть подскажет…