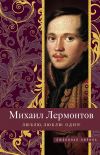Текст книги "Золотая роза"

Автор книги: Константин Паустовский
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Ливенские грозы
Прошло много времени, и пустыня опять напомнила о себе.
В 1931 году я поехал на лето в город Ливны Орловской области. Я готовил тогда к печати мой первый, давно написанный роман, и меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где нет ни души знакомых, где можно сосредоточиться и никто и ничто не помешает работать.
В Ливнах я никогда не был. Городок понравился мне чистотой, множеством цветущих подсолнухов, своими мостовыми из цельных каменных плит и рекой Быстрая Сосна, вырывшей ущелье в толще желтого девонского известняка.
Я снял комнату на окраине, в деревянном ветхом доме. Он стоял на обрыве над рекой. Позади дома тянулся и переходил в береговые заросли наполовину высохший сад.
У пожилого и робкого хозяина – продавца газет в станционном киоске – была мрачная, тощая жена и две дочери: старшая – Анфиса и младшая – Полина.
Полина – слабенькая, прозрачная, – когда разговаривала со мной, все время расплетала и заплетала от смущения русую косу. Ей было семнадцать лет.
Анфиса была статная девушка лет девятнадцати, с бледным лицом, строгими серыми глазами и низким голосом. Она ходила в черном, как послушница, и почти ничего не делала по дому, – только часами лежала в саду на сухой траве и читала.
На чердаке у хозяина было свалено много тронутых мышами книг, главным образом сочинений иностранных классиков в издании Сойкина. Я тоже брал с чердака эти книги.
Несколько раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны. Она сидела под крутым обрывом, около куста боярышника, рядом с хилым подростком, лет шестнадцати, светловолосым, тихим, с большими пристальными глазами.
Анфиса приносила ему тайком на берег чего-нибудь поесть. Мальчик ел, а Анфиса смотрела на него с нежностью и иногда гладила его по волосам.
Однажды я видел, как она вдруг закрыла лицо ладонями и затряслась от рыданий. Мальчик перестал есть и смотрел на нее с испугом. Я незаметно ушел и долго старался не думать об Анфисе и мальчике.
А я-то наивно рассчитывал, что в тихих Ливнах никто не вырвет меня из круга тех людей и событий, о которых я писал в своем романе! Но жизнь тотчас же разбила вдребезги мои наивные надежды. Конечно, ни о какой сосредоточенности, ни о каком покое для работы не могло быть и речи, пока я не узнаю, что с Анфисой.
Еще до того, как я увидел ее с мальчиком, я подумал, глядя на ее измученные глаза, что в жизни у нее есть какая-то горькая тайна.
Так оно и оказалось.
Через несколько дней я проснулся среди ночи от раскатов грома. Грозы в Ливнах бывали очень часто. Жители объясняли это тем, что Ливны стоят на залежах железной руды и будто бы эта руда и «присасывает» грозы.
Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнем, то сжимаясь в непроглядную тьму. За стеной были слышны взволнованные голоса. Потом я услышал, как Анфиса гневно крикнула:
– Кто это придумал? В каком это законе написано, что мне нельзя его полюбить? Покажите мне этот закон! Дали мне жизнь, так не отымайте. Он с каждым днем чахнет, как свечечка. Как свечечка! – крикнула она и задохнулась.
– Мать, уймись! – неуверенно прикрикнул хозяин на жену. – Пусть живет, дура, по своему сердцу. С ней не сладишь. А денег я тебе, Анфиса, все одно не дам.
– Не нужны мне ваши проклятые деньги! – крикнула Анфиса. – Я сама заработаю, увезу его в Крым. Может, там он хоть лишний год проживет. Уйду я от вас все равно. Сраму вам не миновать. Так и знайте!
Я начал догадываться, что происходит. За дверью в коридорчике кто-то тоже плакал и сморкался.
Я открыл дверь и при воровском блеске молнии увидел Полину. Она стояла, прижавшись лбом к стене, закутанная в длинную шаль.
Я тихо окликнул ее. Гром расколол небо и, казалось, одним ударом вогнал домишко в землю по самую крышу. Полина испуганно схватила меня за руку.
– Господи! – прошептала она. – Что же это будет? А тут еще такая гроза!
Она рассказала мне шепотом, что Анфиса полюбила всем сердцем Колю, сына вдовы Карповны. Карповна ходит по домам, занимается стиркой. Женщина она тихая, бессловесная. А Коля больной, у него туберкулез. Анфиса нравная, горячая, с ней никто не справится. Она или сделает по-своему, или наложит на себя руки.
Голоса за стеной неожиданно замолкли. Полина убежала к себе. Я лег, но долго прислушивался и не мог заснуть. У хозяев все было тихо. Тогда я задремал. Сквозь дремоту я услышал ленивые раскаты грома и лай собак. Потом я уснул.
Проспал я, должно быть, очень недолго. Разбудил меня сильный стук в дверь. Стучал хозяин.
– Беда у нас, – сказал он за дверью мертвым голосом. – Не взыщите, что обеспокоил.
– А что случилось?
– Анфиса убежала. В чем была. Я пойду на Слободку, к Карповне. Наверное, она туда кинулась. А вы уж, пожалуйста, побудьте с моими. Жена лежит без памяти.
Я торопливо оделся, отнес хозяйке валерьянку. Полина окликнула меня, и я вышел с ней на крыльцо. Не могу объяснить почему, но я знал, что сейчас случится несчастье.
– Пойдемте на берег, – тихо сказала Полина.
– Фонарь у вас есть?
– Есть.
– Несите скорей.
Полина принесла тусклый фонарь, и мы спустились по скользкому обрыву к реке.
Я был уверен, что Анфиса где-то здесь, рядом.
– Анфиса-а-а! – вдруг отчаянно закричала Полина, и этот крик почему-то напугал меня. «Напрасно она закричала! – подумал я. – Напрасно!»
Молнии полыхали за рекой, уже обессиленные и тихие. Гром едва докатывался. В кустах на обрыве шуршали капли.
Мы пошли вниз по течению реки. Фонарь чуть светил. Потом прямо над головой небо загорелось от запоздалой молнии, и в ее свете я увидел, что впереди на берегу что-то белеет.
Я подошел к этому белому и нагнулся над ним. Я увидел платье Анфисы и ее сорочку. Тут же валялись ее мокрые туфли.
Полина закричала и бросилась назад, к дому. Я добежал до парома, разбудил перевозчика. Мы сели в дощаник и поплыли, все время пересекая реку от одного берега к другому и вглядываясь в воду.
– Нешто ночью найдешь, да еще при таком дожде! – говорил перевозчик и зевал – сон у него еще не прошел. – Пока не всплывет, все равно не сыщешь. Знать, и красивых смерть не щадит. Вот оно как, милый мой. Разделась, значит, чтобы легче было ей помирать. Ну и девица.
Нашли Анфису на следующее утро около плотины.
В гробу она лежала невыразимо прекрасная, со своими влажными, тяжелыми косами червонного золота и виноватой улыбкой на бледных губах.
Какая-то старушка сказала мне:
– Ты на нее не гляди, милый. Нельзя. Ведь это ж красота такая, что сердце невзначай разорвется.
Но я не мог не смотреть на Анфису. Впервые в жизни я сам оказался свидетелем той безмерной женской любви, которая сильнее смерти. До тех пор я читал о ней только в книгах и слышал о ней. Почему-то мне тогда подумалось, что такой любви больше всего отпущено на долю русских женщин.
На похоронах было много народу. Коля шел далеко позади – боялся родных Анфисы. Я хотел было подойти к нему, но он бросился от меня, свернул в переулок и исчез.
Все было перевернуто на сердце, и я не мог больше написать ни строчки. Пришлось переехать с окраины в город, вернее – не в город, а на станцию, в низкий, темноватый дом железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой.
Незадолго до смерти Анфисы я проходил через городской сад. Около летнего кино сидело на земле множество мальчишек. Они, видимо, чего-то дожидались и трещали, как воробьи.
Но вот из кино появился седой человек, роздал мальчишкам билеты, и они, теснясь и переругиваясь, ринулись в зал.
Судя по моложавому лицу, седому человеку было не больше сорока лет. Он добродушно прищурился, посмотрел на меня, помахал мне рукой и ушел.
Я решил разузнать у мальчишек, что это за чудак. Вошел в кино и просидел полтора часа на старой картине «Красные дьяволята», слушая свист, топанье, возгласы восторга и ужаса и сопенье мальчишек.
Когда сеанс окончился, я вышел вместе с ними и спросил, что это за седой человек покупал им билеты.
Тотчас вокруг меня собрался крикливый мальчишеский митинг, и все более или менее прояснилось.
Оказалось, что седой человек – брат железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой. Он больной, «тронутый мозгами». Получает от советского правительства большую пенсию. А за что – неизвестно. Раз в месяц, в тот день, когда ему приносят пенсию, он собирает всех станционных мальчишек и ведет их в кино.
Мальчишки точно знали, когда придет пенсия. В этот день они с раннего утра толклись около дома Шацкого, сидели в привокзальном палисаднике и делали вид, что очутились там совершенно случайно.
Вот все, что мне удалось узнать от мальчишек. Не считая, конечно, подробностей, не имевших отношения к делу. Например, что мальчишки из Ямской слободы тоже хотели примазаться к Шацкому, но станционные дали им сокрушительный отпор.
Моя хозяйка после смерти Анфисы так и не вставала с постели, все жаловалась на сердце. Однажды к ней пришел врач – Мария Дмитриевна Шацкая, и я с ней познакомился. Это была высокая, весьма решительная женщина в пенсне. До пожилых лет она сохранила внешность курсистки.
От нее я узнал, что брат ее геолог, что он психически болен и действительно получает персональную пенсию за свои научные труды, широко известные и у нас и в Европе.
– Незачем вам здесь жить, – тоном врача, не привыкшего к возражениям, сказала мне Мария Дмитриевна. – Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная слякоть. Да и обстановочка мрачноватая, куда тут работать! Переезжайте ко мне. У меня мать-старушка, брат да я, а квартира при станции в пять комнат. Брат деликатный человек и мешать вам не будет.
Я согласился и переехал к Марии Дмитриевне. Так я познакомился с геологом Василием Дмитриевичем Шацким – одним из будущих героев моей повести «Кара-Бугаз».
В доме было действительно тихо, даже как-то сонно. Мария Дмитриевна весь день пропадала в амбулатории и по больным, старушка-мать сидела за пасьянсом, а геолог редко выходил из своей комнаты. С утра он прочитывал от доски до доски газеты, потом почти до ночи что-то быстро писал, исписывая за день толстую общую тетрадь.
Изредка с пустынной станции доносились гудки единственного маневрового паровоза.
Щацкий сначала дичился меня, потом привык и начал разговаривать. В этих разговорах выяснился характер его болезни. С утра, пока Шацкий не уставал, он был совершенно здоровым человеком и интересным собеседником. Он много знал. Но при малейшей усталости начинался бред. В основе этого бреда лежала маниакальная идея, но развивалась она с неумолимой логикой.
История болезни Шацкого описана в «Кара-Бугазе». Во время геологической экспедиции в Среднюю Азию он попал в плен к белым. Его вместе с остальными пленными каждый день выводили на расстрел. Но Шацкому везло. Когда расстреливали по счету каждого пятого, он оказывался третьим, когда каждого второго – он оказывался первым. Он уцелел, но сошел с ума. Сестра с трудом отыскала его в Красноводске, где он жил в разбитом товарном вагоне.
Каждый день к вечеру Шацкий ходил на ливенскую почту и сдавал заказное письмо в Совет Народных Комиссаров. По просьбе Марии Дмитриевны, начальник почты эти письма в Москву не отправлял, а возвращал ей, и она их сжигала.
Меня интересовало, что пишет Шацкий в этих своих донесениях. Вскоре я это узнал.
Как-то вечером он вошел ко мне, когда я лежал и читал. Мои туфли стояли около койки, носками к середине комнаты.
– Никогда так не ставьте туфли, – сердито сказал Шацкий. – Это опасно.
– Почему?
– Сейчас узнаете.
Он вышел и через минуту принес мне лист бумаги.
– Прочтите! – сказал он. – Когда кончите, то постучите мне в стенку. Я приду и, если вы чего-нибудь не поняли, объясню.
Он ушел. Я начал читать:
«В Совет Народных Комиссаров. Неоднократно я предупреждал Совет Народных Комиссаров о приближении грозной опасности, сулящей гибель нашей стране.
Всем известно, что в геологических пластах заключена мощная материальная энергия (как, например, в каменном угле, нефти, сланце). Человек научился освобождать эту энергию и использовать ее.
Но мало кто знает, что в этих же пластах спрессована и психическая энергия тех эпох, когда эти пласты слагались.
Город Ливны стоит на самых мощных в Европе толщах девонского известняка. В девонский период на земле только что зарождалось сумеречное сознание, жестокое, лишенное малейших признаков человечности. Тусклый мозг панцирных рыб был тогда преобладающим.
Эта зачаточная психическая энергия сконцентрировалась в моллюсках-аммонитах. Окаменелыми аммонитами буквально насыщены пласты девонского известняка.
Каждый аммонит – маленький мозг того периода и заключает в себе огромную и злую психическую энергию.
За много веков люди, к счастью, не научились освобождать психическую энергию геологических напластований. Я говорю «к счастью» потому, что эта энергия, если бы ее удалось вывести из состояния покоя, погубила бы всю цивилизацию. Люди, отравленные ею, превратились бы в жестоких зверей, и ими руководили бы только низменные, слепые инстинкты. А это означало бы гибель культуры.
Но, как я уже неоднократно сообщал Совету Народных Комиссаров, фашисты нашли способ развязывать психическую энергию девона и оживлять аммониты.
Поскольку самые богатые толщи девона лежат под нашими Ливнами, то именно здесь фашисты и собираются выпустить эту энергию. Если это удастся, то невозможно будет предотвратить моральную, а затем и физическую гибель всего человеческого рода.
План освобождения психической энергии девона в районе Ливен разработан фашистами до мельчайших подробностей. Как все сложнейшие планы, он легко уязвим. Стоит не предусмотреть пустую мелочь – и план сорвется.
Поэтому, помимо необходимости немедленно окружить Ливны крупными воинскими соединениями, следует дать строжайшее распоряжение жителям города, чтобы они отказались от привычных поступков (поскольку план фашистов рассчитан именно на привычное течение жизни в Ливнах) и совершали бы поступки как раз обратные тем, каких могли бы ожидать фашисты. Поясню это примером. Все граждане Ливен, ложась спать, ставят свою обувь около постели носками к середине комнаты. Впредь следует ставить ее носками к стене. Именно эта частность, возможно, не предусмотрена планом, и от такого, в сущности, пустяка он будет сорван.
Должен добавить, что естественное (правда, ничтожное) просачивание психической заразы из пластов девона в Ливнах приводит к тому, что нравы этого города гораздо грубее, чем в других такого же размера и типа городах. Три города стоят на толщах девонского известняка: Кромы, Ливны и Елец. Недаром о них существовала старая поговорка: «Кромы – всем ворам хоромы, Ливны – ворами дивны, а Елец – всем ворам отец».
Эмиссаром фашистского правительства в Ливнах является местный аптекарь».
Теперь мне стало ясно, почему Шацкий повернул мои туфли носками к стене. Вместе с тем мне стало жутко. Я понял всю непрочность спокойствия в семье Шацких. Каждую минуту можно было ждать взрыва.
Вскоре я заметил, что эти взрывы случались не так уж редко, но мать Шацкого и Мария Дмитриевна умели скрывать их от посторонних.
На следующий вечер, когда все мы сидели за чайным столом и мирно разговаривали о гомеопатии, Шацкий взял крынку с молоком и спокойно вылил молоко в самоварную трубу. Старушка-мать вскрикнула. Мария Дмитриевна строго посмотрела на Шацкого и сказала:
– Ты чего чудишь?
Шацкий, виновато улыбаясь, начал объяснять, что именно такой дикий поступок с молоком и самоваром наверняка не предусмотрен фашистами в их плане и потому, конечно, разрушит этот план и спасет человечество.
– Иди к себе! – так же строго сказала Мария Дмитриевна, встала и с сердцем открыла настежь окна, чтобы выпустить из комнаты чад пригорелого молока.
Шацкий, опустив голову, покорно ушел к себе.
Но в свои «ясные часы» Шацкий охотно и много говорил. Тогда-то я и узнал, что он больше всего работал в Средней Азии и был одним из первых исследователей Кара-Бугазского залива.
Он обошел его восточные берега. В то время это считалось предприятием почти смертельным. Он описал их, нанес на карту и открыл в сухих горах вблизи залива присутствие каменного угля.
От Шацкого я впервые узнал о Кара-Бугазе – устрашающем и загадочном заливе Каспийского моря, о неисчерпаемых запасах мирабилита в его воде, о возможности уничтожения пустыни.
Пустыню Шацкий ненавидел так, как можно ненавидеть только живое существо, – страстно и неумолимо. Он называл ее сухой язвой, струпом, раком, разъедающим землю, непонятной подлостью природы.
– Пустыня умеет только убивать, – говорил он. – Это смерть. Человечество должно понять это. Если оно, конечно, не спятило с ума.
Странно было слышать такие слова от сумасшедшего.
– Ее надо скрутить в бараний рог, не давать ей дохнуть, бить ее непрерывно, смертельно, беспощадно. Бить без устали, пока она не сдохнет. И на ее трупе вырастить влажный тропический рай.
Он разбудил во мне дремавшую ненависть к пустыне – отголосок моих детских переживаний.
– Если бы люди, – говорил Шацкий, – потратили на истребление пустыни только половину средств и сил, какие они тратят на взаимное убийство, то пустыня давно бы исчезла. Войне отдают все народные богатства и миллионы человеческих жизней. И науку и культуру. Даже поэзию сумели сделать сообщницей массовой резни.
– Вася! – громко сказала из своей комнаты Мария Дмитриевна. – Успокойся! Войны больше не будет. Никогда.
– Никогда – это ерунда! – неожиданно ответил ей Шацкий. – Не дальше как сегодня ночью оживут аммониты. И знаете где? Около Адамовской мельницы. Пойдемте прогуляемся и проверим.
Начинался бред. Мария Дмитриевна увела брата, дала ему «бехтеревки» и уложила в постель.
Мне же хотелось поскорей закончить роман, чтобы начать новую книгу об уничтожении пустыни. Так появился еще неясный замысел «Кара-Бугаза».
Из Ливен я уехал поздней осенью. Перед отъездом я пошел к прежним хозяевам попрощаться.
Были сумерки. Лед трещал в колеях. Сады почти осыпались, но кое-где еще висели на яблонях сухие розовые листья. В застывшем небе гасло последнее облако, освещенное холодным закатом.
Полина шла рядом со мной и доверчиво держала меня за руку. От этого она казалась мне маленькой девочкой, и нежность к ней – одинокой и застенчивой – заполнила мое сердце.
Из городского кино долетала заглушенная музыка. В домах зажигались огни. Самоварный дымок висел над садами. За голыми ветками деревьев уже блестели звезды.
Непонятное волнение сжало мне сердце, и я подумал, что ради этой прекрасной земли, даже ради одной такой девушки, как Полина, нужно звать людей к борьбе за радостное и осмысленное существование. Все, что угнетает и печалит человека, все, что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть вырвано с корнем. И пустыни, и войны, и несправедливость, и ложь, и пренебрежение к человеческому сердцу.
Полина дошла со мной до первых городских домов. Там я попрощался с ней. Она потупилась, начала расплетать свою русую косу и неожиданно сказала:
– Я буду много читать теперь, Константин Георгиевич.
Она подняла смущенные глаза, протянула мне руку и быстро пошла домой.
Я ехал в Москву в переполненном жестком вагоне.
Ночью я вышел покурить в тамбур, опустил окно и высунулся наружу.
Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было видно. Они больше угадывались по звуку – по тому торопливому эху, которое рождал в их чащах грохот колес. Воздух, будто остуженный на зернистом снегу, веял в лицо запахом подмерзшей листвы.
А над лесами мчалось, не отставая от поезда, дымясь от нестерпимо ярких звезд, осеннее полуночное небо. Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поезда, можно было заметить под ними мгновенные отблески звезд в темной – не то болотной, не то речной – воде.
Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая, свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.
Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже роился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее.
Я пел, высунувшись из окна, какие-то бессвязные слова о ночи, о том, что нет на свете милее края, чем Россия. Ветер щекотал лицо, как распустившиеся душистые девичьи косы. Мне хотелось целовать эти косы, этот ветер, эту холодную родниковую землю. Но я не мог этого сделать и только бессвязно пел, как одержимый, и удивлялся красоте неба на востоке, где проступала очень слабая, очень важная синева.
Я удивлялся прелести неба на востоке, его чистому, слабому сиянию, пока не сообразил, что это занимается новая заря.
Все, что я видел за окном, и весь тот хаос радости, что бился в груди, соединились непонятным для меня образом в решении – писать, писать и писать!
Но о чем писать? В тот миг для меня было безразлично, вокруг чего соберутся, к какой теме будут притянуты, как магнитом, мои мысли о прелести земли, мое страстное желание оградить ее от истощения, чахлости и смерти.
Через некоторое время эти мысли вылились в замысел «Кара-Бугаза». А могли вылиться и в замысел какой-нибудь другой книги, но обязательно наполненной тем же главным содержанием, теми же чувствами, что владели мной в то время. Очевидно, замысел почти всегда исходит из сердца.
С тех пор началась новая полоса жизни – так называемое «вынашивание» замысла, вернее – наполнение его реальным содержанием.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!