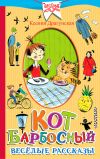Текст книги "Туда нельзя. Четыре истории с эпилогом и приложением"

Автор книги: Ксения Драгунская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
– Прямо и не знаю, – пригорюнилась бабуля, как будто для того, чтобы дать человеку на три минуты мобильный, требовались какие-то особые знания. – Батюшка главу администрации с днем ангела поздравлять уехал, сперва официальное поздравление, потом банкет, сам понимаешь, быстро не будет… Голодный небось? А мы с тобой сейчас делом займемся. Кошек у нас на заднем дворе развелось, очень воняют, а матушка на восьмом месяце, токсикоз… Сейчас пойдем с тобой, я приманю, они меня знают, а ты их в мешок с камнями, я и мешок прочный, и камни-то приготовила уже, в мешок с камнями и задами-задами, чтоб никто не видал, на речку… А я тебя кашей накормлю.
Секунд тридцать Буйвидас переваривал это заманчивое предложение, глядя с высоты своего роста на голову в благочестивом белом платочке. Это в какой книжке, что в школе читать заставляли, пацан бабку топором по чайнику угостил?
– Да отвянь ты, короста! – сказал Буйвидас и пошел прочь.
Пересчитал оставшуюся в карманах мелочь и, когда ноги стали заплетаться от усталости, сел в маршрутку и через полчаса оказался в ненавистной и страшной Москве.
Позвонить никто не давал, хоть плачь. Буйвидас понимал, что в Москву стекается много шантрапы и жулья и люди привыкли бояться друг друга и не верить. И все равно обидно было.
В закоулках длинного подземного перехода услышал музыку – чудно! Пошел на звук. Женщина играла на скрипке, а некоторые прохожие клали деньги в раскрытый футляр, кто мелочь, а кто и бумажку. Музыка понравилась Буйвидасу, он стоял и слушал, задумав попросить у женщины позвонить – она наверняка добрая, злой человек не может играть такую красивую музыку, а то, что женщина хмурится, – так это от старания. Поди вот поиграй на скрипке, это только кажется, что легко! Дождался, когда женщина опустила скрипку и стала пить из термоса, и рассказал ей про свое жесткое попадалово. Женщина хмурилась. Достала мобильный. Долго в нем ковырялась, подняла глаза и сказала Буйвидасу адрес московского представительства его родной губернии.
– Иди туда, обязаны помочь.
Буйвидас принялся благодарить.
– Стольник возьми. – Она кивнула на скрипкин футляр. – Два возьми.
«Хорошая какая, – думал Буйвидас, – верняк, приезжая. Москвички такие не бывают».
Ступенечки, ведущие к двери представительства малой родины бедняги Буйвидаса, были средь бела дня огорожены решеткой, решетка заперта.
«Ё! – Буйвидас забеспокоился о родной губернии. – Может, стряслось чего? Доигралось начальство? Упразднили, а то и слили с кем, для оптимизации?»
О приемных и неприемных часах он даже не подумал.
Хотелось есть, пить, присесть, умыться, в сортир… Все в Москве стоило денег. И очень хотелось позвонить домой.
Буйвидас присел на лавочку в сквере. Наискосок через сквер шагали два совсем молодых парня с упряжкой мелких собачонок, жевали на ходу и смеялись.
– Пацаны, дайте мобилу, домой позвонить, – попросил Буйвидас.
Парни переглянулись, достали из бумажного пакета гамбургер, протянули Буйвидасу и удалились танцующими походками.
«Пидоры ведь», – смотрел им вслед Буйвидас. Но гамбургер съел.
Буйвидас не знал, что не во всех церквях предлагают убивать кошек за тарелку каши. Не знал, что есть церкви, где и помогут, и накормят или просто скажут, где переночевать. Даже переговоров вести не надо – бывают церкви, где прямо в прихожей висят объявления «К сведению бездомных граждан». Ведь бездомный, как ни крути, тоже гражданин нашей большой и дружной страны.
Когда он задремал от усталости, из внутреннего кармана куртки вытащили паспорт…
Каюк…
Буйвидас проболтался в Москве трое суток и понял – здесь все боятся друг друга.
Никому ни до кого нет дела.
Половина уличных московских попрошаек – рабы, половина – мошенники. Случайному человеку, реально попавшему в беду, среди них не место – убьют. Или мошенники, или «смотрящие» при рабах.
В полицию обратиться – тоже тема. Знаем. Плавали.
Хоть топись или вешайся.
«Трое суток в Москве едва не стали для Буйвидаса полным звездецом» – наверное, примерно так бы выразился какой-либо молодой автор из Буйвидасовых уральских земляков…
Амор Каритас подобрала Буйвидаса на невольничьем рынке возле Мытищ – увидела в толпе мужиков из Средней Азии высокого и белобрысого, выделявшегося, как выделяется потерявшийся породистый пес из всей бродячей стаи.
Амор съехала на обочину и окликнула его через окошко. Он подошел, заглянул, наклонившись.
– Что случилось? – спросила Амор.
– Уважаемая, дайте по мобильному домой позвонить, – произнес бедняга намозолившую язык фразу.
Потом он с изумлением вспоминал, что Амор включила аварийку, посадила его рядом с собой, дала телефон, но даже не заблокировала двери.
Буйвидас объяснял жене случившееся, стараясь не материться при чужой женщине, от этого получилось дольше, потому что приходилось подбирать слова, а Амор все слышала. Выходило, что возвращение на родину в ближайшем будущем уральскому горемыке не светит. Когда он, шумно, протяжно вздохнув, протянул ей мобильный, Амор сказала:
– Могу отвезти вас в одно безопасное бесплатное место, перекантоваться сколько надо. Подумайте.
Тут и думать было нечего.
– Вы по хозяйству умеете? – спросила она.
– Вроде не безрукий.
Она уже включила левый поворотник и смотрела налево, чтобы влиться в поток.
– Только сначала вам придется заехать вместе со мной в деревню под Переславлем, там у знакомых праздник.
Что за Переславль такой? Где это?
– Придется так придется, – с достоинством ответил он.
И поехали с ветерком – Амор открыла все окна в машине, Буйвидас понял, что воняет, мучительно стеснялся и молчал все полтора часа, что ехали до детского праздника.
Въехали в распахнутые ворота на участок с соснами и чистой травой. Топилась баня. В беседке накрывали стол с самоваром.
Тут и там мельтешили разновозрастные дети, некоторые, и пацаны, и девчата, были на удивление красивы. Глаз не отвести. Большая бревенчатая изба со всех сторон оклеена, обвешана, окутана, украшена детскими рисунками.
– Сегодня праздник детского творчества, – объяснила Амор. – Его проводит мой большой друг, художник-кукольник Николай. Это его дом. А вот и хозяин!
Буйвидас увидел хозяина и испугался – заразился, что ли, от гамбургера пидорского? Пятьдесят с лишним лет прожил на свете Буйвидас и никогда не обращал внимания на мужиков, вернее, не отличал красивого мужика от некрасивого. Пофиг было. А тут прямо обалдел, увидав хозяина в льняной латаной рубахе и тертых джинсах – богатырского телосложения, уж никак не меньше ростом, чем сам Буйвидас, смоляная бородища начинается прямо от высоких скул, а глаза карие, теплые, смеющиеся и грустные одновременно.
– Здравствуй, светлая моя, ненаглядная! – Хозяин поцеловал Амор в плечо, поручкался, не задавая вопросов, с Буйвидасом, и стали втроем выгружать из багажника коробки со сладостями и фруктами.
Даже прожив безмятежно уже несколько месяцев на Огороде, Буйвидас вспоминал дни в деревне под Переславлем как счастливейшее время. Парился в бане, купался в мелкой быстрой речонке с чистым песчаным дном, разок сходил по грибы: полчаса – и ведерко подосиновиков, помогал по хозяйству, сидел вместе со всеми за столом, слушал шутки и умные разговоры, которых большей частью не понимал, но было интересно. Гости у Николая не переводились, день и ночь топилась баня, жарились на мангале шашлыки, гудел самовар. Собирались и москвичи, и ярославские, и вологодские – эта деревня, полная художников, поэтов и ученых, была им вместо дачи. Кто б сказал, что деревня может быть такая, ни за что бы не поверил! Николая тут называли просто Борода, а он всех вьющихся вокруг женщин – Манями или Дусиками, чтобы не запутаться в именах. И Амор тоже называл то Маней, то Дусиком, а то вдруг – Агафья Тихоновна, и все смеялись. Буйвидас понял, что это не настоящее имя, а погоняло, кличка, прозвище, но, наверное, необидное, потому что Амор улыбалась в ответ. Гости уезжали и приезжали, спиртные напитки лились рекой, но никто не орал, не матерился, не лез драться, а бабы не закатывали пьяных истерик. Все были просто веселые. Какие-то другие люди, другая порода, не те, к каким Буйвидас привык. Даже москвичи были другие, не похожие на тех, кто встречался бедняге на улицах – здешние всё порывались собрать ему деньги на билет домой, а узнав, что украден паспорт, принимались искать пути скорейшего восстановления документа.
– Владимир поедет на Огород и проведет там столько времени, сколько необходимо, пока за ним не приедут родные со всеми бумагами, – твердо сказала тогда Амор.
(Буйвидас прожил на Огороде почти год – была волокита со справками, потом хворала жена, потом рожала младшая невестка, потом не могли оторваться от работы сыновья…)
– Все нянчишься со своими «огородниками»? – язвительно спросил носатый дядька с детским прозвищем Мося. – Авось поможет?
Амор без улыбки посмотрела на него:
– Долго объяснять.
Буйвидас смотрел на хозяина, на этого самого Колю-Бороду, в вытертых джинсах и латаной рубахе, на его руки по локоть в саже и понимал теперь, что никакой он не красивый – ну подумаешь, высоченный и бородища… То, что так поразило Буйвидаса, когда увидел Колю первый раз, была свобода. Свобода и есть красота, а взять ее негде: или есть она в человеке, или нет. Никогда в жизни не видел Буйвидас таких свободных людей… И надо же – в каждой закорючке, в сучке, в шишке видит этот чудак душу, жизнь, рожицу, существо, лесовика, бабку-ёжку, чертяку, кикимору, не пойми кого… Вся терраса Колиной избы была заставлена его «куклами» и завалена материалами для будущих существ.
За завтраком Буйвидаса послали в избу что-то принести, и он поразился бардаку и бедности. А еще сильнее поразился, глядя на портреты и фотографии необыкновенно красивых женщин. Так и стоял, таращился, не услышал, что вошел Борода и усмехнулся:
– Красивые? Мамочки наши…
И под пивко («надоели мне все, давай, мужик, посидим в тишине») рассказывал Буйвидасу, что смолоду был крайне охоч до бабьей красоты и бабы до него охочи были, однако ни одна не выдерживала безалаберности, бардака и бедности.
Семеро необыкновенно красивых детей от трех законных и трех – так… Видеться с детьми не всегда дают, спасибо, сюда на несколько дней отпускают, когда праздник… Буйвидас скумекал, что все это безудержное веселье и толпа гостей круглое лето – от кромешного одиночества. Ему стало жалко этого красивого, щедрого, веселого с виду и такого грустного, несчастливого человека. Захотелось рассказать про свои обломы с бабами, но не знал как, потому что никому никогда не рассказывал. Хотел тоже спросить, что это за Огород такой и кто такая Агафья Тихоновна, но постеснялся.
– Забей, Колян, – только и смог сказать.
Когда уезжали, Борода провожал за ворота, говорил Буйвидасу:
– Оставайся тут, мужик. Какая разница, где время коротать? Доживем с тобой до белых мух, а там видно будет…
– Вы до белой горячки тут доживете, – строго сказала Амор.
– Ты, Агафья Тихоновна, как замуж за меня надумаешь – эсэмэску брось! – Борода, наклонившись, заглядывал в окошко машины, улыбался, а глаза печальные.
– На фейсбуке запощу. Пристегивайтесь, Владимир, дорога дальняя.
И долго, долго под молчаливую (без слов) красивую музыку ехали по холмам и равнинам, мимо пустых деревень, и Буйвидас дивился красоте и заброшенности средней России, которую раньше никогда не видел, все смотрел и смотрел в окно. «Земли-то, земли сколько пропадает… А в войну, небось, столько народу за нее полегло…»
Ехать было спокойно, хорошо было молчать и ехать под музыку, как будто он смотрел какое-то интересное кино про себя…
И Буйвидас никогда никому не говорил – ни про художника, ни про Агафью Тихоновну, ни про «долго объяснять», ни про дорогу под музыку. Ни в Огороде не говорил, ни потом, дома…
– Литовец? – спросил Белогнутов, услышав фамилию Буйвидаса.
– Русский, – огрызнулся тот. Привык, что докапываются. – Фамилия такая.
– А ты не стесняйся. Литовцы крутые. Это счас с гулькин нос странишка, а так-то очень крутые. Великое княжество Литовское, хоть слыхал? Твои, между прочим, эти края триста лет под собой держали.
Буйвидас оглянулся, словно надеясь увидать вокруг каких-то «своих». Своими были мужики из горячего цеха и семья. Никаких других своих быть не могло.
– А что ни слова по-литовски, не твоя вина. Предков, небось, в сороковом в теплушках за Урал командировали?
«Отвали», – чуть было не схамил по привычке Буйвидас, но вдруг не схамил. Промолчал неожиданно.
Никаких рассказов о своих предках он припомнить не мог.
Вся материна родня была русская, местная, уральская, а с отцовской стороны… Тоже русская. Только какой-то двоюродный дядя или дедушка в жилетке… В жилетке… Прадедушка, прадядя… Жилетка с вышивкой… Усатый дедок откладывает в сторону короткую трубку, сажает на колени… Говорит непонятное… Ажуолюкас, лапинюкас… Смеялся от этих слов, а дедок повторял…
– При Советах-то просто было, – развспоминался тем временем Белогнутов. – Купил билет за семь рублей – и поездом в Вильнюс. Хороший город. Любили мы в молодости это дело. Даже слова некоторые помню. Лабутис. Приветик, значит. Ачу – спасибо. Пянас – молоко. Ну и блины картофельные, конечно… Лучше нигде не едал.
Буйвидас озадаченно замолчал. В белобрысо-седой голове его, которая располагалась довольно далеко от земли, закружился хоровод непонятных смешных словечек и кружился несколько дней…
…Полол огород, комары жрали, заразы. Тронули за плечо. Выпрямился. Белогнутов молча протянул спрей от насекомых. За спиной у Белогнутова, подальше, в стороне от тропинки, рос любовно обложенный камушками дубок. Буйвидас завис, глядя на деревце.
Белогнутов протягивал баллончик со спреем.
Буйвидас таращился на дубок.
– Чего ты? – спросил Белогнутов. – Дубочек наш, посадили вот…
Буйвидас молча тыкал пальцем в дубок и вдруг обалдело сказал:
– Ажуолюкас.
Белогнутов и Буйвидас подружились.
⁂
Контуженый спецназовец, бывший школьный учитель по ОБЖ Генварёв – в семейном плане человек вполне благополучный: действующая жена и вменяемая дочь держат во Ржеве магазин нижнего белья и купальников. При каких обстоятельствах попал в Огород Генварёв – никто не знает, вероятно, однажды приехал на рыбалку, познакомился с постояльцами и с той поры ежегодно проводит на Огороде несколько месяцев, как в санатории, а то и зимой зависает на подледной рыбалке, помогает по хозяйству, следит за общественным порядком и может весьма чувствительно осадить, если кто задумает безобразничать. Жена и дочь Генварёва передают для Амор Каритас гостинцы – купальники расцветок «взбесившейся лососины» с непременными стразами. Напутствуемые сдержанным вздохом, пляжные наряды перекочевывают то к молодой попадье, то к начальнице почты, в амбулаторию или к сотрудницам сельской администрации.
Генварёв никогда не говорит о войнах, горячих точках и спецоперациях. Не любит смерть. Его интересует животрепещущая жизнь – вечно он то спасет от кровожадного аиста котят, то подберет и выпестует выпавшего из гнезда щегленка, а однажды принес полную корзину избавленных от утопления щенков и подъехал к Амор с предложением взять на Огород.
– Ну что, хорошие мои, – сказала Амор, обращаясь не то к щенкам, не то, по своей привычке, называя во множественном числе единственного собеседника-постояльца. – Это что же у нас теперь, псарня будет?
Сама при этом вынимала щенков по одному из корзины, носом трогала мокрые щенячьи носы и улыбалась, как девочка.
– И Абырвалг у нас уже есть, и тетя Мотя…
Абырвалг был крупный кастрированный кобель, этакий шебутяга, раздудуй и бестолочь, с которым, до утраты им причиндалов, не было никакого сладу, а тетя Мотя – рыжая брехливая сучонка, ласковая и хитрющая.
– Ладно, оставим на месяцок, подкормим, придадим товарный вид, а там видно будет.
В маленькой деревянной церковке на берегу служили всегда, а в старом огромном полузаброшенном храме на горе – по особо торжественным дням или оптом венчали всех желающих.
Надо было видеть Генварёва, выбритого тщательнейше, отчего еще заметнее был шрам на перебитом носу, принаряженного, с корзиной щенков на крыльце храма.
– Совет да любовь! Щеночка на счастье, – командовал батюшка, Генварёв вынимал из корзины пузатого щенка, украшенного цветной ленточкой, и нарядный ребенок лет семи передавал толстуна молодоженам.
Умиление одно, хоть плачь!
Генварёв любит жизнь, ведь только человек, любящий жизнь и ее жителей, может любить готовить и угощать.
Генварёв обожает готовить.
Но не умеет.
Готовит он зверски – плохо протушенные, полусырые свиные уши в апельсиновых корках, холодец из куриных пупков, а если суп – то просто длинная горячая трава, пахнущая рыбой. Из водорослей, что ли, скомстролил?
Все недожаренное и подгоревшее, как в школьной столовке.
Приготовление этой немыслимой пищи – целый ритуал. Утром Генварёв парится в бане, наряжается в брезентовую робу, на голову натягивает резиновую купальную шапочку, для гигиены, чтобы волосы не попали. Не мужчина, а персик. Без подготовки увидишь – заикой останешься.
И погружается в свою авторскую кухню.
К счастью, он принципиально готовит только на открытом огне, так что хотя бы зимой обитатели Огорода почти совсем не рискуют… А уж с апреля по октябрь, раз в месяц, будьте любезны, из мужской солидарности и чтобы не нервировать контуженого, вся огородная братия хорошенько запасается мезимом, панкреатином и прочими гастрофармами и чапает на ближний край деревни, где в бывшей школе – большой избе с двумя отдельными входами – живут Генварёв и опальный журналист Мухов.
Пришли. Уже издали пахло недожаренным и горелым. В здоровенной кастрюле, похожей больше на бельевой чан, булькал очередной дикий изыск. Большой деревянный стол под сосной Генварёв и Мухов устлали районной газетой «Пламя».
Маркович сел толсто нарезать ноздреватый серый хлеб, вкусноты неописуемой, – это Амор Каритас надоумила подкарауливать на станции хлебовозку из поселка Лесной, где в еле дышащем военном совхозе своя пекарня. Хлеб, крупная соль, зеленый лук длиной с пионера, огурцы – настоящий бобылий пир. Амор убедительно просит не пьянствовать, а выпить помаленьку не возбраняется. Почти никому уже нельзя по разным причинам.
Гомонили и потирали руки, рассаживаясь за столом под сосной, и кто-то спросил:
– А Белогнутов-то где?
– Белогнутов не придет, – сказал Мухов. – У него жена умерла.
– Дела… – покачал головой Буйвидас, и все тоже посочувствовали.
– Враки, – внес ясность Маркович. – У Белогнутова нет жены.
Маркович и Белогнутов не любили друг друга. Оба питерцы, никогда не здоровались и не разговаривали. Стареющего красавца с седыми, в синеву, кудрями, Марковича бесило в тюлене Белогнутове все, даже фамилия. Что это такое – Белогнутов? Белое – это одно, а гнутое – другое. Просто как в поговорке: не сравнивайте широкое с кислым.
– Жены у Белогнутова не может быть по определению, – сказал Маркович.
– Озвучьте, – вежливо попросил мужлан Буйвидас.
Он очень уважал Белогнутова за обширные разнообразные знания, монументальное спокойствие и неконфликтность. Под влиянием Белогнутова с Буйвидасом происходили чудесные перемены. Из хмурого, отчаявшегося бессильной злобой пролетария, загодя знающего, что правды нет и не будет, все равно везде и всегда облапошат, он превращался в основательного крестьянина – немногословного, спокойного, внимательного к земле. Теперь в те моменты, когда прежний Буйвидас полез бы в драку, Буйвидас нынешний, со значением глядя в глаза оппоненту, говорил вежливо и негромко: «Не провоцируйте меня на агрессию».
Буйвидас уважал Белогнутова. И теперь вежливо попросил:
– Озвучьте. Что за определение такое? Половой инвалид? Монах? Пидор? И вам все это откуда известно?
– Дорогой мой, – ласково сказал Маркович, – вам это совершенно ни к чему.
– Кажется, что-то давнее. Какая-то стародавняя кратковременная жена. Или вообще невеста, – поспешил уладить Мухов.
– Дьявол! – взвизгнул Маркович.
Он глубоко саданул ножом по пальцу, порезался. С причмоком облизнул левый указательный и поднял вверх. Текла кровь. Сходу промыли водкой. Марковичу щипало, он тряс всей левой кистью, и выражение лица у него было, как у маленького. Пока Мухов и Генварёв искали допотопный, колесиком, пластырь, залепляли пострадавший член, улизнул Буйвидас. Пошел проведать старшего товарища, уговорить не грустить одному, посидеть со всеми – полегчает.
Наконец расселись, устаканились. Хлебали и нахваливали густое невнятное варево под рюмочку-другую. Разговаривали, как обычно, про гаишников, армейских сержантов, ожоги, ранения, жену и тещу. Про детей, у кого они водились. Мухов рассказал, как ему в восьмом классе привезли вельветовые джинсы «Рэнглер», а он продал их за шестьдесят рублей (деньжищщщи!!!) и устроил для приятелей пир с коллективной потерей невинности. Генварёв рассказал, как в конце девяностых гонял в Тольятти за запчастями для «жигулей», всякий раз едва жив оставался. Акушер Гриша промолчал про то, как, присланный на практику в сельскую больницу Ивановской области, каждую ночь баррикадировал двери и окна на случай нападения женщин.
Стемнело. Ни Белогнутова, ни Буйвидаса не было.
Заговорили о Белогнутове. Это бывает. Небось сто лет назад развелись, разосрались в дымину, а теперь вот вспомнил молодость-то, и кажется, что ангел, а не девушка… Задумались каждый о своем, приумолкли. Стало слышно, что играет радио. Загрустили что-то. У Мухова подозрительно покраснел нос и заблестели глаза. Мало ли отчего может прослезиться взрослый одинокий мужчина? Рюмочка, запах близкой осени, красный осиновый лист на черной воде в дождевой бочке, трогательная мелодия попсовой песенки…
– У меня тост! – Мухов встал. – Все хорошо, – сказал он и увлажненными глазами оглядел своих товарищей. – Нам очень повезло, что мы попали сюда, на Огород. Надо просто ценить то, что дают, радоваться каждой минуте. Жизнь удивительно хороша, и еще столько важного можно и нужно сделать. Будем жить, будем трудиться, надеяться и мечтать, а если вдруг чума или ядерная катастрофа – Генварёв научит нас, как выжить, и мы будем жить дальше, и любовь и счастье найдут нас.
Загомонили, потянулись чокаться, Генварёв пообещал научить…
Выпили, помолчали каждый о своем и решили прогуляться, заодно навестить Белогнутова, поддержать, так сказать, в минуту печали. Взяли фонарики и пошли в теплой темноте по траве и песку. Маркович по пути молча свернул к себе. Навстречу гуляла местная молодежь, и кто-то, сильно акая, пересказывал фильм Джармуша «Ночь на Земле».
В этих краях здорово акают. Аканье заразительно. Даже Буйвидас со своей уральской скороговоркой начал как-то приакивать. Еще в этих краях строят сараи с террасами. Местное ноу-хау. Вдоль длинной стены сарая на южной стороне делают навес, под ним – пространство с грубым дощатым полом и веревки, чтобы сушить травы, кто в них понимает, или белье.
В таком сарае с террасой и двумя маленькими окошками, торцевым и боковым, и постояльствовал Белогнутов. Окошки светились. Все пришли и неловко толклись у двери, глядя на стены, плотно оклеенные всевозможными картами далеких стран и городов, в реальное существование которых верилось слабо.
В сарае сидел на топчане и лил слезы над своим выдуманным ангелом Белогнутов без очков, а домовитый Буйвидас у электроплитки шумно ворошил в сковороде картошку на сале и приговаривал, что вот сейчас мы картошечки поедим, чайку с травками заварим, и жизнь наладится, и все еще впереди…
Утром Маркович пришел к Белогнутову. Дверь была открыта.
В глубине сарая, у торцевого окошка, Белогнутов возился на широком подоконнике с чем-то мелким. Близорукие любят кропотливое.
Согласно деревенской этике, ломиться в открытую дверь не годилось, следовало постучать в косяк. Маркович постоял, разглядывая толстые доски и потрескавшийся дерматин, уже нацелил было костяшки правой руки на косяк, но Белогнутов, не поворачиваясь, буднично и негромко спросил:
– Чего тебе, Морковка?
И это были первые слова, которые Белогнутов сказал Марковичу спустя сорок с лишним лет.
Маркович, престарелый ловелас, вальяжный, измеряющий время в женах («три жены тому назад»), робел, пока шел от своей избушки к сараю Белогнутова. Робел, потому что боялся разговора, боялся раскиснуть, размякнуть душой, но и жаждал этого раскисания. Теперь же, когда Белогнутов назвал его детским прозвищем, раскисание начало сбываться.
– Знал ты, что я к тебе приду? Знал? – шепотом, почти нежно спросил он в широкую спину в клетчатой рубашке.
Белогнутов неопределенно повел плечами и продолжал, не оборачиваясь, возиться с мелкими железяками.
Маркович готовился обняться и поплакать вместе над тем, что жизнь, которую в молодости они жили наперегонки, прошла; девушка, серьезно любимая Белогнутовым и безумно влюбленная в Марковича, умерла, предварительно превратившись в бабушку; все пролетело мигом, «как взмах ресниц», а оба соперника встретились в непонятном деревенском приюте для одиноких мужиков.
– От чего она умерла? – спросил Маркович.
– Надо полагать, от смерти, – спокойно ответил Белогнутов и помолчал. – А смерть наступила от рака желудка. Умерла в Канаде, в хорошей клинике, в окружении детей и внуков, так что не переживай.
Надо было уходить. Глупо стоять так. Рядом росло много лесной малины, она так и лезла в сарай, словно страшилась близких холодов. Кончалось лето, последние перезрелые темные ягоды осыпались на траву. Маркович подобрал ягоду, съел и придумал узнать у Белогнутова, как он здесь оказался. Как, дескать, дошел ты, дружище, до жизни такой, полюбопытствовать бодрым голосом, но Белогнутов спросил первым, по-прежнему равнодушно, не оборачиваясь:
– Турнули детишки-то?
Имея в виду нескольких разбросанных по свету детей Марковича, которым до него не было никакого дела, как, впрочем, и папе никогда не было дела до них. У Марковича и Белогнутова было много общих знакомых, и какие-то слухи о жизни одного недруга то и дело доходили до другого.
Внутри Марковича поднялось знакомое молодое чувство, как тогда, как прежде, когда Белогнутов начинал его дразнить.
– Ремонт, – вздохнул Маркович. – Капитальный. Две квартиры купил, теперь соединяю. Югославы возятся… Ленивые, дети юга… Конца-краю не видно… А санатории все эти осточертели, да и туризм тоже… Я, знаешь, Андрюша, люблю простой деревенский отдых. Милое дело. Как выдастся свободная неделя – за руль и по малым городам России. Да что города! Знаешь, сколько у нас в средней полосе поселков, всех этих Красный Май, Октябрьский, Лесное, где нет вообще ничего, а у женщин глаза как у бездомных дворняжек? Я их так и называю – Найды. Найды вы мои…
– Мудак ты, Лёня, – равнодушно сказал Белогнутов, встал и взял с полки потертый тощий бумажник. – Пошли помянем.
Маркович и Белогнутов пришли на станцию. Лето кончалось, но было еще очень тепло, и окружающий мир только и ждал, как бы услужить желающим выпить на природе. Какие-то просторные пеньки, или заботливо сложенные и позабытые потемневшие бревна, или приступочки, ступеньки, мостки у ручья, неходячий жигуленок с удобным, как стол, капотом – все словно шептало: «Присядь, дружок, выпей на травке, погрейся на солнышке, сливу, сливу с ветки сними, сорви с грядки огурец…»
Маркович и Белогнутов пили водку на мостках у ручья за почтой, закусывали колбасой и хлебом. Маркович расчувствовался, слюняво целовал Белогнутова, просил прощения и клялся, что ничего не было: он увел невесту Белогнутова прямо из загса и они всю короткую белую ночь гуляли по городу и разговаривали. Маркович объяснял невесте, что не любит ее и никогда не полюбит, а выходить замуж от отчаяния за нелюбимого в двадцать-то лет – рано и вообще глупо; с Белогнутовым, педантом и занудой, она быстро заскучает и, порядочная, из хорошей семьи, будет всю жизнь честно тянуть невыносимо тоскливую лямку, испортит себе жизнь, а он, Лёня Маркович, уже осознал свою крайнюю блудливость и не может жениться на такой девушке, чтобы тоже не испортить ей жизнь. Погоди, милая, говорил он, пройдет время, все у всех наладится, мы будем прекрасно общаться, дружить тремя семьями, собираться и петь под гитару песни Визбора. На том и расстались, и не виделись больше никогда…
– Ведь я нарочно попросился при распределении на Север. Какой ты молодец, Андрюша, что нашел ее в соцсетях. Она на меня не обижалась? Не обижалась, точно? Она точно хорошо вышла замуж? Умерла в Канаде? Точно? Ты не врешь? А то, что я тут с тобой не дружил и нос воротил, так это потому, что вину свою большую чувствовал, всю жизнь чувствовал… Я когда тебя здесь увидел… Весь валимидин потом ночью выхлебал… Я ведь сперва чуть ли не спасителем каким-то себя возомнил… А уж потом… С каждым годом все поганее вспоминать было… Вершитель судеб хренов… Эх, Андрюша…
Последнее августовское тепло, мотыльки, дворняжки, весело матерящаяся у магазина малышня и мысли о том, что скоро помирать, умиляли, наполняли пьяного Марковича сладостной печалью.
Маркович расплакался по-настоящему, и Белогнутов приобнял его, протянул большой, как кухонное полотенце, носовой платок с картой мира…
Два крепко подвыпивших предстарика возвращались в Огород, поддерживая друг друга. У двора, где сарайчик Белогнутова, остановились.
– Ладно, – неожиданно трезво сказал Белогнутов и вместо объятий протянул Марковичу руку. – Хорошо, что поговорили. Но ты, Морковка, в гости ко мне не ходи и ничего там себе не фантазируй. Обижаться не обижаюсь, но дружить с тобой не хочу.
Белогнутов вернулся к себе и сел на топчан, глядя на карты. Он любил утром, едва открыв глаза, по-хозяйски оглядеть мир – всё ли на месте? Норвегия, Марокко, Антарктида? Акапулько, ты там как?
Белогнутов так привык к своему жилищу и к Огороду, что почти и не вспоминал, почему оказался здесь.
Белогнутов уселся на топчан поглубже, привалившись к Южной Америке. Никакой ненависти к Морковке уже давно не было, все как-то вылиняло со временем. После скандала в загсе Белогнутов начал полнеть – не помогали ни диеты, ни спорт. Доктора называли это стрессовым ожирением, реакцией организма на сильнейшие переживания. Некоторые резко худеют, а он вот наоборот. Шансы найти пару таяли с каждым годом – кому интересно твое верное, честное, храброе, нежное сердце, если оно бьется под пиджаком шестьдесят четвертого размера? Друзей мужчин он и сам сторонился. Так и прожил с мамой. Единственный верный друг. Мама любила кошек, и то серенький, то рыжик, то черныш не переводились в их маленькой квартире на первом этаже. Зато район зеленый. Мама умерла. Остался кот. Вместе с котом справились как-то, выдюжили…
…Это был очень хороший день.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!