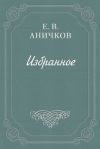Автор книги: Л. Зайонц
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В этой связи мне хотелось бы упомянуть давнюю статью американской исследовательницы Соны Хойзингтон «Иерархия адресатов в „Евгении Онегине“» [Hoisington 1976][64]64
На эту статью мое внимание обратил проф. М. Левитт.
[Закрыть]. Отталкиваясь от ее размышлений, можно прийти к выводу, что в пушкинском романе позиция «имплицитного читателя» (implied reader), к которому повествователь время от времени обращается напрямую, как бы осциллирует между двумя полюсами: один полюс – это, по терминологии Хойзингтон, «пародийный читатель» (mock reader), к которому Пушкин тоже периодически обращается (Гм! гм! Читатель благородный, // Здорова ль ваша вся родня?); другой полюс – это реальные друзья поэта, к которым повествователь также адресуется прямо, как, например, к тому же Баратынскому: Певец Пиров и грусти томной, // Когда б еще ты был со мной, // Я стал бы просьбою нескромной // Тебя тревожить, милый мой. «Имплицитный читатель» – это та самоидентификация, которую текст навязывает (или, скажу осторожнее, предлагает) реальному читателю. С «пародийным читателем» пушкинского романа читатель реальный отождествиться не хочет, с реальными друзьями-читателями – не может, да и, вероятно, тоже не хочет. Тем не менее эти альтернативы важны для организации пушкинского повествования: читатель, к которому обращается поэт, реконструирует свою идентичность, ориентируясь в том числе на реплики, обращенные не к нему. Для Баратынского тоже важно как-то обозначить присутствие друзей в поэтической коммуникативной ситуации. Более того, в известном стихотворении «Мой дар убог…» он сравнивает своего идеального читателя с другом (<…> И как нашел я друга в поколенье, // Читателя найду в потомстве я).
Между тем найти такого читателя удается далеко не всегда. Вспомним, что публика не приняла ни «Домика в Коломне», ни «Повестей Белкина», будучи не в силах понять, что хочет сказать автор. А близкие друзья Пушкина (например, Вяземский и Баратынский, непонятное охлаждение в отношениях с которым наступит несколько позже), судя по всему, понимали эти тексты вполне адекватно. От «Повестей Белкина», писал Пушкин Плетневу, «Баратынский ржет и бьется» [Пушкин, XIV, 133]. Мы любим «Повести Белкина», но до сих пор гадаем, над чем же так «ржал» Баратынский.
5Чтобы завершить тему, вернемся к Дельвигу и проблеме цитации. Примеру с «Элизийскими полями» можно противопоставить другой тип цитат из произведений Дельвига в стихах Баратынского. Во многих отношениях Дельвиг был учителем Баратынского в поэзии, и Баратынский, осваивая традиционную образность, нередко шел по стопам своего старшего друга. Приведу два примера использования Баратынским державинских формул, уже «опробованных» Дельвигом.
Один из этих примеров анализировал В.Э. Вацуро в заметке «Перевод до оригинала» [Вацуро, 27—29], где показано, что заключительное полустишие переводной элегии Баратынского «Подражание Шенье» – венчанным осокой – восходит к державинской оде «Ключ», в первой строке которого есть оборот увенчан осокою. Однако использование этой формулы у Баратынского опосредовано Дельвигом, у которого в стихотворении «На смерть Державина» находим: венчан осокою.
Другой пример был проанализирован автором этих строк [Pilshchikov, 79; Пильщиков 1999, 285—286]. Элегия Баратынского «Водопад», написанная под воздействием одноименной оды Державина, начинается так: Шуми, шуми с крутой вершины, // Не умолкай, поток седой! Все природные аксессуары водопада Баратынский позаимствовал у Державина. Зачин стихотворения повторяет державинскую строку Шуми, шуми, о водопад! Есть в «старшем» «Водопаде» и существительное поток, и эпитет седой. Но еще до Баратынского все эти элементы собрал воедино Дельвиг; он воспользовался державинскими образами в своем лицейском стихотворении «К Фантазии», в котором юный поэт описывает, как воображение ведет его в скалистые горы, Где в бездну с мрачного навеса // Седой поток шумит. Посредником между Державиным и Баратынским снова стал Дельвиг: именно у него появляется словосочетание седой поток, и (как заметил А.Б. Пеньковский) Дельвиг раньше Баратынского опробовал нестандартное расширение глагола с акустической семантикой шуметь в обстоятельственном обороте с общим значением направления движения: шуметь с чего-либо [Пеньковский].[65]65
Ср. также в лицейском стихотворении Кюхельбекера «Песнь лопаря (при наступлении зимы)» (1815): <…> Пусть ручьи шумят с утеса <…> – и ранее у Ломоносова в «Переложении псалма 103» (1749): <…> Лишь грянет гром Твой, <вóды> вниз шумят [Пеньковский, примеч. 2].
[Закрыть]
Многочисленные параллели к этим примерам можно найти у Пушкина, который нередко пользовался державинскими формулами в модификациях Батюшкова. Различие между этими примерами и теми, что рассматривались в первой части статьи, заключается в следующем. В последних примерах цитация принадлежит к области литературного генезиса, тогда как в предшествующих примерах цитаты приобретали телеологическое значение. Если воспользоваться противопоставлением языковых и литературных интертекстов, которое предложил М.Л. Гаспаров, то можно сказать, что у Баратынского в «Водопаде» цитаты из Дельвига являются элементами поэтического языка, а в «Элизийских полях» они становятся частью поэтического текста. «Кружковая поэтика» делит аудиторию на два класса: тех, кто понимает вплетенные в поэтический текст литературные цитаты, и тех, кто воcпринимает факты поэтического текста в качестве фактов поэтического языка.
ЛитератураАлексеев М.П. Незамеченный фольклорный мотив в черновом наброске Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Т. IX. Л., 1979: 17—68.
Боратынский Е.А. Стихотворения; Поэмы; Проза; Письма. Подгот. текста и примеч. О. Муратовой и К. Пигарева. М., 1951.
Вацуро В.Э. Из записок филолога // Русская речь. 1988. № 4: 27—30.
Верховский Ю.Н. Е.А. Боратынский: Материалы к его биографии. Из Татевского архива Рачинских. С введением и примеч. Ю.Н. Верховского. Пг., 1916.
Гаспаров М.Л. Литературный интертекст и языковой интертекст // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 61. 2002. № 4: 3–9.
Дельвиг [А.А.] Неизданные стихотворения. Под ред. М.Л. Гофмана. Пб., 1922.
Кошелев В.А. «Ее сестра звалась Татьяна…» [1987] // В.А. Кошелев. «Онегина» воздушная громада… СПб., 1999: 77—96.
Кушнер А. Заметки на полях: [Баратынский и грамматика; Новая рифма; Современники; Название для книги] // Арион. 2002. № 1 (33): 48—58.
Лотман Ю.М. 1980 – Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1980.
Лотман Ю.М. 1992 – Текст и структура аудитории [1977] // Ю.М. Лотман. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992: 161—166.
Пеньковский А.Б. Из наблюдений над поэтическим языком пушкинской эпохи: 1. «Шуми, шуми с крутой вершины, / Не умолкай поток седой!..» (Е.А. Боратынский. Водопад, 1820) // Художественный текст как динамическая система: Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию В.П. Григорьева (Москва, ИРЯ РАН, 19—22 мая 2005 г.). М., 2006 (в печати).
Пильщиков И. 1994 – О «французской шалости» Баратынского // Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение. Новая серия. [Вып.] I. Тарту, 1994: 85–111.
Пильщиков И.А. 1999 – Отзыв у Баратынского: слово и значение // Язык. Культура. Гуманитарное знание: Научное наследие Г.О. Винокура и современность. М., 1999: 282—295.
Пильщиков И.А. 2004 – О «французской шалости» Баратынского: («Элизийские поля»: литературный и биографический контекст) // Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 2. М., 2004: 61—88.
Пильщиков И. 2005 – О «французской шалости» Баратынского: («Элизийские поля»: литературный и биографический контекст) // Тартуские тетради. М., 2005: 55—81.
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: [В 16 т. М.; Л.], 1937—1949.
РА – Русский Архив. 1866. № 3. Стб. 473.
Тынянов Ю. 1934 – Пушкин и Кюхельбекер // Литературное наследство. Т. 16/18. М., 1934: 321—378.
Тынянов Ю.Н. 1977 – О литературной эволюции [1927] // Ю.Н. Тынянов. Поэтика; История литературы; Кино / Издание подготовили Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков, М.О. Чудакова. М., 1977: 270—281.
Шапир М.И. «Евгений Онегин»: проблема аутентичного текста // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 61. 2002. № 3: 3–17.
Эйхенбаум Б. 1927 – Литература и литературный быт // На литературном посту. 1927. № 9: 47—52.
Эйхенбаум Б. 1929 – Литературная домашность // Б. Эйхенбаум. Мой временник. Л., 1929: 82—86.
PeschioJ. Prankishness in Golden Age Russian Literature and Culture. PhD diss., Univ. of Michigan. Ann Arbor, 2004.
Pilshchikov I.A. Notes on the Semantics of Otzyv in Baratynsky // Irish Slavonic Studies. 1994 (1996). № 15: 75–101.
Hoisington S.S. The Hierarchy of Narratees in Evgenii Onegin // Canadian-American Slavic Studies. 1976. Vol. 10, № 2: 242—249.
Стефано Гардзонио (Флоренция – Пиза)
Лингвистическая передача и поэтическая функция итальянских имен и слов в поэзии русского Серебряного века. (Об итальянских стихах А. Блока, Н. Гумилева и М. Кузмина)
В некоторых своих статьях Татьяна Владимировна Цивьян тщательно описывает черты русского поэтического изображения Италии и одновременно определяет поэтические характеристики русской Италии, русского поэтического маршрута по Италии как элемента итальянского текста («текст Италии») русской поэзии [см.: Цивьян 1990; Цивьян 1996; Цивьян 1997; Цивьян 2000].
В данной заметке я бы хотел лишь привести некоторые данные и соображения по поводу языкового, лексического материала («текст Италии») итальянского текста русской поэзии и, в частности, по формальной передаче и функциональной роли итальянизмов в итальянских циклах нескольких поэтов русского модернизма. Анализ проведен на примерах поэзии Александра Блока, Николая Гумилева и Михаила Кузмина.
Проблема формальной передачи и функционально-поэтической роли итальянизмов касается в первую очередь топонимов и личных имен. Каждый русский поэт, начиная уже с представителей русского романтизма, развивает собственный творческий подход к данной лексической категории и принимает собственные решения по их поэтическому применению на разных уровнях поэтического текста, от ритмико-метрических до тематических. Тенденция использования итальянских имен и топонимов в стиховых окончаниях, в рифменном ряду и на звуковом уровне, была свойственна еще русской романтической поэзии, но особенно активно ее стали развивать поэты русского модернизма.
В своей предыдущей статье мне приходилось уже указывать на роль итальянских топонимов в стихах Вяч. Иванова [Гардзонио]. Здесь, в связи с итальянизмами у Иванова, я бы хотел только подчеркнуть его безупречность и эрудицию в применении итальянских слов, а также характерную для него особенность включать в свои стихи итальянские слова и выражения на латинице и чаще всего в заглавиях: LaPineta, LaSuperba, Pietà, Lalunasonnambula, Glispiritidelviso, Assaipalpitasti, Sonettodirispostaи т. д.[66]66
Однако «Вечеря» Леонардо, Трамонтанаи т. д.
[Закрыть]
Перейдем теперь к блоковскому циклу Итальянских стихов. Что касается формальной передачи итальянских слов и имен, то здесь Блок выступает очень по-разному, и в мемуарных текстах, посвященных Италии (в Молниях искусства и в отрывках из Записных книжек), встречаются погрешности и явные неточности. Приведу некоторые примеры: PalazzoVec-cio, а надо PalazzoVecchio, PalazzoPublico, вместо PalazzoPubblico, sepolchroвместо sepolcro, BoccacioBoccacinoвместо BoccaccioBоccaccino, quebellaа нужно: chebella. Перед нами обыкновенные неточности, связанные с двойными согласными. То же самое мы видим и в стихах, например, в рифменной паре залы / Галлы (имеется в виду GallaPlacidia) в стихотворении Равенна (май-июнь 1909). Форма sepolchroвозникает, очевидно, под влиянием английского (sepulchre), a queвместо che – явный галлицизм. Некоторые неточности можно найти и в случаях передачи итальянизмов кириллицей: например, название города Siena, как Сиенна (кстати, оно правильно передано в одноименном стихотворении, см. дальше), но в целом здесь Блок более точен (см., например, Кьюзи, Chiusi, Джанникола Манни, Giannicola Manni, и т. д.). Тот факт, что Блок внимательно относится к итальянским словам, засвидетельствован его интересом к итальянскому ударению. В стихах Блок следует русской традиции акцентирования некоторых слов: самый явный пример – слово гондола (góndola), которое по-русски передано как гондóла: «Гондóл безмолвные гроба…» (Холодный ветер от лагуны…, 1909). Вообще данную лексему стоило бы считать полноценным русским словом с женским окончанием, так как оригинальное дактилическое окончание практически никем не применяется, за исключением Бориса Пастернака: «И гóндолы рубили привязь, / Точа о пристань тесаки» (Венеция, 1913). В примечании сам Пастернак отмечает: «В отступлении от обычая восстанавливаю итальянское ударение» [Пастернак, I, 80]. Скорее всего, традиция восходит к поэзии А.С. Пушкина, и в частности к его известному наброску: «Ночь светла; в небесном поле / Ходит Веспер золотой, / Старый Дож плывет в гондоле / С Догарессой молодой».
Как гондола, так и слово кашина (cascina) используется как полноценное русское слово для обозначения известного флорентийского парка на берегах Арно: LeCascine(Ле Кашине, Кашины). Блок его склоняет (например, в Кашинах) и применяет в родительном падеже на рифменной позиции: «По ком томился я один / Любовью длинной, безнадежной, / Весь день в пыли твоих Кашин?» (Флоренция, ты ирис нежный…, 1909).
В стихах Блок акцентирует и правильное ударение фамилии Медичи: «В мраморном этом гробу меня упокоил Лаврентий / Мéдичи, прежде чем я в низменный прах обращусь» (Эпитафия Фра Филиппо Липпи, 1914) и применяет также правильное ударение топонима Фьéзоле и указывает его в стихе: «В нагорном Фьéзоле когда-то» (Фьезоле, 1909). Что касается фамилии Медичи, то по образцу Кашины Блок ее склоняет: «Ты пышных Мéдичей тревожишь…» (Флоренция, 1, 1909). По-русски фамилия чаще всего транскрибировалась на французский манер: Медисис.
Обращает на себя внимание также и то, что имя Лоренцо Медичи Блок переводит как Лаврентий Мéдичи. Аналогично соседствуют формы Филипп и Филиппо Липпи.
Очевидно, решение оставлять в стихах некоторые итальянские слова в латинице подсказано визуально-поэтической функцией. Имеются в виду прежде всего два заглавия Девушка из Spoletoи MadonnadaSettignano. Данное решение придает тексту особый характер цитаты, документальности, особенно если учесть, что, например, в стихотворении Вот девушка, едва развившись (1909) в стихотворном тексте применяется форма Сеттиньяно а в указании даты и места: «15 мая 1909. Settignano».
В других случаях включение латиницы имеет, очевидно, другую функцию. В стихотворении Флоренция, 1, читаем: «O, Bella, смейся над собою, / Уж не прекрасна больше ты!» Здесь итальянское слово явно противопоставлено русскому «не прекрасна». Итальянское слово обозначает прошлое, мнимое, преходящее. Одновременно воспринимается как намек на поэму Аполлона Григорьева Venezialabella. Учитывая известную любовь и интерес Блока к творчеству Григорьева, намек отнюдь не случаен, о чем можно догадаться, например, по соотношению между определением «Флоренция Иуда» и «вероломностью» Венеции: ср. у Григорьева: «…везде вставала, / Как море, вероломная в своем / Величии Labella…» В обоих случаях присутствует романтическое отождествление красоты и коварства.
В стихотворении Перуджия (1909) встречаем другое итальянское выражение: «Questasera… монастырь Франциска…» Здесь – жанровая картина, приглашение на свидание. Вообще Блок проявляет большой интерес к бытовым картинкам и в мемуарных записях Молнии искусства передает итальянские слова в уловленном им местном говоре: buonaseire… Spoleito… Тут явная попытка передать местную речь и особую длину подударных гласных.
Что касается поэтической функции итальянских слов (главным образом имен и топонимов), то у Блока, как и в традиции русской поэзии XIX века, они выступают как слова-сигналы и играют особую эстетико-семантическую роль в рифменной позиции[67]67
Что касается типологии рифмы Блока, см.: Гаспаров.
[Закрыть], следовательно, тяготеют к концу стиха. В некоторых случаях рифма приобретает особый семантический вес. Возьмем, например, стихотворение Равенна (май-июнь 1909). Уже первая рифменная пара: бренно / Равенна по своему оксиморонскому характеру содержит смысловое ядро всего текста[68]68
См. аналогичную рифму у Вяч. Иванова: Равенна/ забвенна.
[Закрыть]. Дальше рифмы залы / Галлы и обиды / Плакиды подтверждают тенденцию (здесь имя «Галла Плакида» разделяется в образовании двух разных симметричных стихов: «Чтоб черный взор блаженной Галлы» и «Чтобы воскресший глас Плакиды»). Отметим, что передача имени жены императора Констанция III, GallaPlacidia, у Блока не соответствует современным правилам (Галла Плацидия). Что касается имени Данте, то Блок предпочитает традиционную форму перевода с французского: «Тень Данта с профилем орлиным». И, наконец, что касается Теодориха, то здесь применена обычная для русского языка форма Теодурих, которая дважды в окончании стиха рифмуется со словом море.
Тот же принцип используется Блоком в таких рифмах, как: Перуджино / корзину; записка / Франциска; один / Кашин; печали / Италии; взоры / синьора; горы / синьоры; канцоной / бессонной; когда-то / Беато; Сиена / измена; влюбленный / Мадонны.
Из этих пар рифма Сиена / измена сильно семантизирована, учитывая определение «лукавая Сиена» и стихи: «Вероломство и измена – / Твой таинственный удел!» (Сиена, 7 июня, 1909). Чуть ниже изысканно обыграно двойственное значение слова Мадонна, как Богоматерь и как женственный идеал поэзии сладостного нового стиля: «И томленьем дух влюбленный / Исполняют образа, / Где коварные Мадонны / Щурят длинные глаза». Рифма печали / Италии тоже играет определенную семантическую роль, если учесть весь контекст стихотворения и, в частности, двустишие: «В черное небо Италии / Черной душою гляжусь» (Флоренция, 4).
Остальные рифмы носят чисто жанрово-бытовой и шутливый характер. В особенности это относится к рифмам Перуджино / корзину; записка / Франциска, которые подчеркивают главные элементы бытовой любовной сценки: «Там – в окне, под фреской Перуджино, / Черный глаз смеется, дышит грудь: / Кто-то смуглою рукой корзину / Хочет и не смеет дотянуть… // На корзине – белая записка: / «Questa sera… монастырь Франциска…» (Перуджия, июнь 1909).
Если перейти к итальянским стихам Николая Гумилева, то здесь наблюдаются практически те же тенденции, что и у Блока. Кратко перечислим их: а) тенденция включать итальянские имена и топонимы в рифменную позицию; б) нерелевантность фонической разницы итальянских слов с одной и двойными согласными; в) некоторая свобода в отношении итальянского ударения.
Приведем теперь несколько примеров с именами собственными: а) Буонаротти / плоти (Фра Беато Анджелико, 1912)[69]69
Здесь же Рафаэль/ хмель. Как у Блока для имени Дант, употребляется традиционная форма передачи имени художника на французский манер. У Городецкого, например, желез / Веронез (Мучения св. Юстины, 1912). Фамилия Веронезе тоже прочитана «по-французски».
[Закрыть]; громы / Содомы; равнины / Уголино (Пиза, 1912); Сицилию / Виргилию; обычай / Беатриче (Отъезжающему, 1913); Данта / Леванта (Какая странная нега, 1916); двери / Алигьери; объята / Торквата (Ода Д’Аннунцио к его выступлению в Генуе, 1915). Здесь первая рифма имеет явный семантический подтекст. Приведу всю строфу:
Пускай велик небесный Рафаэль,
Любимец бога скал, Буонаротти,
Да Винчи, колдовской вкусивший хмель,
Челлини, давший бронзе тайну плоти.
Понятие плоти, которое синтагматически относится к Челлини, на парадигматической оси распространяется на Микеланджело, и в этом сильнее проявляется оппозиция между вещественной скульптурой и «плотской» живописью Буонарроти и живописью небесного Раффаэлло. Стремление к семантизированной рифмовке – явная черта эпохи, ср. у В. Комаровского рифму: Савонаролою / Прокридой голою (И ты предстала мне, Флоренция, 1913), где иронически женской наготе противопоставлен суровый образ монаха-морализатора.
В рифмах Гумилева также можно найти часто используемые топонимы: Сиены / стены; Каррары / базары (Пиза, 1912); Брабанте / кьянти (Генуя, 1912); кьянти / Леванте (Ислам, 1916); Романье / признанья; Болонье / благовонье; беззаконьи / Болоньи (Болонья, 1913); клюве / Везувий (Неаполь, 1913). Налицо отчетливая склонность Гумилева к экзотической рифме: она находит широкое применение и в его итальянских стихах.
Что касается тенденции пренебрегать фонической разницей итальянских слов с одной и двойными согласными, то ярким примером может служить рифма Буонаротти / плоти, хотя данное обстоятельство нуждается в оговорке. В самом деле, фамилия Микеланджело звучит и обычно передается по-итальянски как Буонарроти (Buonarroti), и в такой правильной и обычной форме прекрасно рифмуется со словом плоти. Очевидно, Гумилев, как и другие русские поэты[70]70
Вообще невнимание к фонетической передаче итальянских двойных согласных – это почти правило: см., например, у Комаровского: нагреты / Тинторетты (Пылают лестницы и мраморы нагреты, 1912) или Джотто / остроты (Гляжу в окно вагона-ресторана, 1913); у С. Городецкого: Боттичелли / цели (Савонарола, 1912)
[Закрыть], более внимателен к звучанию фамилии великого художника, чем к ее правописанию. Вообще Гумилев внимателен к правильной передаче итальянских слов, как доказывает написание палаццо дожей или Ливорно (Генуя, 1912).[71]71
В те же годы Вяч. Иванов предпочитает русифицированный вариант Либурнапо следам Баратынского.
[Закрыть]
Наконец, что касается ударений, то у Гумилева отмечается традиционная акцентовка слова гондола (см. рифмовку гондóл / пчел [стих. Вененция, 1913]), хотя есть и один очень любопытный случай. В стихотворении Неаполь мы читаем следующее двустишие:
Режут хлеб… Сальвáтор Роза
Их провидел сквозь века.
Перед нами перестановка ударения по чисто метрическим соображениям. Как известно, в имени Salvatore(в сокращенной форме Salvator) ударение падает на гласную о: Сальватóр. Гумилев переакцентирует слово, чтобы соблюсти ритм четырехстопного хорея.[72]72
Городецкий, наоборот, в стихотворении Микеланджело(1912) передвигает ударение: спор / скульптур.
[Закрыть]
В поэзии Михаила Кузмина итальянские слова и имена естественным образом сосредоточены в циклах Стихи об Италии (сб. Нездешние вечера) и Путешествие по Италии (сб. Параболы), но не только. С одной стороны, в его стихах отмечаются аналогичные тенденции, как в поэзии Блока и Гумилева. Что касается примеров из Блока, то здесь небезынтересно отметить ‘ответ’ Кузмина на одну блоковскую рифму. Имеется в виду тройная рифма: Равенна / нетленна / благословенна (Равенна, 1920), т. е. явная реплика на блоковскую бренно / Равенна. Также перекликаются с блоковскими рифмы на имя Франциск (низко / Франциска; Ассизи, 1920; писк / Франциск; Поездка в Ассизи, Апрель, 1921), где в обоих случаях ощутим их разговорно-бытовой характер. Как и у Блока, у Кузмина есть рифма Марко / жарко (Св. Марко, 1919), где приводится итальянская форма имени евангелиста, и, таким же образом, опять в стихотворении Равенна (1920), мы находим ‘гумилевскую’ рифму двери / Алигьери. Однако по своему составу ‘итальянские рифмы’ Кузмина более сложные и демонстрируют бóльшее знание итальянского языка вообще и итальянской просодии в частности. Единственным исключением является трактовка фамилии Микеланджело в стихе: «Сивиллой великого Буонаротта» (Тразименские тростники, 1919 или 1920). Перед нами как будто родительный падеж варианта Буонаротто (вариант фамилии великого художника, часто в сопровождении артикля, «il Buonarroto», как всегда представляет двойное р и одно т).
Повторяю, это исключение, так как у Кузмина, напротив, встречаются даже очень изысканные и сложные рифмовки, построенные на итальянских именах. Приведу, как пример, составную рифму бороться ли / Гоццоли (Невнятен смысл твоих велений, 1921) или глубокую не роза / Чимароза (Венеция, 1920). Особенно интересно применение слов на латинице в окончании стиха. В первой строфе стихотворения Из поднесенной некогда корзины (сб. Сети) мы встречаем вместе с рифмой корзины / Розины и рифму роза / rispettosa(Кузмин приводит целую цитату из арии Севильского цирюльника Россини: «Io sono docile, io sono rispettosa»). В стихотворении Эней (1920) Кузмин в рифменной позиции ставит латинские слова: тумана / «PaxRomana»[73]73
Ср. у Комаровского рифму-анаграмму: Тоскана/ стакана(Гляжу в окно вагона-ресторана, 1913).
[Закрыть], но особенно интересным оказывается стихотворение Утро во Флоренции (1921): Or San Michele, / Мимоз гора! / К беспечной цели / Ведет игра (дальше перекликается и рифма: апреле / деле). Перед нами приблизительная рифма (Michele / цели), вполне нормальная при редукции, но как поступить с произношением итальянского имени? Редуцировать ли его? Аналогичные вопросы возникают в стихотворении Колизей (1921). «Лунный свет на Колизее / Видеть (стоит una lira) / Хорошо для forestieri/ И скитающихся мисс. / Озверелые затеи / Театральнейшего мира / Помогли гонимой вере / Рай свести на землю вниз…»[74]74
См. у Комаровского рифму скоро/ Casad’oro(Утромпроснулсярано, 1912).
[Закрыть] Здесь же – точная рифма, поскольку итальянское слово можно произнести нормально forestieriи русское вере редуцировать (см. также рифму Неми / измене – Озеро Неми, 1919).
Встречается также явно неточная рифма: Appia/ памятью (стих. Катакомбы, 1921), что подтверждает мастерство Кузмина в применении иностранных слов в поэтической функции[75]75
Неточные рифмы применяет с итальянскими словами С. Городецкий. См., например, Джинестри / сестриН (Джинестри, 1912).
[Закрыть]. Данное обстоятельство наблюдается и в сложном звуковом плетении кузминского стиха. См., например, следующее созвучие: «Словно Тьеполо расплавил / Теплым облаком атласы…» (Венеция, 1920).
Как в случае Гóццоли, Кузмин вообще показывает всегда хорошее знание итальянской просодии. В итоге он всегда правильно ставит ударения (явный пример фамилия Дáндоло, или имя Пáоло: «Лавровский, Пáоло с Франческой», <В.К. Лавровскому>, 1921).
Таким образом, как и следовало ожидать, мы видим, что употребление итальянских слов и имен глубоко маркирует фонологические и семантические контуры стихов Блока, Гумилева и Кузмина об Италии. Владение языком и восприятие итальянских реалий у каждого были разные, но у всех они с одинаковой силой действовали на поэтическое строение стиха. Если Кузмина отличает безусловно более глубокое, разнородное и подлинное знание итальянской культуры и итальянских реалий, то Блок на итальянском материале создает в своей поэзии истинный и оригинальный мифотворческий пласт.
Данная заметка – лишь небольшой вклад в решение проблемы о роли итальянского языка в творчестве русских поэтов, тогда как сама тема затрагивает большинство поэтов XIX–ХХ векoв[76]76
О поэзии XIX века и, в частности, лирике Пушкина см. нашу статью «Итальянизмы в поэзии русского романтизма. Материалы к теме на примере Сенсаций и Замечаний Госпожи Курдюковой И.П. Мятлева» (в печати).
[Закрыть]. Что касается начала ХХ века, то, на мой взгляд, именно творчество проанализированных здесь авторов (в том числе, конечно, и Вяч. Иванова) дает наиболее точное представление об общих поэтических ориентирах эпох, являясь в этом смысле особенно репрезентативным. Сказанное не исключает того, что подобный анализ следует применить к итальянским стихам других крупных поэтов (от Мережковского до Мандельштама и Ходасевича), чтобы создать цельную и органичную картину итальянизмов в «тексте Италии» поэзии русского модернизма.