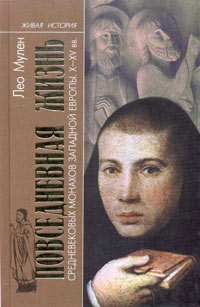
Автор книги: Лео Мулен
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Разнообразие обычаев в монастырях
Вопреки общим почти для всех обычаям, но в то же время в соответствии с тем, как это делалось в Монте-Кассино, аббатство Бек не допускало, чтобы в неделю ваий (Вход Господень в Иерусалим) на богослужении держали пальмовые ветви, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы в руках были свечи, а в Пепельную среду[5]5
Свое название получила по традиционному церковному обряду: во время молитвы в церкви священник посыпает головы верующих пеплом со словами: «Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris» («Помни человек, что ты есть прах и во прах обратишься»), (прим. ред.)
[Закрыть] (среда первой недели Великого поста) использовался пепел. От иных монастырей своего времени аббатство Бек отличалось и в другом: там не соблюдали ритуала Погребения Плащаницы в Страстную пятницу, процессии ко Гробу Господню, представления трех Марий, жен-мироносиц, в Пасхальное утро – всех тех церемоний, которые проводились (для большего воздействия на прихожан) в Дареме, Сен-Ванне, Сент-Уене, в Германии. Сестра М. П. Дикинсон, ученый комментатор сборника обычаев в аббатстве Бек, добавляет: «Присутствие Тела Христова во время шествия в Вербное воскресенье не умаляется отказом от таких обычаев, как Осанна в аббатстве Фруттуариа, Спаситель в Сен-Ванне, Гроб Господень в Фекане, порожденных заботой о замене реальностью духовных образов».
Аббатство Бек отказывалось также от обычаев, принятых в Клюни: например, в три Пасхальных дня огонь зажигали в самом монастыре, что было менее эффектно (но более эффективно), нежели принародное добывание огня посредством берилла (увеличительного «стекла»), как это делалось в Клюни.
Широко были распространены и другие обычаи: например, от св. Бенедикта Аньянского шла традиция читать после ужина Miserere[6]6
Сжалься (лат.) – Помилуй мя Боже… – начало 50-го псалма
[Закрыть], и этот обычай сохранился до наших дней. Тот же святой придал вполне определенный облик первому каноническому часу: чтение мартиролога, отрывка из устава, трех молитв – Deus in adjutorium (90-й Псалом), Gloria, Kyrie[7]7
Бог в помощь (лат); Слава (лат.); Господи помилуй – Kyrie eleison (греч.).
[Закрыть], а затем следовал обвинительный капитул.
Каждая конгрегация и каждый монастырь устанавливали свои собственные обычаи, несмотря на торжественное принятие решений на общих капитулах. Разнообразие присуще человеческой природе в такой же степени, как и приверженность к регулярности. Можно предположить, что монахи совершенно осознанно вводили в обиход тот или иной обычай, будто бы наилучшим образом отвечавший духу благочестия. Однако, в подобного рода исканиях преступалась грань разумного, поскольку накопление новаций порой перегружало распорядок дня и, вне всякого сомнения, вело от благочестия к «благочестиям». Например, иногда требовалось прочитать столько псалмов, что уже не оставалось времени ни на личную молитву, ни на размышления, ни даже на частную мессу, да и само чтение Псалтири получалось механическим и бездушным. Вот с чем трудно смириться: в Клюни в течение одного дня было принято читать такое количество псалмов, какое св. Бенедикт предусматривал на целую неделю! Отсюда и стремление цистерцианцев, премонстрантов, картезианцев, валломброзанцев и некоторых других вновь обрести путь к размышлению, к «обдумыванию» Божественного закона, к внутреннему молчанию.
А так же путь к ежедневной и частной мессе, обычно служившейся с XI века, но еще не сделавшейся общей для всех даже к XIII веку. Нередко случалось, что причащение совершали в качестве альтернативы мессе. Во всяком случае, в X веке Уставное согласие (Regularis Concordia) призывало монахов причащаться ежедневно. Цистерцианские установления предписывали монахам, которые не являлись священниками, причащаться один раз в неделю (по воскресеньям), а братьям-мирянам – семь раз в год. Даже те, кто не был священником, причащались Кровью и Телом Господним, когда «священник, совершающий богослужение, либо дает испить несколько капель Святой Крови при помощи золотой трубочки, либо погружает Тело Господне в потир». Евхаристия поистине занимает исключительно важное место в духовной жизни монастыря: умирающий, соборовавшийся и получивший предсмертное причастие, каждый последующий день, пока он жив, участвует в евхаристии.
Для создания обители нужны все
Наиболее ошибочным является представление о повседневной жизни монахов как о чем-то необъятном и давящем, механически однообразном в тягучести дней.
Пусть даже все францискацы (или трапписты, или доминиканцы) представляют собой некое «подобие семьи» как дети одних родителей, все равно они личности, каждый в отдельности, и чаще всего – ярко выраженные индивидуальности со своими слабостями и достоинствами. Ибо ни устав, ни послушание никогда не могут превратить людей в роботов. Каждый человек уникален и физически, и духовно. Поэтому монастырь объединяет в себе огромное разнообразие человеческих типов. Чтобы наилучшим образом описать это, я процитирую строки письма доминиканца, которому посвящена моя книга. Он приводит в пример прежде всего слова настоятеля траппистов:
«Аббатство напоминает оркестр, и в нем есть все: скрипки, которые звучат согласно, духовые инструменты, внезапно вторгающиеся в общую мелодию; есть саксофон, а в углу кто-нибудь из младших держит музыкальный треугольник, спрашивая, зачем он нужен… В аббатстве есть свой лентяй, брюзга, аккуратист, рассеянный, усердный в благочестии, готовый обманываться, льстец, ученый, на все руки мастер, энтузиаст (несколько наивный, даже простачок, но такой славный), нытик. Есть трудный монах, нуждающийся в том, чтобы им занимались отдельно, и который под разными предлогами идет к Полю или Жаку „пообщаться“. Есть свой ворчун, необычайно услужливый; есть самый преданный и самый неумелый, огорчающийся, когда у него не просят помощи; есть такой, который считает себя психом, и это вынужден терпеть отец-настоятель во избежание худшего, и этот псих едва ли служит общему благу; есть юный певчий (с красивым голосом), которому еще предстоит подавить в себе плохо сдерживаемое желание власти… Есть неисправимый отстающий, есть вспыльчивый, есть вечно надутый… Случаются недоразумения, а иногда в тиши дух тьмы нашептывает, что отец такой-то пожелал вас. Есть тот, кто негодует по поводу всего, что выходит за пределы нормы, и слишком явно выражает свое негодование. Есть тот, кто („с добрыми намерениями“) прячет какой-нибудь инструмент или книгу, чтобы пользоваться ими самому. Есть растяпа, который ничего не кладет на место».
Эта зарисовка, этот живой набросок относится к недавнему времени; однако есть все основания полагать, что это действительно и для средневекового периода. Мой корреспондент, обладающий многолетним опытом и настроенный на философский лад, добавляет:
«У каждого в обители есть своя странность, недостаток, повторяемые ошибки, „жало в плоть“ (2 Кор., 12:7). Это может быть заметно, а может и храниться в тайне, но подчас это длится всю жизнь… Оставив в стороне интимный аспект совместной жизни, – заключает он, – можно сказать, что есть общие испытания, общее терпение, общая радость. Все то, что находят в долгой совместной жизни».
Это позволит нам немного лучше понять, что же такое повседневная жизнь людей, собравшихся под одной крышей, в одном аббатстве. Это жизнь сообща, которая заставляет монаха в молчании терпеливо выносить странности, недостатки, грехи немощи всех и каждого, – все то, что постоянно возвращается и усиливается в течение жизни. Это также жизнь «повседневная, проживаемая в повседневности», и одна из сторон той «брани», которую монах должен каждое мгновение вести с самим собой, со своим нетерпением, своим негодованием, своими вспышками гнева, своим изнеможением! Чтобы в нем самом умер плотский человек со страстями, с земными привязанностями и слабостями, со всем тем, что препятствует духовному восхождению во всей его полноте. Ради достижения «смерти в себе».
Молчание и язык жестов
Молчание не везде и не всегда обязательно. К примеру, у гильбертинцев кузнецы могут разговаривать в трапезной, но вряд ли им позволяется нарушать безмолвие в кузнице. Однако, в общем и целом, склонность к безмолвию и желание соблюдать его присутствуют повсюду. В редких уставах и сборниках обычаев не найдется главы, посвященной молчанию. Лишь молитвенное обращение к Богу (opus Dei) отверзает уста, и звук голосов приобретает только больше значения. В остальном же «замкнутые уста есть условие покоя сердца». «Молчание – мать всех Добродетелей». Но если необходимо заговорить, то сделать это следует безо всякой гордыни. Разумеется, любые шуточки и неприличные истории везде и повсюду подвергаются осуждению.
Сборники обычаев требуют наиболее полного молчания в храме, в трапезной, в спальне, во внутренних монастырских галереях. После повечерия наступает тишина, которая еще и в наши дни остается одним из самых трогательных моментов дня в монастыре. Даже такие действия, как стрижка волос, кровопускание, омовение, выпечка просфор, должны совершаться в совершенной тишине, словно в комнате нет ни одного брата, как гласит устав Учителя. Текст аббатства Бек подчеркивает, что тишина должна быть такой, чтобы нельзя было даже услышать поскрипывания пера переписчика. «Чтобы никто не читал (в Средние века читали, тихо произнося слова вслух) и не пел, если только безмолвно… И чтобы каждый повторял псалмы про себя». Соблюдалось ли это предписание? Трудно узнать, и также трудно в это поверить. Во всяком случае, визитаторы Клюни отмечали, что в четырех главных местах, где требовалось соблюдение безмолвия, оно выполнялось не всегда.
Совместная жизнь предполагает словесное общение. И чтобы не нарушать безмолвия обители, использовали либо деревянную дощечку, покрытую воском (ее монахи носили на поясе), либо язык жестов.
Три сборника обычаев: Бернара из Клюни, Ульриха и Вильгельма из Гирсау (все относятся к XI веку) сообщают нам о таком языке. Эти маленькие словарики достаточно забавны прежде всего потому, что из них видно, какие предметы или блюда были наиболее употребительны и какие персонажи наиболее известны, а, кроме того, еще и потому, что символика этих жестов столь наивна и бесхитростна, что вызывает невольную улыбку.
В Клюни насчитывалось 35 жестов для описания пищи, 37 – для людей, 22 – для одежды, 20 – для богослужения и т. д. Хотите пару примеров? Вот обозначение молока: монах кладет мизинец в рот, как делают дети. Простой хлеб: большим пальцем руки рисуют крут, прижав к этому пальцу два других. Пирог: на ладони изображают крест, ибо пирог делят на части. Есть и знаки, позволяющие распознать, из чего этот хлеб – ржаной, пшеничный или из овса; то же самое по поводу вина: с травами ли оно, с пряностями или с медом, белое или красное. Одним и тем же жестом обозначаются форель и женщина: провести пальцем от одной брови к другой. Этот жест напоминает собой головную повязку женщины. Но при чем здесь форель? Дело в том, что она женского рода (как, впрочем, и другие рыбы)! Тот же знак служил для обозначения Пресвятой Девы Марии.
Язык жестов не был единым во всех монашеских орденах. Так, жесты Клюни столь же непонятны для гранмонтанцев, как для нас чуждый иностранный язык. В Клюни говорили «горчица», прижимая первую фалангу мизинца к большому пальцу, а гранмонтанцы сжимали пальцами нос и приподнимали их; другие же монахи помешивали пальцами одной руки в другой руке, собранной в горсть, что обозначало соус, приготовляемый поваром. У конверзов[8]8
Конверзы («обращенные») принимали часть монашеских обетов, но не постриг, и жили отдельно от братии. Обет послушания обязывал конверзов работать столь долго, сколько требовал аббат. (Прим. ред.)
[Закрыть] существовал свой язык жестов, который в основном описывал различные сельскохозяйственные работы. Нас уверяют, что язык жестов не содержал никаких шутливых знаков или фривольных по смыслу. Невинные души могут верить в это, но была ли потребность выразить нечто подобное? Сие заставляет задуматься.
Но, как бы то ни было, тот факт, что монахи разговаривают при помощи рук, долгое время производил впечатление на общество, усматривавшее здесь нечто сакральное. Общество изумлялось не менее жонглера из Нотр-Дам, словами поэта поведавшего следующее:
Коль вы в этот орден придете,
То людей столь великих найдете:
Лишь знаки делают один другому
И не молвят устами ни слова,
И верно, вполне, несомненно,
Не говорят они по-иному.
Измерение времени
Бенедиктинский устав тщательно делит день монаха на определенные части. Пунктуальность – вот главная добродетель, и всякое, даже малейшее, отступление от этого требования должно быть объявлено на обвинительном капитуле. В отличие от сельских жителей монахи придавали большее значение отсчету времени. Но как это сделать за неимением часов?
Первое требование устава Учителя предписывает вставать зимой до петушиного пения, а летом – как раз в тот момент, когда поет петух. Так же измеряли время наемники и ландскнехты. Прибегали также к помощи небесных светил. Мы располагаем весьма любопытным сборником «Монастырские звездные часы» (Horologium stellate monasticum). В нем рекомендуется находиться в определенном месте монастырского сада в нескольких шагах от куста можжевельника, откуда можно видеть два-три окна общей спальни. Когда же появляется та или иная звезда, наступает время либо звонить в колокол и будить монахов, либо зажигать светильники в церкви, либо сразу будить монахов, начиная с аббата, почтительно обратившись к настоятелю: «Господи, уста мои отверзеши» и, как сообщает Кальме, потянув его за ступни! Однако понятно, что такой способ определения времени суток был весьма неточен. Прибегали и к иным, впрочем, столь же ненадежным средствам: наблюдали за длиной тени, которая то увеличивалась, то уменьшалась; читали псалмы (при условии, что монахи не будут петь слишком быстро); использовали горящую свечу и, конечно же, клепсидру или водяные часы; песочные часы, солнечные циферблаты, на которых обычно писали латинское изречение: «Non numero horas nisi serenas», имевшее двойной смысл: «Отсчитываю лишь часы светлого времени суток» или «Отсчитываю лишь светлые (счастливые) часы».
А в результате все это оборачивалась тем, что «брат Жак» никогда вовремя не звонил к заутрене…
Подобные недоразумения происходили часто, судя по тому, что в Клюни задавались вопросом: что следует делать, если по небрежности монаха-«будильника» братия разбужена слишком рано? «Все должны оставаться в постели до тех пор, – гласит текст, – пока не станет возможным читать при свете дня».
Затем изобрели механические водяные и песочные часы. В одном из писем, посланных из картезианского монастыря в Порте около 1150 года, сообщается о часах, которые заводили «в тот момент, когда можно было начинать читать». Эти часы показывали время до 18.30 – дневное время, а на ночь оставалось 10 часов. В целом сутки по этим часам длились 28 с половиной часов. И на самом деле, в те века привычно пользовались «часами» различной длительности, тем не менее все они назывались часами. Так, картезианский час соответствовал примерно 50 минутам современного часа, хотя такое сравнение является несколько смелым.
Герберт из Ориньяка, позднее ставший папой под именем Сильвестра II (скончался в 1003 году), скорее всего усовершенствовал именно водяные часы: он будто бы изобрел часы, которые «регулировались сообразно движению небесных светил». Однако сомнительно, чтобы это были именно современные часы с гирями, механизмом, балансом и ходом. Такие современные часы появятся только в XIII веке, когда для городских торговцев время станет равноценно деньгам.
Для монахов отсчет времени был очень важен, поэтому вовсе не удивительно, что они способствовали усовершенствованию часов. Искусство часовых дел, пишет Шмиц, имело наиболее ревностных попечителей в лице аббатств и в частности, что очень показательно, аббатства Форе-Нуар. Текст, примерно 50 года, под названием «Картина мира» восхваляет часы, которые днем и ночью отмеряют время «молитв, регулярность которых столь приятна Богу». Автор текста полагает (для того времени весьма передовая мысль), что лучше было бы исполнять все предназначенное в жизни, в том числе и вкушать пищу, «в установленный час», потому что «тогда проживешь дольше». Изобретение этого чуда приписывали Птолемею:
Именно он изобрел впервой
Древнейший прибор часовой.
Таким образом, в XIII веке идея регулярности была тесно связана с монашеской жизнью.
Так протекают часы…
Так протекают часы, слагаясь в дни, а дни эти беспрестанно меняются в согласии с изменениями годового богослужения. Нет ничего более размеренного и однообразного, чем монашеская жизнь. Стать монахом – значит, отказаться от ритмов нашего времени, взять на себя обеты независимо от временных и интеллектуальных перемен.
«Посвященное время, – пишет профессор Луиджи Ломбарди Валлаури в необычайно насыщенной статье, – вечность, переживаемая во времени… Это „взвешенное“ время… По отношению к мирскому времени (к нашему времени) время послушания – это нечто тихое, спокойное, будничное. Поскольку я не располагаю будущим (по крайней мере, в том смысле, в котором мы его понимаем), то я весь в настоящем… я никуда не спешу… я в буквальном смысле не могу терять свое время…
И само время богослужения гораздо больше является продолжением знаменательных „времен“ сонаты или симфонии, нежели серии отмеряемых мгновений ньютоновского времени. Это время, в котором качество главенствует над количеством (я подчеркиваю)… это время… является живой сутью (или „силой“) изменений».
Используя более современную метафору, я могу сказать, что монашеское время по отношению к нашей жизни является тем же, чем джазовый свинг по отношению к метроному.
Повседневная жизнь монаха не есть повседневная в банальном смысле этого слова, в смысле монотонности. Нет, это драматичная жизнь в изначальном понимании этого слова, то есть активно переживаемая в различных и постоянно меняющихся ритмах, в которых заключены также и другие ритмы, как внешние, так и внутренние. В целом, вопреки расхожему мнению, нет ничего более далекого от пресловутого образа жизни типа «метро – работа – сон», чем монашеская жизнь.
Попытаемся проникнуть в эту жизнь. Первый большой этап – месса с ночными и дневными каноническими часами, чередование праздников – святых и Господних – с их октавами[9]9
восьмидневный праздник. (Прим. ред.)
[Закрыть], «в коих оживают величие и таинство». Так протекает год, «квадрига мира», в ритме времен года, о которых Алкуин говорил, что зима – «изгнание лета», весна – «художник земли», осень – «житница года».
В основной ритм, содержащий почти растительный образ непрерывности жизни, вплетаются ритмы общей жизни: работа в разные времена года, события, возникающие в общежительной жизни, вроде прибытия паломников, путешественников, монахов; появление новициев; рукоположение священников; годовщина обращения того или иного монаха (цветок перед чашей старого монаха; отец-настоятель велит принести стакан вина тому, кто «родился»; этот обычай сохранялся еще полвека тому назад, и все монахи в глубокой тишине радовались этому событию). Затем течение дней болезни, кончина, погребение.
Ко всему этому присоединяются отмеченные этими же событиями, но, тем не менее, самостоятельные движения внутренней жизни, духовная брань – ведущаяся с переменным успехом борьба против природной немощи человека, против его слабостей и изнеможения. Нападения духов тьмы, но также часы радости и света, время внутреннего мира даже в самой борьбе. Возможность всеобщей победы коллективной и индивидуальной жизни монашества. Но победа никогда не бывает всеобщей, постоянной или гарантированной. А по мере того как эта жизнь требует усилий, превышающих обычные силы человека, возникает все больше предпосылок к поражению. И падение тем тяжелее, чем выше поставленные цели.
Но в целом, со всеми высотами и пропастями, с подчас очень тяжким грузом общежительного существования и требований послушания, монашеская жизнь – это радость, радость полная и совершенная. Надо быть очень наивным, чтобы с удивлением написать, как тот журналист: «За пятнадцать дней я ни разу не заметил премонстранта с очевидными признаками меланхолии». И далее: «Никогда я не знал людей более радостных, открытых, менее одиноких, чем эти „отшельники“ в келиях». Я могу привести свидетельство из собственного опыта: повсюду я встречал самую откровенную радость, внимание к любому человеку, сладость человеческой нежности. Какое же облегчение встретить людей улыбающихся, приветливых с самого утра, которые не считают себя обязанными, как многие наши современники, жаловаться уже за завтраком.
Еще несколько цитат, чтобы пояснить мою мысль. Вот отрывок из размышлений картезианца Гига: «Горе тому, для кого счастье и удовольствие имеют конец и начало». Еще один отрывок прекрасный и глубокий: «Лесные орехи и ежевика сами по себе являются лакомыми, а разве истина, хлеб – нет? поэтому любят истину и мир, а значит, Бога». И еще картезианский идеал, который я бы перевел следующим образом: «Беги от мира. Погрузись в тишину. Сумей достичь мира в душе».
Такой образ жизни, совершенно очевидно, не всем по вкусу. Гио де Провен сетует по поводу режима монахов Клюни (хотя Клюни был не самым строгим орденом):
Заставляли там меня, без вранья,
Чтоб, когда я спать хотел,
Я бы бдел,
А когда я есть хотел,
Чтобы зверский пост терпел.
Он настолько напуган одиночеством картезианцев, что даже готов отказаться от рая, если ему предстоит пребывать там в одиночестве:
Никогда б не пожелал, это точно говорю,
Одиноким-одинешеньким быть в Раю.









































