Текст книги "Гоголь в тексте"
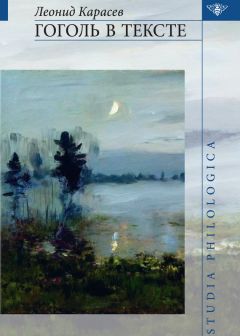
Автор книги: Леонид Карасев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Бегство
Собственно, «бегство» это не только поспешные отъезды персонажей, как, например, в «Ревизоре» или «Игроках», но вообще все ситуации концовок, где герои, так или иначе, устраняются от дальнейшего участия в действии – уходя, убегая, прячась, умирая.
Казалось бы, отъезд в конце повести – что тут необычного? Например, у Чехова пьесы обычно заканчиваются именно отъездами. В гоголевском же случае важно то, что «отъезды» выполняют несколько необычную роль. Герои Гоголя уезжают не потому, что действие завершилось, свершилось, его смысл исчерпан (как у Чехова), а потому, что оно еще не закончилось. Гоголь сам отстраняет героев от дальнейшего участия в действии.
Пьеса «Женитьба». Совершив все необходимые приготовления, пройдя через муки и сомнения, доведя дело до последнего шага, Подколесин этого шага не делает. Он убегает, уезжает в самый решительный момент, бросив таким трудом давшееся ему дело. Пьеса «Игроки». Обыграв Ихарева, мошенники сбегают из гостиницы, хотя очевидно, что если бы они объединили свои усилия (об этом, кстати, идет речь в тексте), то смогли бы вместе заполучить миллионы. Почему же они убегают? Я не хочу ни в коем случае оспоривать мотивировок, даваемых самим Гоголем. Речь идет о другом: наряду с явными авторскими мотивировками в тексте существует еще один смысловой слой, еще одно измерение причинности. В данном случае речь идет о поисках возможности как-то приостановить или оборвать сюжет. Подколесин убегает в финале не потому, что главное уже сделано, а потому, что оно еще не сделано. В этом, похоже, и состоит главная особенность гоголевских концовок.
Герои Гоголя убегают от ситуации выбора, решения, за которыми неминуемо должно было бы последовать развитие сюжета, его движение. Действие во многих случаях заканчивается тем, с чего и начиналось. Герои остаются «при своих». Майор Ковалев – с носом. Акакий Акакиевич – со своей старой шинелью. Подколесин остается холостяком. Разве не смог бы
Ихарев (о чем уже шла речь) со своей подобранной колодой стать миллионером? Смог бы, но он почему-то пребывает в отчаянии, которое удивляет даже одного из его обманщиков: ведь у Ихарева осталась его Аделаида Ивановна. Но в том-то все и дело, что Ихарев не хочет продолжать своей игры, что фактически означает отказ от дальнейшего развития действия, от финала. Не хотят развития сюжета и обманувшие его игроки: вопреки здравому смыслу, они уезжают от своих потенциальных миллионов. Уезжают затем, чтобы всего этого не произошло. В этом смысле сходство гоголевских финальных отъездов и бегств есть сходство не столько типологическое, сколько психологическое. Гоголь не заканчивает своих произведений подобно тому, как художник Чартков не закончил портрета.
Проблема финала как завершения, «кончины» сюжета. Текст как «дитя», как в муках рожденный и вскормленный ребенок (см. у Бахтина в «Авторе и герое в эстетической деятельности»: авторское «отношение к герою и его миру есть отношение к нему как к имеющему умереть»). В одних случаях этот момент выражен неотчетливо, в других, например у Гоголя, – достаточно сильно, чтобы повлиять уже на само устройство повествования. Гоголь делает все для того, чтобы финал (ведь заканчивать-то как-то надо) оказался так или иначе разомкнутым. В этом смысле герои Гоголя убегают не только от действия, ведущего к смерти текста, но и вообще убегают из текста, как с тонущего корабля. Спасая себя, они некоторым образом спасают и сам текст, который как бы замирает, застывает в смысловой недосказанности: вспомним «живые картины» из «Ревизора» или «Коляски», делающие этот принцип очевидным. Бегство из текста, бегство от текста. Это похоже на бегство Гоголя от собственных произведений, о котором сказал Д. Мережковский: «И от «Мертвых душ» так же, как от «Ревизора», Гоголь бегал, скитаясь по всему свету от Парижа до Иерусалима. Художник не кончил портрета. И «Мертвые души», и «Ревизор» – «без конца» («Гоголь и черт»).
Размышления об особом характере финалов у Гоголя собственно гоголевским материалом не исчерпываются. Я имею в виду возможную типологию авторов (или текстов) как финитных или инфинитных, если воспользоваться математической терминологией. Так, нетрудно увидеть, что Лермонтов или Платонов – писатели инфинитные, что финалы их произведений чаще всего не удерживают инерции основных смыслов текста (формально законченные тексты могут быть продолжены). Тогда как, скажем, Лев Толстой, скорее всего, предстает как писатель финитный: у него вообще финал текста приходит нередко раньше, нежели его формальное завершение, книга заканчивается раньше себя самой. Вообще говоря, проблема завершенности-незавершенности требует особого разговора, так как в нее входит весь набор вариантов, начиная, скажем, от ритуаль ного требования не заканчивать текст и кончая эстетским любованием фрагментом, нарочито незавершенным целым. Но то, что мы видим у Гоголя, – случай особого рода, по крайней мере по силе своего проявления. В том-то и дело, что произведения Гоголя закончены вполне, иной раз до нарочитости, но чего стоит эта законченность? Перед нами – иллюзия финала, эфемерное подведение итогов, финал без конца.
Нечто похожее произошло и в «Шинели», где герой хотя и умер, но как-то не до конца, не растеряв к тому же своих вполне плотских интересов. В самом деле, зачем бесплотному духу понадобилась такая практическая вещь, как теплая генеральская шинель? Это все то же возвращение к исходному состоянию, о котором я уже говорил на примерах «Носа» или «Женитьбы». В данном случае в качестве исходной точки выступает финал земной жизни чиновника: он возвращает то, что потерял, возвращает «свое». Нет однозначности и во вроде бы «нормальном» отъезде Хлестакова. Не забудем о его инфернальной природе. По пьесе Хлестаков проносится как карикатура на грядущее возмездие, но к финалу карикатуру сменяет оригинал, смех сменяется ужасом, и чиновники застывают в «немой сцене», лишая пьесу конца. Гоголь зря огорчался по поводу того, что его пьеса «как будто не кончена». Вышло то, что было заложено в пьесе: застывшие в нелепых позах чиновники лишь сделали этот смысл очевидным. Им удалось то, чего не сумел сделать Хома Брут, когда стоял перед Вием в церкви посреди мелового круга.
Меловой круг
«Бегство» из текста объясняет лишь половину дела: ведь бегство – это итог, финал того движения, той дороги, образ которой присутствует у Гоголя постоянно. Чичиков в прямом смысле едет всю дорогу; Хлестаков дан в эфемерный миг остановки на его фантасмагорическом и бессмысленном пути; игроки всегда в дороге; в «бегах» майорский нос.
Движение очень важно для Гоголя: движение как инструмент, способ защититься от угрожающего хода времени. Если поделить целое человеческой жизни на периоды детства, молодости, зрелости и старости, то окажется, что выбор Гоголя падает на период зрелости, он тяготеет к середине, к центру человеческой жизни (другим, например, был выбор Достоевского, Толстого или Платонова, для которых необычайно важны темы рождения-детства и старости-смерти). Гоголь же, держась центра, боится периферии: он не хочет смотреть ни в сторону старости и смерти, ни в сторону детства и особенно рождения. У Гоголя тема детства и старости почти целиком отсутствует. Зато «средний возраст» представлен во всех своих вариантах. Гоголевские персонажи, как это давно уже было замечено, почти все как есть – уже готовые, уже взрослые, созревшие до средних лет люди. Они – уже оформлены, подобно Акакию Акакиевичу, который «видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове».
Странно выглядит поле «жизни» у Гоголя: оно сужено до точки центра, хотя сам центр в сугубо пространственном смысле имеет вид довольно величественный и обширный. «Центр» узок в символическом отношении («Невский проспект» – вытянутый центр). Чаще же всего смысл движения по центру, через центр реализуется у Гоголя на просторах степных, где мчатся во весь дух «птицы-тройки», «коляски» и «брички». Убегают Хлестаков, Чичиков, Подколесин, убегает майорский нос. Куда или отчего? Вернее все-таки второе. Убегают от свадьбы, от разоблачения, от наказания. Трагедия гоголевских персонажей в том, что они целиком принадлежат жизни, полностью игнорируя и то состояние, которое ей предшествовало, и то состояние, которое может последовать за ней.
Слабые намеки на спасительную утробу, явленные в «Шинели» и «Коляске», остаются лишь намеками. Капот-утроба Акакия Акакиевича уже с самого начала дан как что-то негодное, ненадежное: в капоте уже нельзя было более жить, с ним – хочешь не хочешь – надо расставаться. Согнувшийся, как ребенок в утробе, Чертокуцкий тоже обречен. Когда офицеры видят его спрятавшимся под кожаным фартуком коляски, его тайна перестает быть тайной: бегство Чертокуцкого назад в утробу, давным-давно им забытую, оказалось неудачным. Она не приняла, отторгла его. Гоголевские люди – взрослые люди, забывшие о своем рождении, детстве. Их тем более не интересует старость и смерть. Они живут так, будто никогда не рождались, не были детьми и никогда не состарятся и не умрут. Гоголевские люди самодостаточны, равны себе: оттого их не интересует даже любовь, ибо в ней они интуитивно ощущают опасность изменения их статуса через зачатие и рождение новой жизни, как бы оттягивающей на себя то право на существование, которое принадлежит только им. И Подколесин, и Хлестаков (и потенциально Чичиков) убегают от свадьбы.
Гоголевские люди находятся на середине пути, ведущего от утробы к могиле. Они бегут, чтобы избежать и того и другого. Движение от – вот что составляет подоплеку движения у Гоголя. Это движение от полюсов, может быть, не вполне ясно представляемых, но тем не менее в равной степени непривлекательных. Однако, двигаясь от чего-то, начинаешь поневоле приближаться к чему-то другому. Так возникает парадоксальное желание двигаться, оставаясь при этом на одном и том же месте; так возникает надежда на то, что начатое движение прервется, застынет где-то в метафизической области: кажется, будто есть движение, а на самом деле его нет. Застыть в центре чаемого «мира» жизни, застыть, двигаясь, убегая от надвигающейся и грозящей периферии, – такова мечта. «Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет». Чичиков выезжает из города и исчезает в неизвестности: как он едет, никто не знает; Чичиков петляет, вольно или невольно он ездит по кругу.
Вариант движения, соединенного с неподвижностью, дает «Коляска». Очень выразительна птица, которая не может долететь до середины Днепра. Эта сколь известная, столь и непонятная фраза, не однажды уже вменявшаяся Гоголю как неудачная, приобретает осмысленность, когда мы читаем ее с избранным настроем. В каком смысле «не долетит»? Не долетит и утонет в Днепре? Не долетит и вернется назад? Но тогда это то же самое, что и долетит, так как речь идет о «середине» Днепра. Не долетит, так как даже и пробовать не станет? Или не долетит потому, что лететь придется не через реку, а вдоль, по-над ней? Гоголь, конечно, говорит «до середины», имея в виду «через», однако Днепр не случайно именно в этом отрывке показан как море безбрежное. В каком-то смысле у такого Днепра – везде середина, поэтому, как ни стремись к ней, все равно не долетишь. Вообще, в этой странной фразе слышится, как кажется, не только гордость за громадность Днепра, но и что-то другое: своего рода успокоенность тем, что до середины все равно не удастся добраться. Я специально привел всю эту раскладку, для того чтобы показать присутствующий в ней смысл незаканчивающегося движения, движения, не достигающего поставленной цели, движения-остановки (в «Коляске» эта тема вырастает до размеров целого происшествия, указывая на явный интерес Гоголя к парадоксальному соединению противоположных интенций). «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? (…) куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа». Есть движение, есть бешеный бег коней, но нет ясной траектории движения, нет начала пути и его конца.
Бегство «от» – для Гоголя наиважнейший, хотя и глубоко скрытый мотив движения. Наблюдать «коловращение жизни» – лишь общая фраза, которой отделывается Чичиков: причина движения – в надвигающемся откуда-то сзади, с боков страхе. Открытые, пустые, безлюдные пространства, по которым бегут гоголевские герои, полны опасности. Она приходит с периферии, из неясных областей рождения и смерти, лежащих за горизонтом ровного и гладкого поля жизни, но все же дающих себя почувствовать, а иной раз и увидеть, – как в «Страшной мести», что-нибудь вроде рук огромных, которые вдруг появились где-то на горизонте, появились и пропали. Главное – не задерживаться на месте; онтологическую подоплеку движения Гоголь ощущал очень остро: двигаться – значит надеяться избегнуть смерти. Гоголь бежал от нее всю жизнь. Толстой – лишь однажды, но смысл его ухода был все тот же. Герои Гоголя бегут, тайно надеясь раствориться в беге, исчезнуть или хотя бы остаться неузнанными, незамеченными. Это похоже на детскую беготню с закрытыми глазами. Бежишь куда-то, но не видишь дороги, и кажется, что никто не видит и тебя. Ехавший в темноте Селифан говорит Чичикову: «Кнута не видишь, такая потьма!» «Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз» – так и Селифан, «не видя ни зги» остановился «тогда только, когда бричка ударилась оглоблей в забор и когда решительно уже некуда было ехать». Очень похоже пересекал площадь и был остановлен в роковую для себя ночь Акакий Акакиевич: «Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. “Нет, лучше и не глядеть”, – подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами». Рок настиг Акакия Акакиевича посреди «бесконечной», похожей на море пустой площади. Это близко к тому смыслу, который стоит и за едущим в бричке Чичиковым, и за птицей-тройкой, и за летящей к середине Днепра птицей. Независимо от того, указан мотив слепоты (темноты) или не указан, есть главное – движение в неопределенном пространстве с неясной перспективой и целью пути.
Однако и центр – «середина Днепра» или середина площади – оказывается не менее опасным, чем темные, чреватые неясными возможностями и опасностями окраины. Добраться до центра можно, но дальше – уже не пройти. Двигаться или нет? Движение побеждает, оно зачаровывает своим ритмом, дарит надежду; движение возбуждает, рождает задор, помогающий забыть о цели пути, вернее, о его бесцельности. Движение превращается в самоцель: можно мчаться в темноте, с закрытыми глазами, по кругу и при этом держать путь к середине, к чаемому центру, интуитивно понимая при этом, что достижение центра чревато паузой, остановкой, которая превратит центр в периферию и разбудит мощные силы смерти и рождения. Эта смысловая двойственность дает возможность понять, почему для Гоголя наряду с движением был так важен и смысл движения остановленного, смысл оцепенения, полной неподвижности, наступавшей в тот миг, когда человек действительно оказывался в самом центре пространства.
В «Вие» смысл оцепенения посреди пространства явлен с такой же силой, как и смысл движения в эпизоде из «Шинели», где Башмачкин стремится как можно быстрее перебежать огромную пустую площадь. В «Вие» Хома Брут стоит посреди церкви в самом центре начертанного им круга. Он достиг точки центра. Силы периферии ворвались внутрь церкви и кружат перед ним, не имея сил пробиться сквозь магическую преграду. В самый решительный миг от Хомы требуется лишь одно – закрыть глаза и застыть, чтобы убедить периферию в том, что центр пуст и чист. Логически движение и абсолютная неподвижность, усиленная к тому же «слепотой», равнозначны: и первое, и второе помогают исчезнуть в пространстве.
Однако убегать все же как будто естественнее: застывший в круге Хома не выдерживает испытания неподвижностью и открывает глаза, становясь добычей смерти. Не спасает неподвижность и героя «Коляски»: ее финал – это уже жест в сторону материнской утробы, а не смерти, но жест опять-таки в сторону периферии. Здесь идея движения и идея неподвижности сходятся воедино, давая своеобразный натуральный оксюморон, где есть ложное движение, иллюзия бегства. Спрятавшийся в неподвижно стоящей коляске Чертокуцкий одновременно едет и не едет, он тоже как бы растворяется в пространстве, но лишь до тех пор, пока его вдруг не обнаруживают изумленные гости. Хома Брут стоял вытянувшись во весь рост; Чертокуцкий же сидел в «утробе» коляски под кожаным фартуком и к тому же согнувшись «необыкновенным образом» – совсем как неродившийся еще младенец. Хому поразила смерть, Чертокуцкого – утроба, и хотя уход Чертокуцкого в чертог дородового бытия достаточно условен, приехавшие гости ведут себя вполне ритуально, оставляя Чертокуцкого там, где его настигла периферия: не случайно генерал «закрыл опять Чертокуцкого фартуком и уехал вместе с господами офицерами».
В этом же ряду оказывается и финал «Ревизора» с его «немой сценой», которая оказалась непонятной ни актерам, ни зрителям. Гоголь и здесь хотел соединить несоединимое – движение и оцепенение, актеры должны были замереть в тех позах, в каковых их застигло известие о приезде настоящего ревизора. Скорее всего, досада Гоголя по поводу неправильно сыгранной «немой сцены» (пьеса вышла «как будто не кончена») была напрасной. Иного эффекта и быть не могло и, наверное, только многие десятилетия постановки «Ревизора» на театре приучили зрителя к этой странной концовке: эстетика новизны сменилась эстетикой тождества, главным стало не непосредственное удивление, а интеллектуальное ожидание «немой сцены», знание о ней, предвкушение ее. Пьеса стала казаться вполне законченной, но произошло это вопреки замыслу самого Гоголя, так как из неожиданной и странной, «немая сцена» стала привычной и ожидаемой, потеряв при этом большую часть своего исходного пафоса.
Герои «Ревизора» остаются на сцене, застыв в тех положениях, в которых их застало сообщение о приезде правительственного чиновника. В метафизическом смысле они застывают навсегда, подобно духам из «Вия»: ведь о дальнейших событиях ничего не известно. Что касается «Вия», то здесь застывшие чудовища содержат свою проблему, смысл которой заключается в том, что неясным остается смысл их бегства. При свете дня они намеревались выбраться из церкви через окна и двери, то есть выйти наружу, в открытый солнечный мир. Отчего подземное пыталось спастись в мире света? Гораздо естественнее (если так можно выразиться в данном случае) было бы спасаться в углах, потайных щелях, ведущих в церковный подпол. И если общая судьба постигла всех духов, то означает ли это, что и Вий так и остался навеки стоять посреди церкви перед распростертым в меловом круге Хомой?
* * *
Гоголь держится середки жизни. Он радуется всему, что полнокровно, насыщено силой; он любит жизнь в ее полдне. Гоголь любит внешний вид предметов, материя улыбается ему своим «чувственным блеском» (лучше и не скажешь). Крепость, надежность вещи в сочетании с ее гладкостью и блеском. Особенно хорошо это видно в материи одежды. Особый смысл одежды, о котором я уже говорил ранее (одежда – второе тело), рождает мечту о «вечной», неизносимой оболочке. Такова знаменитая бекеша Ивана Ивановича. Она блестит и сверкает («бархат! серебро! огонь!») и почти не поддается разрушительному воздействию времени. В таком же ключе осмысливается и цвет чичиковского фрака – «наваринского пламени с дымом» и с «искрой».
Гоголь ощущает вещество как нечто живое. Я имею в виду не антропоморфизм и не абстрактное экологическое сочувствие веществам и предметам, а языческое ощущение присутствия в предметах живой силы. Оттого бекешу Ивана Ивановича хочется съесть («взгляните с боку: что это за объедение!»), оттого так растут в своих размерах, в своей невероятности гоголевские арбузы или шаровары. Возможно, в идее живого роста и следует искать объяснения гиперболизму у Гоголя. Преувеличенный размер – это проявление жизненной силы, спелости, зенита жизни: полдневное, ярое солнце в середке жизни, таким образом, и логически, и натурально оказывается связанным с идеей роста и спелости. Ощущая тоску и ужас пустых огромных пространств, Гоголь пытается с ними бороться не только при помощи «быстрой езды», но и за счет увеличения размера предметов; он заполняет пустое пространство плотными, большими, полными жизненной силы предметами. Гоголевский протест против пустоты еще неотчетлив, неоформлен, в отличие, скажем, от программных действий А. Платонова, однако исходный мотив, идея противостояния смертельной пустоте в обоих случаях оказывается одной и той же.
В этом же ключе, помимо всего прочего, может быть прочитано и знаменитое гоголевское рассуждение о господах «средней руки» и их преогромных желудках в «Мертвых душах». Тема еды – глубоко онтологична, и если она введена в контекст переживаний о пустоте и плотности, об отсутствии вещества и его присутствии, то невольно оборачивается темой съедения мира, помещения мира внутри себя. Человек становится миром, он заполняет себя до отказа его веществом, делается самодостаточным и уже не нуждается ни в продолжении себя в детях, ни в возвращении к детству и тем более к породившей его родительской материи. Это – полдень телесного бытия: время остановки, оцепенения, находящего отклик и в гоголевской поэтике «живых картин». Вместе с тем это и пауза, смысловое зияние, в продолжение которого сквозь фактуру телесности, взятую в ее гротесковом ключе, начинают проступать очертания тела духовного, мистического, чаемого. В этом смысле от гимна еде до аскетизма – всего один шаг, который Гоголь в конце концов и сделал.
Странный голос, который Гоголь услышал однажды в детстве посреди солнечного полдня, наполнил его душу паническим ужасом, ушел в глубину существа, повернул его к тайне смерти, к тайне жизни в ожидании смерти. О смерти думает каждый человек, но редко кто может ощутить смерть как насущную и поражающую воображение реальность. Гоголь боялся тех болезненных минут «жизненного окаменения», которые иногда с ним случались. Его скитания – это не только бегство от ужаса надвигающейся периферии, но и страх перед остановкой, чреватой опасностью полной неподвижности и окаменения. И первое, и второе, как я пытался показать, сказались в его художестве в степени немалой. Окружив себя меловым кругом символических решений, Гоголь надеялся спрятаться в нем от окружавших его врагов. Естество раздваивалось, душа неслась, как птица-тройка, к неведомой и чаемой красоте, а тело камнем лежало на земле, врастало в нее заживо. Оттого так сочетаются в Гоголе забота о будущем души и страх о здешней судьбе тела, сказавшиеся и в просьбе не погребать тела до тех пор, «пока не покажутся явные признаки разложения», и в желании быть похороненным если не в самой церкви (центре пространства), то хотя бы в ограде церковной. Гоголевские бесконечные скитания и его болезнь, когда «сердце и пульс переставали биться», а тело замирало в странном оцепенении, придают трагический оттенок и летящим по просторам его прозы коляскам и бричкам, и застывшим наподобие «живых картин» персонажам. Гоголевское неприятие смерти оставило свой след на всем последующем развитии русской литературы. Гоголь же был последователен неумолимо: он не только жил и мучился своей «мечтой», но и в конце концов умер от нее.









































