Текст книги "Гоголь в тексте"
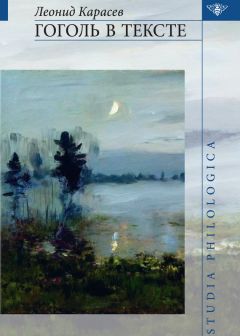
Автор книги: Леонид Карасев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Nervoso Fasciculoso
(О «внутреннем» содержании гоголевской прозы)
– Как отчего скучать? – оттого, что скучно. – Мало едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать.
Н. Гоголь. Мертвые души.
Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся кони, и несите меня с этого света!
Н. Гоголь. Записки сумасшедшего.
Слово «внутреннее» в подзаголовке не зря взято в кавычки. Дать название этим заметкам было куда труднее, нежели в случае с Чеховым, где я ставил перед собой задачу похожего свойства. Очерк «Чехов в футляре»[12]12
См. Карасев Л. В. Вещество литературы. М., 2001.
[Закрыть] назвался легко, поскольку речь там хотя и шла о теле, но все облегчалось «возвышенным», «облагороженным» характером предмета: дыхание в иерархии телесных проявлений занимает положение явно привилегированное; при всей своей физиологичности оно как будто не вполне нематериально, едва ли не духовно.
С Гоголем не так. Речь снова пойдет о телесном присутствии автора в тексте, о его «проекции» в текст, однако «внутреннее» здесь будет действительно телесным, даже подчеркнуто физиологичным. Сводить все к одному основанию, забывая о других возможностях, значит заранее упрощать задачу. Однако не менее вредно пытаться рассмотреть сразу все и во всех отношениях: подбор фактов неотъемлем от избираемой темы и аналитических процедур. Вот почему, выбрав определенную линию, я буду ее придерживаться, сознавая, что она составляет лишь часть гоголевского мира.
Часть, впрочем, весьма значимую. Речь даже должна идти не о «части» в обычном смысле слова, а о чем-то ином. Это не столько часть, сколько конструктивный принцип, проявляющий себя в самых различных гоголевских сочинениях и подводящий нас к вещам, которые имеют решающее значение для понимания гоголевской поэтики и судьбы. Обсуждая этот вопрос, а именно проблему телесной интервенции автора в создаваемый им текст, лучше всего начать с мотива «центра» или «середины».
Середина
У Гоголя она повсюду. Порой кажется, что все события происходят в центре пространства, просто в одних случаях это указывается, а в других нет. Причем важны не размеры, не объем пространства, а сам принцип нахождения в центре или стремления к нему. Хома Брут прячется от ведьмы в центре начерченного мелом круга; мертвая панночка – тоже находится в центре (гроб стоит посредине церкви). Нос майора Ковалева был спрятан в середине хлеба; к тому же, чисто топографически, нос – середка лица. Бедный чиновник лишается новой шинели, оказавшись посредине огромной площади. В центре Миргорода – площадь с лужей, а город, где происходит история «Ревизора», сам расположен посредине России («Отсюда хоть три года скачи, никуда не доедешь!). В «Тарасе Бульбе» на «самой середине дороге» спит запорожец. Герой «Пропавшей грамоты», добравшись до заветного места, бросает деньги в середину круга. Даже Невский проспект, хотя и протянулся линией через весь Петербург, всюду – сам себе центр и середина. Поясняя финал «Ревизора», Гоголь начинает с городничего, определив для него место ровно посередине сцены (то же самое повторяется и в «Предуведомлении к тем, кто захочет сыграть «Ревизора») и пр.
На уровне деталей тема середины также объявляет себя с удивительной настойчивостью. В «Мертвых душах» Чичиков – «господин средней руки», и вместе с тем он же охарактеризован как человек «средних лет» (у Гоголя почти все значимые персонажи – люди средних лет). Деревня Собакевича расположилась посередине между двумя рощами; отправившись к Плюшкину, Чичиков попадает в «середину обширного села» (береза в плюшкинском саду сломана тоже посередине). «Центр» присутствует и в сцене приезда Чичикова к генералу Бетрищеву: кони «внесли его в самую середину деревни».
В статье «Гоголь и онтологический вопрос» речь шла о гоголевской «середине», то есть времени, располагающемся между периодами детства и старости[13]13
Карасев Л. В. Онтологический взгляд на русскую литературу. М., 1995. С. 26, 27.
[Закрыть]. Ориентация на середину, таким образом, оказывалась пространственным эквивалентом идеи жизненного «полдня», «зенита», срединного положения на шкале возраста, своего рода равнодушия к периферии рождения и смерти. Не отказываясь от подобного варианта объяснения, я попытаюсь дать гоголевской «середине» еще одно истолкование (не исключены здесь и какие-то другие варианты), взяв в качестве отправной мысль об интервенции авторского телесного начала в создаваемый им текст. В этом случае мы можем пойти путем поиска аналогий: в «середине» литературной должна как-то сказаться «середина» телесная.
Набоков, вторя многим свидетельствам знавших Гоголя людей, писал о странно-телесном характере его гения: он называл живот Гоголя «предметом обожания», а желудок – «самым знатным внутренним органом писателя»[14]14
Набоков В. Лекции по русской литературе, М., 1995. С. 32.
[Закрыть]. Здесь нет преувеличения, скорее, можно даже говорить о недооценке той роли, которую играло в самоощущении Гоголя его пищеварение. Речь не столько о повышенном аппетите или интересе к описаниям еды, а о самом способе психофизической ориентации, о том, что можно назвать «символическим поглощением и перевариванием мира». Примеров гоголевского неумеренного аппетита или даже патологического обжорства имеется сверх меры в многочисленных описаниях его современников и в его собственных письмах. Внешние оценки «наблюдателей» и личные самопризнания почти совпадают друг с другом (я говорю лишь о теме еды). Гоголь называет обеды «жертвоприношениями», а содержателей ресторанов – «жрецами», он поражает окружающих своей способностью есть в несколько раз больше, чем обычный человек. И в то же время – постоянно жалуется на работу желудка, пишет друзьям о том, что пищеварение его работает не так, как положено, а каким-то особым образом. Он серьезно полагает, что «устроен совсем иначе, чем другие люди», что желудок его «извращен» (из воспоминаний П. В. Анненкова)[15]15
Цит по: Вересаев В. Гоголь в жизни. С. 291.
[Закрыть] или даже расположен «вверх ногами». Сам Гоголь, ссылаясь на диагноз одного римского врача, писал С. Т. Аксакову о том, что у него «поражены были нервы в желудочной области, так называемой системе nervoso fasciculoso»[16]16
Там же. С. 385.
[Закрыть].
Желудок, как «самая благородная часть тела» (из письма к Н. Прокоповичу)[17]17
Там же. С. 208.
[Закрыть], – своего рода центр чувствования и восприятия. Возвращаясь к разбору мотива «середины», прерванному этим «физиологическим» отступлением, попытаемся определить нашу задачу. Она не в том, чтобы связать многочисленные биографические свидетельства с описаниями еды или голода в гоголевских сочинениях, а в том, чтобы увидеть, как телесное начало сказалось в самом устройстве текста, вошло в него как органический принцип, повлияв на различные уровни повествования – от конструкции сюжета до мельчайших деталей и подробностей.
«Середина» и «желудок» связаны у Гоголя не только в отвлеченном, но и вполне конкретном смысле. Хома Брут решился бежать от сотника ровно в середине дня, после обеда, то есть когда желудки сторожей наполнились пищей. Уже упоминавшийся нос майора Ковалева обнаружился не просто в середине какого-нибудь предмета, а в середине свежеиспеченного хлеба: фактически, нос оказывается «вещью», предназначенной для съедения. В «Заколдованном месте» «середина» – это точка, где смыслы еды показываются дважды по ходу действия: в полдень после обеда герой повести пускается в пляс и попадает на «середину» («дошел однако ж до половины»), где и теряет способность двигаться, а затем на этом же самом месте он роет яму и находит котел, то есть вместилище для пищи, так сказать, внешний желудок. В «Тарасе Бульбе» Андрий, выйдя из подземного хода, оказывается на площади города, «посредине» которой он видит столы, оставшиеся от «рынка съестных припасов» («припасов» уже нет, но слово сказано). Сходный смысл «середины» присутствует и в названии повести «Сорочинская ярмарка» – ярмарка как центр города и мира, средоточие всякой всячины и, прежде всего, провианта. Характерно, что миргородский Иван Иванович, доверявший все свои ключи прислуге, ключи от «средней коморы» (т. е. от амбара с провизией) всегда носил при себе. Собственно, и само слово «Миргород» несет в себе оба интересующих нас смысла: в нем есть и успокоенность середины, и умиротворение сытости. Наконец, в «Мертвых душах» «середина» и «желудок» встают рядом в знаменитом пассаже о «господах средней руки» и их замечательных желудках. «Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей… Не один господин большой руки пожертвовал бы сию минуту половину имений, заложенных и незаложенных (…) с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки, но то беда, что ни за какие деньги, ниже имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки».
В самой «середине» замечательно то, что она объявляется как бы сама собой, когда автор берется за описание какого-либо предмета или ситуации. Гоголь чаще всего смотрит именно в центр, а уж затем обращает внимание на периферию, на то, что расположено по бокам. Посреди Миргорода – огромная лужа, все остальное – вокруг нее. Художник Чартков приносит домой купленный им портрет и ставит его «между двух небольших холстов»; не сбоку, а именно между ними, то есть посередине. Описывая устройство чичиковской шкатулки, Гоголь действует в том же духе: «Вот оно внутреннее расположение: в середине мыльница, за мыльницею…».
Центр может появляться и во время движения персонажа, в момент его приближения к цели. Это хорошо видно в «Мертвых душах» в сценах приезда Чичикова к Собакевичу, Плюшкину, Бетрищеву и Тентетникову (в последнем случае образовалась картина «точь-в-точь как лепят или рисуют на триумфальных воротах: морда направо, морда налево, морда посередине»). Гоголь как будто нарушает установленный «порядок» описания: центр упомянут в конце перечисления, однако общая фронтальная композиция, а следовательно, и идея симметрии, центра остается прежней (ср. с описанием Миргорода: «направо улица, налево улица» и т. д.).
У Гоголя дорога обычно заканчивается угощением, обедом, гостеприимным домом или трактиром посреди пути (в этом смысле дорожный тракт и трактир оказываются не только метафорами пищеварительного тракта и желудка, но и соответствуют им словесно). Если провести аналогию между этой связкой и реальным «пищевым сюжетом», то есть проглатыванием пищи и ее движением к желудку как к месту успокоения, то общая картина «центра» или «середины» в гоголевских текстах получит дополнительный смысловой оттенок. Где «середина» – там и насыщение, во всяком случае, показательно то, что в двух уже упоминавшихся примерах из «Тараса Бульбы» рядом с серединой появляется и еда: запорожец лежал посреди дороги на въезде в хлебосольное предместье Сечи, а Андрий оказался посреди рынка «съестных припасов».
Связь середины и еды может быть и более опосредованной, хотя и не менее прочной. Например, в «Майской ночи…» Левко узнает ведьму среди играющих девушек по черному пятну внутри тела («внутри его виделось что-то черное»). Здесь важны два момента: во-первых, то, что во время игры ведьма исполняла роль ворона – пожирателя цыплят, во-вторых, то, что пятно находилось внутри ее тела. Что значит «внутри»? В гоголевском случае «внутри» – это почти всегда в центре, посередке (нос внутри хлеба и вместе с тем «посередине» его, Хома внутри и одновременно посередине круга и пр.). В «Мертвых душах» в сцене пребывания Чичикова у Петуха середина также напрямую не упомянута, однако ее смысл в соединении с темой еды, обжорства проступает со всей определенностью. Во время обеда Петух («круглый барин») предлагает Чичикову съесть еще один кусок телятины, тот отказывается, говоря, что в желудке у него уже нет места. «Да ведь и в церкви, – замечает Петух, – не было места. Взошел городничий – нашлось (…) Вы только попробуйте: этот кусок тот же городничий». Чичиков попробовал: «…действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место, а казалось, ничего нельзя было поместить». «Церковь» – это и есть круг. Где стоять городничему, как не в посередине круга? Он хозяин в городе, его место – в центре (как в «Ревизоре» в «немой сцене», где задействованы почти все персонажи пьесы: «посередине городничий»).
Чрезвычайный обед у Петуха, преизобилие еды и тяжелая сытость Чичикова дают нам ключ к пониманию того, что принято называть гоголевскими «гиперболами» или «преувеличениями».
Преувеличения
Во многих из них достаточно ясно проступает та же самая тема, что и в смысловом окружения «середины» и «центра». Я не хочу сказать, что преувеличение у любого автора непременно должно быть связано с темами еды или желудка; возможности этого приема (и всех тех, что будут рассмотрены далее) гораздо шире. Однако в гоголевском случае гипербола оказывается инструментом, идеально соответствующим нуждам «сюжета насыщения».
Преувеличение – как идея, как конструктивный принцип. Гоголь прибавляет вещам объем; ему нравится вещь, перерастающая свои обычные размеры. «Образ» желудка, то есть некоторого объема, который желает быть заполненным до отказа, здесь соединяется с идеей живого вещества, еды как таковой, ее чрезмерного изобилия. Образцовым примером тут идут гиперболы Ноздрева: если он что-то преувеличивает, то почти всякий раз – на гастрономическую или близкую ей тему. Знаменитые «семнадцать бутылок шампанского», выпитые им единолично в продолжение обеда; рассказ о пойманной в пруду рыбине («рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку») и зайцах, которых было столько, что «земли не видно», – всюду преувеличения, за которыми стоит тема аппетита и обжорства.
Та же картина и у Собакевича. Сначала упомянуты «ватрушки», каждая «гораздо больше тарелки», затем – «индюк ростом в теленка». Индюк, впрочем, и сам похож на желудок. Это еда в еде или еда в мешке: индюк был набит «яйцами, рисом, печенками и нивесть чем, что ложилось комом в желудке» (упоминание желудка здесь очень показательно). В заключение обеда – еще одно преувеличение, снова гастрономическое: «… когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше». Из этого же ряда в «Мертвых душах» – «арбуз-громадище» размером с «дилижанс» и знаменитое «руло» дамского платья, которое во время обедни «растопырило» на «полцеркви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подалее». Еды как таковой здесь нет, зато есть «обедня»; и где-то поблизости маячит тот самый «кусок-городничий», которому нашлось место и в церкви, и в желудке.
В преувеличении как таковом вообще заложена идея роста, увеличения размера, то есть в конечном счете идея питающейся и разрастающейся жизни. В «норме» этот смысл в гиперболе лишь угадывается, не претендуя на всеобщность. У Гоголя же – он сам стал своеобразной гиперболой, оборачивающейся то шароварами миргородского Ивана Ивановича, в которые входил «весь двор с амбарами и строением», то бабушкиными карманами, куда «можно было положить по арбузу», то столом с яствами, протянувшемся «от Конотопа до Батурина» («Пропавшая грамота»).
Разбор далеких на первый взгляд от гастрономической темы гоголевских гипербол показывает, что идея живого роста, то есть питания, присутствует и в них. Тут окажутся и исполинские сапоги Собакевича (вспомним о его аппетите), и «нескончаемые усы на портрете», и мальчик в огромных сапогах из дворни Плюшкина, и его «двойник» в «неизмеримом сюртуке» из повести о миргородских обывателях. Все либо уже напиталось и выросло, либо собирается это сделать, примеряя будущие размеры впрок, как бы бронируя себе место для дальнейшего телесного роста. Любопытный пример неосознанного «вживания» в гоголевский контекст дает в своей книге о Гоголе А. Белый. Завершая раздел о гиперболах, он внешне немотивированно вдруг переходит на пищеварительный лексикон: «Гоголь отравился гиперболами».
Апофеоз гастрономии – хлестаковский арбуз в семьсот рублей. Для героя «Ревизора», готового, по его словам, съесть «весь свет», такой арбуз – в самый раз. Это уже вопрос не столько поэтических гипербол, сколько диктата желудка, который нередко оказывается одним из главных двигателей сюжета.
Двигатель сюжета
Замечательной особенностью многих гоголевских сочинений является то, что читатель постоянно держит связь с желудком персонажа, почти реально ощущая, сыт герой в данный момент или голоден. Сюжет насыщения идет рука об руку с сюжетом событийным или даже во многом готовит и предопределяет его. Если у Достоевского или Толстого описания еды или голода имеют необязательный характер и уж во всяком случае мало влияют на ход событий, то у Гоголя движение сюжета в значительной степени подчиняется воле желудка (для сравнения, у Достоевского еда выступает скорее как необходимость, как условие поддержания жизни, а не как цель).
Аппетит ведет гоголевских героев вперед, подсказывая, какие шаги нужно делать в каждом случае, в каком направлении двигаться, чтобы не остаться «без обеда». В «Старосветских помещиках» власть еды сказывается не только по ходу всего действия, но даже и в «возвышенном» финале (Иван Иванович «оживает» лишь в тот момент, когда упоминается любимое кушанье его покойной жены). Так же построен «Вий» с его двусторонней оральной агрессией (вечно голодный Хома и стучащая зубами панночка). Запах свежеиспеченного хлеба задает направление сюжета в «Носе»: с еды все, собственно, и начинается. В истории о Шпоньке и его тетушке в начале также лежит инцидент, связанный с едой: учитель наказывает мальчика за съеденный на уроке блин, и это событие изменяет характер героя и его судьбу. В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» еда поддерживает и завершает – ход действия (или, вернее, делает его принципиально открытым): герои должны были примириться на обеде у городничего, где их нарочно усадили друг напротив друга. В «Мертвых душах» утомительный торг Чичикова с Коробочкой (дело, которое «яйца выеденного не стоит») разрешается в его пользу лишь в тот момент, когда он заговаривает о «казенных подрядах», то есть о муке, крупах и мясе. Особенно последователен Гоголь в «Ревизоре». Речь не о том, что число упоминаний о еде здесь велико и разнообразно. В «Ревизоре» еда и желудок стали одной из основ, на которой держится сюжет пьесы и психология главного героя.
Хлестаков персонаж отмеченный. Хотя все обитатели «Ревизора» любят поесть, очевидно, что тема еды привязана прежде всего именно к нему: о еде говорится только тогда, когда появляется Хлестаков. Из пяти действий комедии он участвует в трех, и именно в них сосредоточены все упоминания о еде, желудке и аппетите. Первая фраза Хлестакова, с которой он появляется в пьесе: «Черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая…». Последняя (в том же явлении): «Ах, Боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел». Названный порядок обхватных гастрономических «рифм» сохраняется и далее. Как правило, о еде или голоде говорится в начале сцены или в конце (а нередко и там и там). Особенно показательно первое действие, где это правило выдерживается с точностью необыкновенной: во всех десяти сценах Хлестаков говорит о еде. Сначала он просит подать обед, потом ест, потом снова говорит о голоде («Право, как будто и не ел»). Даже когда к Хлестакову приходит городничий, то первым делом речь заходит о еде. В финале первого акта Хлестаков пытается заплатить за обед, а городничий в это время пишет жене записку насчет угощения гостя.
Во втором действии мы видим то же самое. В начальных трех сценах Хлестакова нет – и еды тоже нет. В четвертой показывается Осип («представитель» Хлестакова), и сразу же речь заходит о еде. Пятую сцену открывает Хлестаков: «Завтрак был очень хорош. Я совсем объелся». В шестой – тема еды звучит вновь и набирает полную силу: арбуз в семьсот рублей и суп из Парижа. Последняя фраза этой сцены также о еде: Хлестаков говорит, что доволен обедом и повторяет понравившееся слово «лабардан». В следующих трех сценах еды нет, потому что Хлестаков спит сытым сном, зато, когда в десятой сцене появляется Осип, разговор о еде сразу же возобновляется. В последней сцене нет ни Хлестакова, ни Осипа, – и еды тоже нет.
Действие четвертое. Вначале все идет прежним порядком: появляется Хлестаков со словами о вчерашнем угощении. Затем на протяжении шести сцен он занят важным делом (занимает у чиновников деньги): ему не до еды. А затем начинаются дела «амурные», с едой опять-таки несовместимые. Хлестаков объясняется с дочкой и женой городничего, уезжает из города и из пьесы, не забыв, однако, поблагодарить городничего за «хороший прием» и «гостеприимство».
Наконец, пятое действие. Хлестаков уехал, но его присутствие еще ощущается. И сказывается оно как раз в те моменты (или провоцирует их), когда упоминается еда: во время чтения письма Хлестакова, где он вспоминает о голодной юности и обедах «нашаромыжку», или при обсуждении будущей сытой жизни в Петербурге.
Вся эта раскладка приведена для того, чтобы показать, насколько крепко Гоголь держится связки «Хлестаков-еда». Причем важно, что сами упоминания еды чаще всего открывают или закрывают различные по своему объему разделы пьесы, связывая их между собой. Происходит нечто вроде перетекания ведущего смысла из одной сцены в другую; он обнаруживает и осуществляет себя на границах разделов, обеспечивая тематическую и структурную преемственность и превращая весь текст в подобие реального живого организма, испытывающего голод, насыщающегося, растущего. Динамика телесной жизни, голода и насыщения здесь перерастает в динамику сюжета или, во всяком случае, поддерживает его и направляет.
Характерно, что там, где объявляется власть женщины – непосредственная или символическая – тема еды отступает на задний план, и сюжет развивается без оглядки на желудок. Мы только что видели это на примере «Ревизора»; таковы же «Женитьба», «Невский проспект» или «Игроки» (в последнем случае речь идет о карточной колоде с женским именем). Для сравнения, в «Вие», где тема еды имеет значение первостепенное, видно, насколько прочно сюжетная основа связана с диктатом желудка. Сначала голод загоняет философа на подворье к ведьме: привык нув съедать на ночь «полпудовую краюху хлеба и фунта четыре сала», он ощущал «в желудке своем какое-то несносное одиночество». Обильное угощение и выпивка удерживают Хому и в усадьбе сотника: вместо того, чтобы сразу унести ноги, он объедается за обедом, заглушая таким образом свой страх перед ведьмой («голод (…) заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей»). Хома наедается вдоволь и идет в церковь. После первой страшной ночи вновь побеждает желудок: съев поросенка и выпив кварту горелки, Хома чувствует в себе полное примирение и «необыкновенную филантропию». «После обеда, – пишет Гоголь, – философ был совершенно в духе». Даже когда после второй ночи он, наконец, решился бежать, то и здесь свое слово сказали пища и сытость. Хома выжидает «послеобеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараем». Иначе говоря, он приводит свой план в исполнение лишь после того, как сторожа набивают желудки и засыпают сытым сном. Наконец, к этому же смысловому ряду относится и поведение разгулявшейся ночью нечисти. Здесь Гоголь дает своеобразную «рифму», указывающую на связь, существующую между Хомой и ведьмой. Мертвая панночка ударяла «зубами в зубы», пытаясь прорвать меловой круг на полу церкви, Хома же стучит зубами, когда перелезает через забор сотниковой усадьбы.
Повесть «Нос» дает еще один любопытный пример сюжетообразую-щей роли еды. Мы не в силах обсуждать вопрос о том, насколько она была осознана автором, однако о фактической стороне дела можно говорить с достаточной определенностью. Речь идет о бегстве носа в Ригу. Здесь важен и сам факт бегства, и «Рига». На уровне «пищеварительного сюжета» бегство носа сопоставимо с событием, с которого, собственно, и начинается эта странная гоголевская повесть. Нос был найден в хлебе, то есть потенциально был «предназначен» для съедения. Все так бы и случилось, если бы цирюльник не разглядел в хлебе посторонний предмет. В финале, если говорить о логике или о «форме» событий, произошло нечто подобное. Нос собирался уехать в Ригу и сделал бы это, если бы не полицейский чиновник, разглядевший, что перед ним не господин, а обыкновенный нос («к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос»). Я не хочу полностью уравнять оба этих факта, тем более что в одном случае речь идет о съедении носа, а в другом – о его бегстве. Однако в обеих ситуациях сходств больше, чем различий. В ситуации бегства как будто нет ничего «гастрономического», однако это только на первый взгляд. Вспомним, что нос направлялся не в какой-либо иной город, а именно в Ригу. Название города, таким образом, совпадает со словом, имеющим прямое отношение к хлебу: «рига» – это молотильный сарай, овин, ток, то есть место, откуда начинается путь хлеба. Вместе с тем «рижный», или «рижский», хлеб – тот, что выпекался из темной рижной муки; поэтому, собственно, цирюльник и смог рассмотреть в нем «что-то белевшееся». Иначе говоря, в финале повести нос намеревался вернуться туда же, откуда был извлечен в начале, – в хлеб.
Отдельного разбора стоят и «Мертвые души». Здесь все более размыто, чем в «Ревизоре», «Носе» или «Вие» (что связано с размерами повествования и его жанром), однако что касается состояния чичиковского желудка, то о нем читатель всегда имеет довольно точное представление. Гоголь повсюду расставляет вехи, указывающие на то, сыт его герой в данный момент или нет. Поэма открывается картиной въезда Чичикова в город N: его первый день начинается с обеда в гостиничном трактире и заканчивается «порцией холодной телятины» и «бутылкой щей». А далее – по главам – идут восхитительные описания чичиковских пиршеств, с соблюдением общей композиционной последовательности: чувство голода – волнующие желудок ароматы – еда – отдых. Обеды в трактирах (поросенок с хреном и со сметаною), обеды у помещиков, обеды с чиновниками. Все это выписано с истинным физиологическим сладострастием, так что читатель становится «частью» Чичикова, разделяя с ним его удовольствия и воспринимая каждое новое блюдо с каким-то уже не вполне литературным интересом. Все это построено так, что даже отсутствие еды воспринимается как нечто значимое. У Плюшкина, например, Чичиков не обедал, что – на фоне предыдущих гастрономических описаний – выглядит как нарушение, некая неправильность или несообразность. Впрочем, Гоголь не дает Чичикову по-настоящему проголодаться, напоминая, что он перед этим изрядно объелся у Собакевича. Да и завершается глава в обычном для Гоголя ключе: Чичиков возвращается домой, после чего следует «легкий ужин, состоявший только в поросенке» и – крепкий сытый сон.
По своей структуре (если говорить о теме еды) «Мертвые души» напоминают «Ревизор». Голод и насыщение здесь также приурочены к границам глав; особенно в этом отношении показательна сцена отъезда Чичикова из дома Коробочки, где в последних строках главы показывается трактир, а затем в начале главы следующей идет диалог Чичикова с трактирным слугой по поводу поросенка с хреном и со сметаною. Упоминания еды и аппетита, как и в «Ревизоре», идут в каждой главе, образуя ее смысловой и композиционный центр (за едой Чичиков решает все важные вопросы). Однако ближе к концу первого тома еда сходит на нет, заменяясь, как и в «Ревизоре», женской темой. В «Мертвых душах» еда – дело мужчин. Женщины здесь не едят вовсе, в лучшем случае – угощают, как хлебосольная Коробочка, или присутствуют на обеде; понять, едят они что-либо или нет, довольно затруднительно. Заключительные главы поэмы отданы интригам, разговорам дам города N, губернаторской дочке, неясным матримониальным мечтам Чичикова и общей чиновничьей суматохе. Пафос чревоугодия и пиршества сменяется настроением упадка и усыхания. Город «съеживается», худеет не только в метафорическом (как это можно видеть в других гоголевских вещах), но и буквальном смысле. Если сравнить город N с желудком, то в нем случается нечто вроде «несварения»: «мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались» – «заварилась каша» (ср. со сходной ситуацией неразберихи и непонимания в ситуации с Маниловым: мысль о просьбе Чичикова «не варилась в его голове»). Гоголь сравнивает положение города с положением осажденных или голодающих; никто не получал новых известий и «комеражей», что «для города то же, что своевременный подвоз “съестных припасов”».
Было у этого «несварения» и соответствующее ему по смыслу следствие. Гоголь начинает десятую главу «Мертвых душ» с описания внешнего вида городских чиновников, несколько раз повторяя одно и то же: «Собравшись у полицмейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города, чиновники имели случай заметить друг другу, что они даже похудели от этих забот и тревог. В самом деле (…) все это оставило заметные следы в их лицах, и фраки на многих сделались заметно просторней. Все подалось: и председатель похудел (…) и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии (…) даже и тот похудел». Собственно, и помещенная в финал «Мертвых душ» история о капитане Копейкине по своему духу также соответствует общему настроению. Опуская «социальную» сторону этой новеллы, замечу, что фактически она рассказывает о физическом истощении человека, который никак не мог получить денег на пропитание. Гоголь подробно описывает голод, терзающий капитана Копейкина, и те гастрономические соблазны, которые подстерегают его на каждом шагу – витрины с котлетами, трюфелями, семгой и арбузами. Не выдержав мук, капитан подается в разбойники: очередной пример, демонстрирующий силу гоголевского «сюжета насыщения».
Умеренностью и воздержанием веет от последних страниц первого тома поэмы. Что уж говорить о других, если даже Ноздрев «исхудал и позеленел»! В финале царствует дорога, даль, быстрая езда и «невыносимый аппетит в желудке». «Желудок» оказывается рядом с наиболее возвышенными и мистически окрашенными пассажами книги. Грезя о Руси, тройке и неведомой дали, Гоголь говорит о собственном дорожном опыте, не забыв упомянуть о столь важной его черте, как голод в пути. Это упоминание желудка в контексте, где он вроде бы не ожидался, подталкивает нас к тому, чтобы внимательнее присмотреться к самому «благородному», как называл его Гоголь, из телесных органов, к тому какие виды и образы он принимает.









































