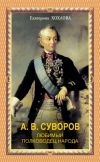Текст книги "Генералиссимус Суворов"

Автор книги: Леонтий Раковский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Леонтий Раковский
Генералиссимус Суворов
Часть первая
Глава первая
Подполковник Суворов
Потомство мое прошу брать мой пример.
Суворов
I
Русская армия шла вперед.
Вся дорога, насколько можно окинуть глазом, была запружена повозками и пушками, людьми и лошадьми. Из лощины на гору, с пригорка в дол, сквозь перелески и буераки, мимо чистеньких немецких мыз и деревень бесконечной вереницей один за другим тянулись полки.
Побуревшие от солнца и пыли зеленые кафтаны мушкатеров и гренадер сменялись красными кафтанами артиллеристов. За однообразными васильковыми мундирами драгун и такими же однообразными колетами[1]1
К о л е т – куртка с короткими полами.
[Закрыть] кирасир плыли разноцветные – желтые, синие, красные, белые, голубые ментики[2]2
М е н т и к – гусарская куртка.
[Закрыть] гусар. Казачьи бороды и скуластые лица башкир из легкой кавалерии мелькали и там и тут. В тучах густой пыли, поднятой тысячами людских и конских ног, тонули придорожные луга и поля.
Армия графа Салтыкова, разбив пруссаков под Пальцигом, продвигалась к Франкфурту-на-Одере.
Подполковник Александр Васильевич Суворов, прикомандированный в качестве дежурного офицера к штабу 1-й дивизии генерала Фермора, ехал по обочине дороги на своем неказистом на вид, но горячем донце. Генерал Фермор послал его подтянуть арьергард, и теперь Суворов догонял свою дивизию.
Суворов только что прибыл в действующую армию и с интересом наблюдал за всем. И в первый же день ему многое здесь не понравилось.
Армия двигалась очень медленно – часто останавливалась на дороге. То падал от бескормицы упряжный вол, то где-либо в обозе ломалась телега, не вынесшая далекого, тысячеверстного пути, и проходило несколько минут, пока фурлейты[3]3
Ф у р л е й т – обозный солдат.
[Закрыть] не сбрасывали ее в канаву. То измученные, исхудавшие в беспрерывных походах артиллерийские лошади не могли втащить на гору двухкартаульную[4]4
К а р т а у л ь – калибр пушки, у которой бомба весила пуд.
[Закрыть] гаубицу, пока ее красный лафет со всех сторон не облепляли артиллеристы.
И сразу весь этот поток останавливался. Повозки наезжали друг на друга, напирали на идущую впереди пехоту. В воздухе стояла ругань.
Эта медлительность, эти бесконечные остановки раздражали Суворова: в его представлении армия должна быть подвижной, быстрой, а на деле она еле плелась, с трудом делая по восьми верст в сутки.
Энергичный, горячий Суворов не мог дремать в седле, как делали многие офицеры. И он был доволен, что генерал Фермор послал его с поручением к арьергарду. Суворов видел всю армию на походе. Его неприятно поразила необозримая вереница этих полковых и офицерских обозов.
Еще раньше Суворов знал, что в армии большой некомплект: много солдат осталось в России – «у корчемных сборов», «у соляных дел», «у сыску воров», «для поимки беспаспортных» и для прочих невоенных дел. В пехотном полку вместо положенных двух тысяч солдат едва насчитывалось полторы. И те совершенно тонули в бесконечном множестве колясок, повозок и телег.
Вслед за 12-й, мушкатерской ротой каждого полка обязательно тащилось больше сотни подвод.
Первой шла денежная палуба. На ней стоял окованный железом денежный сундук. Весь полк знал, что в сундуке пусто, но по обеим сторонам палубы, с фузеями[5]5
Ф у з е я – ружье.
[Закрыть] наперевес, брели двое мушкатеров.
За денежной следовала канцелярская, на которой, уткнувшись головой в мешок с овсом, безмятежно спал аудитор[6]6
А у д и т о р – военный чиновник.
[Закрыть].
Дальше тянулись госпитальные повозки с легко раненными, заболевшими, отставшими в пути солдатами, с полковыми фельдшерами и цирюльниками.
Тяжело поскрипывали провиантские палубы с мешками муки и солдатскими сухарями, – другого провианта не было. Тарахтели палубы с шанцевым инструментом. Белелись палаточные.
Полковой обоз кончался. За ним начинался самый многочисленный и пестрый – офицерский. Тут, в кибитках и колясках, ехали офицерские жены и любовницы. Повозки были набиты доверху разным домашним добром – кроватями, пуховиками. Более запасливые везли в клетках кур и гусей. Где-то визжал поросенок.
На повозках ехали и возле повозок шли сотни денщиков, поваров и прочих офицерских слуг, набранных из строевых солдат.
И, наконец, весь полковой обоз замыкали роспуски с деревянными рогатками, которыми каждый полк ограждал себя на бивуаках и в бою от набегов вражеской конницы.
Суворов не мог видеть этих краснорожих денщиков и офицерских жен и старался поскорее проскочить мимо них, чтобы ехать возле рядов мушкатеров или гренадер.
Он нагнал пехотные полки 3-й дивизии графа Румянцева и ехал, невольно слушая, что говорят сбоку.
– Не перекладывай фузеи с плеча на плечо – легше не станет, – поучал какого-то, видимо, молодого, малохожалого солдата «дядька». – Коли вбилось тебе в голову, что тяжело, то хоть последнюю сорочку сыми, все тяжело будет!
В другой роте кто-то рассказывал, вспоминая:
– Отец мне и говорит: «Полно тебе, Лешка, баловать, пора умом жить. Я тебе сосватал Федосью». Бухнул я отцу в ноги – смилостивись, тятенька. А он и ухом не ведет. Всю неделю до свадьбы пропьянствовал без просыпу. Обвенчали. На другой день оглянулся я – да поздно. Жена – смирная, работящая, годов на десять меня старше. И бельмо на глазу. А мать у нее вовсе слепая. Парни смеются: у вас, говорят, на троих – всего три глаза. Озверел я. Избил жену и пошел на сеновал. Лежу и слышу – у нас на задворках бабы судачат: «Видала, Лешка-то свою хозяйку окстил! Знать, любит, коли бьет!» Я вскочил да в кабак. А потом повалился отцу в ноги – сдавай в солдаты, не то руки на себя наложу…
Несколькими рядами дальше шел другой разговор:
– Подошву чистым бы дегтем намазать, да золой присыпать, да выставить на солнышко – всю Европу на них прошел бы, а то – вон уже на подвертках иду!
Суворов поравнялся с Апшеронским полком, который шел непосредственно за полками 1-й дивизии. Подымались на гору, ехать быстро было нельзя.
Суворов смотрел на рослых, плечистых мушкатеров 1-й роты. Немного впереди него, крайним в ряду, шел молодой русоволосый солдат. Он то и дело подергивал плечами: видимо, с непривычки сильно резал плечи тяжелый ранец. Сосед рекрута, пожилой рябоватый мушкатер, поглядывал на него, а потом взял у молодого солдата с плеча фузею и негромко сказал:
– Ильюха, поправь ранец!
Рекрут сразу ожил, поднял голову и стал подтягивать ремни. Но в это время откуда-то из рядов раздался начальственный окрик:
– Иванов, зачем балуешь рекрута? Какой из Огнева солдат будет, ежели с фузеей не справится?
Рекрут торопливо потянул из рук старого солдата свою фузею.
– Егор Лукич, пущай парень хоть ремни-то поправит, – ответил рябой солдат.
Но Егор Лукич уже не слышал ответа: увидев, что возле его капральства[7]7
К а п р а л ь с т в о – отделение.
[Закрыть] едет какой-то штабной офицер (у Суворова была повязка на рукаве), капрал продолжал показывать старание – распекал еще кого-то:
– А ты чего захромал?
– Пятку стер, дяденька.
– Обуваться не умеешь, мякина! Придем на место, салом натри – пройдет, – по привычке сказал капрал всегдашнюю в таких случаях фразу.
Рябой солдат усмехнулся и довольно громко заметил:
– Умный какой. Да кабы сало у кого было…
– Давно бы съели, – досказал за него сосед.
Поднялись на гору.
Впереди Суворов увидал знакомую картину. Над морем бесконечных повозок, палуб и телег возвышалась вереница верблюдов, – это шесть верблюдов вместе с двадцатью лошадьми везли багаж генерала Фермора: его роскошные палатки, мебель, кухонную и столовую посуду и многочисленных генеральских слуг.
Суворов покачал головой:
«Нет, с таким табором не нагрянешь внезапно на врага! Восемь верст в сутки, помилуй Бог! Это не армия на походе, а барыня, едущая на богомолье!»
IIМы во Пруссии стояли,
Много нужды принимали.
Солдатская песня
Мушкатер Ильюха Огнев, подложив под голову руки, лежал в тени палатки. Высоко вверху, как пушинка по воде, легко плыло белое облачко. Оно плыло в сторону Мельничной горы, к правому флангу, плыло на восток, на родину. Ильюха смотрел на него и с грустью думал все об одном и том же:
«Вот облачко поплыло туда. Может, его увидят скоро и у нас, в Ручьях. Посмотрят на него. Мать, сестренка Любка, черноглазая Катюша…»
Тоскливо сжалось сердце. Захотелось домой, в родную деревню, хотя Ильюхина жизнь и там была несладка – от зари до зари гнуть спину на барщине.
Огнева только нынешней весной сдали в рекруты. Староста невзлюбил дерзкого, непокорного парня, которого бей не бей – он все свое.
«Вот погоди, в царской службе тебе хорошо перья обломают!» – злорадствовал староста, когда Ильюху под истошный плач старухи матери и сестренки увозили из деревни.
В службе Ильюху действительно хорошо обломали. Два месяца гоняли с места на место по разным городам. Зуботычинами да палками учили постигать военную премудрость: как «метать артикулы», как заплетать косу да подвязывать порыжелые, никуда не годные кожаные штиблеты – других в цейхгаузе не было.
Наконец, решив, что достаточно обучили военному делу, отправили Огнева с пополнением к армии, которая уже второй год занимала Восточную Пруссию.
Ильюха был назначен в 3-ю дивизию графа Румянцева, в Апшеронский пехотный полк.
Русская армия в Ильин день заняла город Франкфурт-на-Одере и стала бивуаком на высоких обрывистых холмах правого берега реки. Тут-то Огнев и нагнал свой полк.
Он попал в капральство Егора Лукича, старого, бывалого солдата, ходившего на турка, бравшего с фельдмаршалом Минихом Перекоп.
Егор Лукич любил покричать, но бил солдата меньше, чем другие капралы.
Ильюха Огнев оказался в капральстве Егора Лукича самым молодым: ему всего-навсего шел девятнадцатый год. Остальные подначальные Егора Лукича поседели на службе: кто тянул лямку уже пятнадцать лет, а кто – и все двадцать.
Старики давно свыклись с тяжелым солдатским положением. Большинство из них обзавелось женами и детьми – семьи жили вместе с ними в солдатских слободах или на обывательских квартирах – и родные деревни как-то понемногу выветрились из памяти. Привыкшие к походной жизни, видавшие и Крым, и Польшу, старые солдаты и за тысячу верст от родимого края чувствовали себя как дома.
Огневу же все здесь было непривычное и чужое. Непривычны были эти чистые немецкие мызы, эти ветряки, эти медлительные дородные немецкие девушки. То ли дело подвижная, смешливая ручьевская Катюша!
Огнев никак не мог свыкнуться с мыслью, что он на всю жизнь должен остаться солдатом. Пока Лукич учил его, как ставить палатку или как заряжать фузею («Не спеши! Помни: уронишь патрон аль два раза осечка будет – палок дадут!» – поучал старик), Ильюха забывал о доме. Но стоило Огневу остаться одному, как теперь вот, и опять вспоминались родные Ручьи.
Ильюха лежал и живо представлял, что делается сейчас дома. Помещичье поле… Согнувшись в три погибели, бабы жнут яровые. Мать, проворная маленькая старуха, жнет ловко и быстро. Рядом с ней – пятнадцатилетняя Любка обливается потом, спешит, не хочет отстать от баб. Вдоль полосы едет верхом барский приказчик. Песья душа. Помахивает нагайкой, щурит коричневые злые глаза на согнутые бабьи спины…
– Черт косой! Портупея-то у тебя как? Потуже подтяни! – раздался где-то рядом начальственный окрик.
От Ильюхиных мыслей не осталось и следа. Он с досадой приподнялся и сел. Глянул вокруг.
Из соседней палатки торчали чьи-то босые грязные ноги. В тени, под кустиком, пятидесятилетний мушкатер Зуев латал свои штаны. Штаны были когда-то, как полагается мушкатеру, из красного сукна, а теперь от множества заплат красное рдело на них лишь кое-где. Рядом с ним гренадер чинил башмак.
Русская армия сильно обносилась, обозы с амуницией все не приходили из России, а во Франкфурте в складах нашли только кирасы[8]8
К и р а с а – латы, металлический панцирь на спину и грудь.
[Закрыть].
Дальше полковой цирюльник брил музыканта. Музыкант с зелеными суконными накладками на плечах – «крыльцами» – важно восседал на барабане.
А немного в стороне, на пригорке, денщик ротного чистил барский гардероб.
Ротный, в халате и туфлях, стоял тут же, покуривая и покрикивая на денщика.
Все то же, что Огнев видел в лагере на Франкфуртских холмах каждый день уже в продолжение целой недели.
Откуда-то из 3-й роты доносилось:
– Скуси патрон, чтобы в зубах осталось немного пороху, всунь в дуло и прибей шомполом. Прибивай одним махом, а не так, как другой: возьмет и толчет, ровно крупу в ступе. Понял?
Это дядька обучал молодых, как заряжать фузею: в полках третья часть солдат была не обучена как следует.
«Все то же!.. Разве заснуть?» – подумал Огнев.
Но в это время его кликнул Егор Лукич:
– Огнев!
– Я тут, дядя Егор! – вскочил Огнев.
– Сбегай, Ильюха, за водой. Глянь – Иванов опять тартофелю раздобыл! – сказал Егор Лукич, когда Огнев прибежал к капральской палатке.
Ильюха кинулся за башмаками, но капрал остановил его:
– Да беги босиком! Беги так!
Ильюха схватил котелок и побежал знакомой дорогой к ручью.
Апшеронцам, которые стояли на краю горы Большой Шпиц, против деревни Кунерсдорф, было сподручнее бегать за водой в деревню. Она лежала справа, между Большим Шпицем и Мельничной горой. В Кунерсдорфе были колодцы и три больших пруда. Но кроме апшеронцев и ростовцев, палатки которых расположились еще левее, ближе к оврагу, в деревне брал воду весь правый фланг, весь корпус князя Голицына. Помимо того, у деревни, на выгоне, разместился корпусной артиллерийский полк. Вся деревня была полна фузилерных и фурштатских служителей[9]9
Ф у з и л е р – мушкатер, фурштатский – обозный.
[Закрыть], фурлейтов и денщиков; всюду мелькали красные с черными обшлагами кафтаны артиллеристов. В больших кунерсдорфских прудах целый день купались солдаты, здесь же купали лошадей, стирали белье, мыли палубы и телеги.
К колодцу тоже было не протолкаться.
Ильюха решил бежать налево, на другой конец Большого Шпица, к ручью. Сюда собиралось меньше народу: вода в ручье была ржавая, болотная, берега – топкие.
Но Ильюхе вода нужна была не для щей, а только лишь для того, чтобы сварить эти «чертовы яблоки», как называли солдаты картофель.
Огнев здесь впервые увидел диковинный овощ. Картофель понравился ему.
Ильюха готов был один съесть полкотелка, если бы Егор Лукич не покрикивал.
И как тут было не любить картофеля, когда изо дня в день варили пустые щи из лебеды и крапивы да одну и ту же ячменную кашу.
До смерти надоело! Правда, кроме водки и хлеба, каждому мушкатеру полагалось еще в день два фунта мяса. Да откуда его возьмешь! Только в обозе, где резали упряжных быков, которые от бескормицы и худых дорог ежедневно падали десятками, ели мясо. Было оно и в офицерских котлах. Но в мушкатерских – не случалось. Оттого мушкатеры рады были картофелю.
Хотя у Франкфурта стояло больше сорока тысяч русских и около двадцати тысяч союзников австрийцев и солдаты хорошо наведывались в поля и огороды форштадта, окрестных деревень и мыз, но тороватый мушкатер Иванов все-таки ухитрился накопать полный котелок картофеля.
Ильюха бежал, утирая пот рукавом сорочки, – бежал без кафтана, в одном камзоле: все равно было жарко.
Июльское солнце жгло, как и все дни, немилосердно. Только когда оно спускалось туда, за самую высокую из всех трех гор – Еврейскую, где стояли левофланговые 1-я и 2-я дивизии, тогда становилось немного полегче.
Но до заката было еще далеко.
Огнев пробежал расположение соседей – своего брата пехоты, – пробежал мимо батареи секретных шуваловских единорогов. У каждой гаубицы дуло закрыто было медной покрышкой. Вокруг батареи, изнывая от жары, стояли часовые, чтобы никто не подходил к единорогам. Шуваловцы давали особую присягу – никому не рассказывать о секретных гаубицах, но вся армия давно знала, что у единорогов дуло не круглое, а такое, как яйцо.
За батареей начиналась вся эта неразбериха полковых и офицерских обозов. На холме и в овраге теснились сотни повозок, палуб и телег.
Вокруг одной палубы толпились солдаты разных полков. Ильюха подбежал посмотреть, что там такое.
На палубе, свесив вниз ноги, сидел прусский перебежчик – большой плечистый мужчина лет сорока, со смешными, торчком поставленными маленькими усиками.
Молодые солдаты, которые еще ни разу не видали прусских гренадер, лезли вперед, чтобы получше разглядеть гостя. А старики, покуривая, стояли в сторонке. Разговаривали:
– Не спорь, пруссак лучше нас стреляет…
– Да ты скажи – почему?
– Потому, что у тебя в патронной суме сколько пуль?
– Пятнадцать.
– А у него больше.
– Так и у нас в обозе, в патронных ящиках, лежит по пятнадцати пуль на каждого солдата…
– Ладно. Ты спроси вот у него, у фурлейта, он те скажет, много ль у них на палубах патронов осталось.
– Петров, погоди, – вмешался другой солдат, – я вот что скажу. Эй, парень! – потянул он за рукав Ильюху, который стоял возле спорящих.
Ильюха обернулся.
– Ты в бою бывал? – спросил у него какой-то седоусый гренадер.
– Нет еще, – почему-то смутился Огнев.
– А стрелял когда-либо из фузеи, хоть раз?
– Нет, не стрелял. Дядя Егор только приемы показал…
В толпе захохотали.
– Ну, вот видишь. Много ль такой попадет! А ведь, как говорится, выстреля, пули не поймаешь! И таких, как он, у нас чуть не половина.
– Старых солдат немного осталось, – прибавил другой.
– В новом корпусе, что на правом фланге стоит, рекру-тов – целые роты.
Огневу этот спор был неинтересен. Он понемногу протискивался вперед, поближе к палубе.
Возле палубы стоял какой-то аудитор. Он служил переводчиком между пруссаком и русскими солдатами, которые задавали ему вопросы. Перебежчик словоохотливо говорил.
Ильюха во все глаза рассматривал немца.
– Ишь ведь, по-каковски лопочет, а не собьется! – сказал кто-то из стоявших впереди Ильюхи.
– Тише! Погоди ты! – зашипели на него соседи: все внимательно слушали аудитора, который переводил, что сказал немец.
– У них, говорит, ни минуты свободной нет. Солдат должон весь день что-либо делать. Так стоять без работы, как мы сейчас стоим, у них не позволили б. То фузею смазывай, то ремни бели, то пуговицы начищай. Не справишь чего – бьют палкой. У каждого капрала – палка. Вот он ей и охаживает.
– Наши капралы неплохо и без палки бьют! – вполголоса сказал кто-то.
– А спроси у немца, за какие провинности бьют? – крикнули из толпы.
Аудитор перевел вопрос. Пруссак улыбнулся и что-то быстро ответил.
– Он говорит, что у них – всякая вина виновата. И старший – всегда прав. Слова против него не скажи, – насмерть убьет и отвечать не будет!
– Вот и служи!
– Хороша жизнь, нечего сказать!
– У нас бьют, так куда денешься: служба! А они ведь все наемные. За деньги служат! – говорили в толпе.
Ильюхе Огневу страсть хотелось больше бы послушать, да нужно было бежать за водой: Егор Лукич за пожданье тоже не помилует.
И Огнев стал выбираться из толпы.
IIIСуворов в первый раз присутствовал на военном совете.
На дворе было ослепительное солнце, а в столовой палатке главнокомандующего, обитой голубой парчой, горели свечи. Вокруг большого обеденного стола, на котором лежала карта Франкфурта и его окрестностей, сидели все старшие начальники русской армии: сам главнокомандующий, маленький, весь седой старичок граф Петр Семенович Салтыков, его заместитель и начальник 1-й дивизии генерал Фермор и командиры остальных дивизий – генерал-поручик Вильбуа, Голицын и Румянцев.
Суворов с бумагами и карандашом пристроился на противоположном, свободном от карт конце стола. У его ног, под столом, лежали, высунув от жары языки, две борзые: Салтыков очень любил псовую охоту и, уезжая к армии, взял с собою свою любимую свору собак.
На совете говорили все о том же, о чем за два года войны с королем прусским Фридрихом II надоело даже говорить.
С начала вступления России в войну, с 1757 года, русская армия делала все, чтобы соединиться со своими союзниками – австрийцами. Заняв Восточную Пруссию, русские шли вперед, австрийцы же боялись отойти от границ Богемии, несмотря на то что их армия была втрое больше русской.
Когда десять дней назад, 20 июля 1759 года, Салтыков, взяв Франкфурт, очутился всего в семидесяти верстах от Берлина, австрийский фельдмаршал Даун не сдвинулся с места. Только двадцатитысячный отряд генерала Лаудона присоединился 21 июля к русским у Франкфурта и стал впереди левого крыла русской армии, на Красной мызе.
Сегодня, 30 июля, Салтыков получил от Дауна извещение, что главные австрийские силы могут перейти в наступление, лишь соединившись с русскими. Даун требовал, чтобы Салтыков отступил назад, к Кроссену.
– Кроссен-де условлен для соединения. А занявши Кроссен, нашли мы в нем хоть одного австрийца? Выиграли такую наижесточайшую баталию под Пальцигом, взяли Франкфурт, ин-нате, извольте отступать! Это черт-те знает что! – горячился Салтыков.
Генералы молчали. Все думали то же, что и главнокомандующий.
Румяный, пухлощекий Вильбуа, надменный в обращении с подчиненными, но подобострастный с высшими, угодливо кивал головой.
Умный Румянцев, опершись подбородком об эфес сабли, задумчиво смотрел на разостланную перед ним карту.
Начальник Обсервационного корпуса, добродушный князь Голицын, барабанил по столу пальцами. Он нервничал. В его распоряжении было много артиллерии – шуваловских секретных гаубиц. В бесконечных же переходах по тяжелым песчаным дорогам, при всегдашней нехватке фуража, ежедневно падали десятки лошадей и упряжных волов, а пушечные лафеты, расшатанные в бою при Пальциге и наскоро починенные в Кроссене, не выдержали перехода даже до Франкфурта.
Красивое, слегка бледное лицо Фермора кривилось снисходительной улыбкой.
Всего лишь месяц тому назад он сдал командование армией графу Салтыкову, согласившись при этом остаться его заместителем. Как ни писал Фермор императрице Елизавете Петровне, что эту замену «не токмо себе за обиду не почитаю, но, припадая к стопам вашего императорского величества, рабское мое благодарение приношу», а все-таки в душе был глубоко оскорблен.
И как было не обижаться? Его, генерала Фермора, которого хвалил сам фельдмаршал Миних, генерала, поседевшего в боях, заменили – и кем же? Ни разу не командовавшим войсками в бою Салтыковым, все достоинство которого заключалось лишь в том, что он был родственником императрицы.
Когда Салтыков, проезжая через Кенигсберг, ходил по улицам в своем белом кафтане без единого ордена, на него обращали не больше внимания, чем на какого-либо полкового аудитора. Салтыков был прост во всем: в своей жизни, в обращении с людьми. Фермор же держал себя очень важно и любил пышность. Одевался Фермор всегда щегольски – в голубой кафтан с красными отворотами. Было душно, но Фермор сидел в парике, напудренный, аккуратный. И даже по кафтану у него сегодня шла через плечо голубая орденская лента.
Салтыков, разморенный духотой, небрежно расстегнул свой когда-то белый, но изрядно потемневший от ежедневной носки старый ландмилицкий[10]10
Л а н д м и л и ц и я – местное земское войско, организованное Петром I.
[Закрыть] кафтан, который нашивал, еще командуя ландмилицией на Украине. Парика Салтыков сегодня вовсе не надел и время от времени вытирал платком голову, пухлое лицо и старчески сморщенную шею.
Фермор смотрел на главнокомандующего и ликовал: «Пусть-ка этот барин узнает, легко ли командовать армией, когда руки связаны, с одной стороны, петербургской Конференцией[11]11
К о н ф е р е н ц и я – придворный военный совет, руководивший из Петербурга военными действиями русской армии за границей.
[Закрыть], а с другой – австрийским гофкригсратом[12]12
Г о ф к р и г с р а т – австрийский придворный военный совет.
[Закрыть]».
– Что ж будем делать? – прервал молчание Салтыков. – Ну-с, господин подполковник, каково ваше мнение? – обратился он к младшему среди присутствующих.
– Идти навстречу врагу! – твердо сказал Суворов.
Все оглянулись на него; то, что сказал подполковник, противоречило общепринятым правилам тогдашней стратегии, казалось абсурдом.
Вильбуа смотрел на тщедушного подполковника с явным пренебрежением; какую чепуху несет человек!
Скромный князь Голицын, слабо разбиравшийся в военном деле, смотрел то на одного, то на другого из генералов. Он не был и не считал себя сам военным человеком. Он только подчинялся монаршей воле: императрица назначила его командиром Обсервационного корпуса, и Голицын послушно командовал.
Румянцев с интересом взглянул на малознакомого подполковника.
Фермор снисходительно улыбнулся: он уже немного знал быстрый нрав своего дивизионного дежурного штаб-офицера, был знаком с его странными стратегическими взглядами.
Салтыков же только тер голову и ухмылялся: ну и предложил.
– Господа генералы, ваше мнение? – глянул он на трех генерал-поручиков.
Первым отозвался Румянцев:
– Оставаться на месте и ждать короля.
– И я так думаю, – поддержал его князь Голицын. – Ведь позиция у нас почти неприступная.
Фермор скривил свое красивое лицо:
– Позиция имеет большой недостаток – фронт прорезывается оврагами, никакого сикурсу[13]13
С и к у р с – помощь.
[Закрыть] дать друг другу будет невозможно.
Ему было смешно, что Голицын – начальник дивизии, а не понимает такой простой вещи.
– Вы не правы, Вилим Вилимович, – оживился Салтыков.
В глубине души он понимал, что Фермор прав, но недолюбливал его и хотел уколоть.
Салтыков, наклонившись над картой, ткнул в нее пухлым перстом:
– С левого крыла нас обойти, сами видите, нельзя – река Одер. А с правого – пусть обходит! Тут – речка, пруды, болота. Король любит драться на ровной местности, чтобы ему можно было поставить свои линии, а у нас здесь – горы да овраги.
Фермор молчал.
– Может быть, ваше сиятельство, еще укрепить фронт ретраншементом?[14]14
Р е т р а н ш е м е н т – окоп.
[Закрыть] – поспешил предложить угодливый Вильбуа.
Салтыков недовольно поморщился, махнул рукой:
– Э, сейчас незачем. Зря только солдат мучить. Подождем до утра: утро вечера мудренее! А что же все-таки предлагаете вы? – спросил он у Вильбуа.
– Подчиняться приказу Конференции и отступить к Кроссену, – ответил Вильбуа, поглядывая на Фермора, поддержит он или нет.
– Самое правильное решение! – поддержал Фермор.
Салтыков вытер лицо платком, секунду помолчал, как бы собираясь с духом, а потом отрубил:
– Трогаться с места нельзя: тронешься, перемешаешь все полки – потом и за сутки в боевой порядок их не поставишь! Нет, уж будем стоять здесь и ждать короля!
– Простите, ваше сиятельство, а как же с обозом? Ведь у нас двадцать тысяч повозок. С этаким цыганским табором принимать бой на холмах? – горячо выпалил Суворов.
Его раздражала нерешительность Салтыкова. Петр I, у которого учился подполковник Суворов, говаривал: «Во всех действиях упреждать», а этот толстый барин вовсе не думает идти навстречу врагу, а собирается только обороняться.
– Подполковник Суворов прав, – первым отозвался генерал Фермор.
Фермор был доволен, что его дивизионный дежурный штаб-офицер так основательно поддел главнокомандующего. Но ему не понравилось одно: зачем Суворов обозвал весь обоз, и в том числе, стало быть, и его верблюдов, «цыганским табором»?
– Будем мы отступать или нет, а обоз надобно сегодня же отправить за Одер, – сказал Фермор.
– Совершенно верно. Немедленно отправить за реку! – спохватился Румянцев.
– Да, да, да, отправить, – поддакнул Вильбуа.
– Ну что ж, – спокойно, не торопясь, ответил Салтыков, – отсылать так отсылать. Завтра же и отошлем, – легонько ударил он по столу рукой.
Выходило так, что он и соглашался с Фермором, но в то же время поступал по-своему: отошлю, но не сегодня!
– А теперь, господин подполковник, – кивнул он Суворову, – давайте-ка объедем весь лагерь, посмотрим, как и что у нас! – поднялся главнокомандующий.