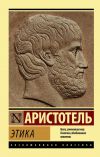Текст книги "Афины и Иерусалим"

Автор книги: Лев Шестов
Жанр: Эзотерика, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
В раrеrе же они видели начало и залог добра, из раrеrе выводили знание, полагающее конец необузданности свободы (подробно об этом в I части, «Скованный Парменид»). Достаточно вспомнить спор Калликла с Сократом в платоновском «Горгии», чтобы убедиться, из каких источников бл. Августин, Д.Скот, равно как и вся святоотеческая средневековая философия, почерпнули свою исключительно высокую оценку как раrеrе, так и познания, которое этим раrеrе держится, и вместе с познанием и противоположность между добром и злом, которое, как мы сейчас слышали от Жильсона, без идеи повиновения не может продержаться ни на одно мгновение. В центральной, в основоположной идее средневековой философии, так безудержно и страстно стремившейся стать иудео-христианской, образовалась трещина. Св. Писание грозно предостерегало против плодов с дерева познания, греческая философия видела в γνω̃σις (познании) высшую духовную пищу и в умении отличать добро и зло лучшее качество человека. Средневековая философия не могла отречься от эллинского наследия и принуждена была в основоположной философской проблеме, в проблеме метафизики познания, игнорировать Св. Писание.
III
Но не только библейское сказание о грехопадении предостерегало иудейско-христианскую философию от доверия к «знанию» античного мира. С огромной силой и подъемом восставали против греко-римской «мудрости» пророки и апостолы. Средневековые философы это знали, конечно, превосходно. Жильсон цитирует in extenso знаменитое место из первого послания ап. Павла к Коринфянам (XIX, 25), где говорится о непримиримости между истиной Откровения и человеческими истинами. Я думаю, что будет кстати напомнить здесь центральные строки: «Car il est écrit (Is. XXIX, 14): je perdrai la sagesse des sages et je réprouverai la prudence des prudents. Où est le sage? où est le savant? òu est la philosophic du siècle? Dieu n’a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car puisque le monde n’a pas su par la sagesse connaître Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication… La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes».[92]92
Ибо написано (Ис. XXIX, 14): «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих… Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков (фр.).
[Закрыть] Приводя эти слова и указывая в примечании, что они всегда давали пищу противникам «христианской философии», среди которых Тертуллиан со своим противуположением Афин и Иерусалима (quid ergo Athenis et Hierosolymis?) занимает первое место, Жильсон, однако, не считает, что они могли и должны были удержать средневековую философию в ее стремлении превращать истины Откровения в истины разумного познания. По его мнению, ни пророк Исаия, ни ап. Павел не могут служить опорой для тех, кто оспаривает возможность рациональной иудейско-христианской философии. Их нужно прежде всего понимать в том смысле, что апостол в Евангелии видел только путь к спасению, а не к познанию. А затем «Au même moment оû Saint Paul proclame la banqueroute de la sagesse grecque, il propose de lui en substituer une autre qui est la personne même de Jesus-Christ. Ce qu’il entend faire, c’est éliminer l’apparente sagesse grecque qui n’est en réalité que la folie au nom de l’apparente folie chrétienne qui n’est que la sa-gesse».[93]93
В тот самый момент, когда св. Павел объявляет о банкротстве греческой мудрости, он предлагает заменить ее другой мудростью, заключающейся в самой личности Иисуса Христа. Он считает, что необходимо устранить мнимую греческую мудрость, которая в действительности не более чем безумие, во имя мнимого безумия христиан, которое и есть не что иное, как мудрость (фр.).
[Закрыть] Все это так. Но это не только не является возражением против тертуллиановского противупоставления Афин и Иерусалима, но скорее его истолкованием, ибо апостолы все-таки proclame la banqueroute de la sagesse grecque. To, что для Афин есть мудрость, то для Иерусалима есть безумие: Тертуллиан ничего другого и не говорил. Нельзя даже утверждать, что Тертуллиан отрицал возможность иудейско-христианской философии: он только хотел обеспечить ей свободу и независимость мысли, полагая, что у нее должны быть не эллинские принципы, и не эллинские задачи, и не эллинский источник истины, а свои собственные. И что откровенная истина, если она станет искать оправдания перед нашим разумом посредством тех приемов, которыми греки оправдывали свои истины, – искомого оправдания не добьется, либо, если добьется, то только отрекшись от себя самой: ибо что для Афин – безумие, то для Иерусалима – мудрость, и что для Иерусалима – истина, то ложь для Афин. В этом смысл его знаменитых слов из De carne Christi, которые долгое время, да и сейчас известны, хотя в сокращенном и потому ослабленном выражении, credo quia absurdum (верю, потому что бессмысленно), у большой публики. У Тертуллиана мы читаем: «Crucifixus est Dei filius: non pudet quia pudendum est; et monuus est Dei filius – prorsus credibile quia ineptum est; et sepultus resurexit; certum est quia impossible». (Сын Божий был распят: не стыдно, потому что стыдно; умер сын Божий: еще более вероятно, потому что бессмысленно; и погребенный воскрес: достоверно, потому что невозможно.) Здесь то же, что у пророка Исаии и ап. Павла, только более приспособленное к школьной философской терминологии. Но настолько возмущающее «мудрость века», что Лейбниц, приводя эти слова, не находит даже нужным подвергнуть их обсуждению: это только, говорит он, остроумная фраза. Причем первое положение, заканчивающееся словами: non pudet, quia pudendum est, Лейбниц совсем опускает: рука, видно, не поднялась такие безнравственные слова переписывать. А между тем, если Исаия и Павел правы, то изречение Тертуллиана является как бы вступлением или пролегоменами к органону иудейско-христианской философии, призванной возвестить миру новое и дотоле не известное никому понятие о «сотворенной истине». Прежде всего, нужно навсегда отбросить основные категории эллинского мышления, вырвать из себя с корнем все предпосылки нашего «естественного познания» и нашей «естественной морали». Там, где просвещенный грек приходит со своим властным pudet, стыдно, – мы скажем: именно потому не стыдно. Там, где разум провозглашает «нелепо», мы скажем, что это и заслуживает доверия по преимуществу; и, наконец, там, где он воздвигает свое «невозможно», мы ему противопоставим свое «несомненно». И, когда разум и мораль потребуют к своему суду пророков и апостолов, а вместе с ними и Того, именем Которого они дерзнули бросить вызов греческой философии, – вы думаете, что Тертуллиана вы этим испугаете, как Лейбница?
Мне уже не раз приходилось говорить о Тертуллиане и его безоглядном натиске на древнюю философию.[94]94
См. мою книгу «Власть Ключей».
[Закрыть] Но здесь, прежде чем перейти к рассмотрению того, к чему привела попытка средневековых мыслителей устроить симбиоз между греческим знанием и откровенной истиной, я хотел бы отметить два момента в истории развития европейской мысли, в надежде, что это поможет нам ориентироваться в занимающем нас вопросе о сущности иудейско-христианской философии.
Историю философии обычно делят на три периода: древний, заканчивающийся Плотином, средний – заканчивающийся Д.Скотом и Вильгельмом Оккамом, после которых начинается «разложение схоластики», и новый, начинающийся с Декарта и продолжающийся до наших дней, об исходе которого мы можем только гадать. И вот факт поразительный: Плотин знаменует собой не только конец почти тысячелетнего развития эллинского мышления, но и вызов ему. Целлер был прав: Плотин потерял доверие к философскому мышлению: основные принципы и вечные истины его предшественников перестали его удовлетворять, стали ему казаться не освобождающими, а порабощающими дух человеческий. И это после того, как он всю жизнь держался их и всех, кого мог, учил им следовать. Его «Эннеады» представляют загадочную смесь двух противоположных течений мысли. Если Целлер был прав, утверждая, что Плотин потерял доверие к мышлению, то не менее прав и тот современный историк, который именно потому так ценил философские заслуги Плотина, что он, как того требовала эллинская традиция, основывал все свои разыскания истины на δει̃ (должно) и ἐξ ἀνάγκης (по необходимости), т. е. добивался строго доказанных и проверенных, принуждающих суждений. Но, очевидно, добивался только затем, чтобы потом собственной властью отбросить их. «Знание», завещанное ему его предшественниками, выросшее на почве принуждающей необходимости, стало его тяготить, стало ему невыносимым именно своей принудительностью.
В знании он почувствовал оковы, цепи, из которых нужно какой угодно ценой вырваться. Знание не освобождает, а порабощает. Он стал искать выхода, спасения вне знания. И он, который учил, что ἀρχη οὐν λόγος καὶ πάντα λόγος (начало было слово и все есть слово), вдруг почувствовал, что смысл философии – τò τιμιώτατον (самое ценное), как он выражался – в свободе от знания: в этом и состоял его ε̎κστασις (выхождение). Прежде всего δραμει̃ν ὑπὲρ τὴν ἐπιστήμη (взлететь над знанием), взлететь над знанием и пробудиться от наваждения всех δει̃ (должно) и ἐξ ἀνάγκης (по необходимости). Откуда взялось это «должное», откуда пришли необходимости, насквозь пропитавшие человеческое мышление? Чем держится их сила и власть? Высшее начало, то, что Плотин назвал «единым», не знает ни должного, ни необходимого, нисколько в их поддержке не нуждается. Оно вообще не нуждается ни в какой поддержке, ни в какой опоре: οὐ γὰρ δει̃ται ιδρύσεως, ω̎σπερ αὑτò φέρειν οὑ δυνάμενον (оно не нуждается в опоре, как если бы оно не могло само поддержать себя). Оно находится ἐπέκεινα νου̃ καὶ νοήσεως (no ту сторону разума и познания), оно свободно от всех ограничений, которые изобрел «пришедший после» νου̃ς.[95]95
См. Enn. V, 3,12: τò δὲ ω̎σπερ ἐπέκεινα νου̃, ου̎τος καὶ ἐπέκεινα γνώσεως, οὐδὲν δεόμενον ω̎σπερ οὐδενός, ου̎τως οὐδὲ του̃γινώσκειναλλ’ε̎στιν ἐν δευτέρα φύδει τò γνώσκειν, т. е. точно так же, как оно выше разума, оно выше познания, но само познание принадлежит вторичной природе.
[Закрыть] И как «единое» не нуждается ни в почве, ни в опоре, так и человек, «пробудившийся к самому себе», не нуждается ни в какой почве и ни в какой опоре; он чувствует себя κρείττονος μοίρας (предназначенным более высокому жребию), сбрасывает с себя все тяжеловесные «должен» и «по необходимости», как мифические боги греков, не тяготеет к земле и не прикасается к ней. Едва ли нужно прибавлять, что Плотин, поскольку он пытался δραμει̃ν ὑπὲρ τὴν ἐπιστήμη (взлететь над знанием), не оставил следов в истории. Это «взлетание над знанием» и эта «ненужность всякого основания» обозначали разрыв с традицией античной мысли, которая всегда искала знания и прочных оснований. Редко кто решался, вслед за Целлером, открыто говорить о том, что Плотин потерял доверие к мышлению. Плотином интересовались лишь постольку, поскольку находили в нем привычную и всех убеждающую аргументацию, коренящуюся в непреодолимости вечного закона необходимости. Даже бл. Августин, всегда вдохновлявшийся Плотином (иные страницы из его сочинений представляются почти переводом «Эннеад»), не хотел или не смел следовать за Плотином беспочвенности и брал у него лишь то, что можно было усвоить, не отрекаясь от основоположений эллинского мышления. Но, вместе с тем, с Плотином остановилось дальнейшее развитие греческой философии; или даже лучше сказать, что после Плотина начинается ее «разложение», как после Д.Скота и Оккама началось разложение средневековой схоластики. Человеческая мысль застыла в неподвижности и предпочла вязнуть в тине бесконечных комментариев того, что было сделано раньше, чем за свой страх идти к тому загадочному неизвестному, к которому ее звал Плотин. Недаром сам Плотин говорил, что, когда душа приближается к окраинам бытия, она останавливается: φοβει̃ται μὴ οὐδὲν ε̎χει (она боится, что ничего нет). Ей страшно стряхнуть с себя принуждающие «должно» и «по необходимости». Она так долго несла на себе их ярмо, что свобода от принуждения ей представляется уже всеуничтожающим и всеразрушающим началом. За Плотином не пошли. История нашла способ отвлечь внимание потомства от того, что в нем было наиболее оригинального и дерзновенного – его непостижимый культ беспочвенности (обычно говорят об азиатских влияниях, может быть, точнее было бы вспомнить об «азиатском» ex auditu[96]96
На слух (лат.).
[Закрыть]), – но тот факт, что последний греческий философ решился поколебать устои, на которых покоилось античное мышление, оспаривать уже нельзя, и даже объективный Целлер вынужден, как я указал, свидетельствовать о нем.
Таков же был конец и второго периода развития европейской философии. Последние великие схоластики, почти непосредственно за гениальным Аквинатом и словно в ответ ему, восстали с неслыханной энергией против всех «должно» и «по необходимости», которыми держалась и двигалась мысль их предшественников и с которыми связывались обещанные разумом человеку блага. В этом смысл того, что принято называть их «волюнтаризмом». Большинство историков теологии (особенно протестантских), как и историков философии, пытается тем или иным способом смягчить резкость вызова, брошенного последними великими схоластиками своим предшественникам, поскольку последние пытались связать откровенные истины Писания с истинами, добываемыми разумом. И, с своей точки зрения, историки правы, как правы они, когда стараются «защитить» Плотина от упреков в разрушительном влиянии его учения. История обязана считаться только с тем, чему было дано предопределять собой дальнейшее развитие. Но суд истории не есть единственный суд и не есть суд окончательный.
Если захотеть свести к коротким формулам то, что античная мысль завещала человечеству, вряд ли можно придумать что-либо лучшее, как мне представляется, чем то, что сказал в «Федоне» и в «Эвтифроне» Платон о разуме и морали. Нет большей беды для человека, читаем мы в «Федоне», чем стать μισόλογος’ом (ненавистником разума). Не потому святое свято, что его любят боги, а потому боги любят святое, что оно свято, говорит в «Эвтифроне» Сократ. Не будет преувеличением сказать, что в этих словах отчеканены две величайшие заповеди эллинской философии, что в них ее альфа и омега. Если мы и сейчас так «жадно стремимся» ко всеобщим и обязательным истинам, – мы только выполняем требования, предъявленные человечеству «мудрейшим из людей». Я говорю «мудрейшим из людей», так как преклонение перед разумом и моралью, равно обязательное и для смертных, и для бессмертных, несомненно было внушено Платону его несравненным учителем, «праведником» Сократом. И тут же прибавлю: если бы Сократу пришлось выбирать, от чего отказаться: от разума или морали, и если бы он согласился допустить, хотя бы гипотетически, что разум можно отделить от морали – хотя бы для Бога, – он отказался бы от разума, но от морали не отступился бы ни за что на свете. И в особенности он не пошел бы на то, чтоб освободить от морали богов. Пусть, на худой конец, боги возлегают с Плотином над знанием, но Бог, возлетевший над моралью, есть уже не Бог, а чудовище. Это убеждение можно было вырвать из Сократа только разве с его душой. И я думаю, то же можно о каждом из нас сказать: великое несчастье – возненавидеть разум, но лишиться покровительства морали, отдать мораль в чью-либо власть – это значит опустошить мир, обречь его на вечную гибель. Когда Климент Александрийский учил, что гнозис и вечное спасение неотделимы одно от другого, но что, если они были бы отделимы и ему пришлось выбирать, он предпочел бы гнозис, он только повторил заветнейшую мысль Сократа и греческой мудрости. Когда Ансельм мечтал о том, чтобы вывести бытие Божие из закона противоречия, он добивался того же, что и Сократ: слить в одно познание и добродетель, и в том усматривал высшую задачу жизни. Мы теперь легко критикуем Сократа: по-нашему – знание есть одно, а добродетель другое. Но древние, παλαιοὶ καὶ μακαριοὶ α̎νδρες – старые, отошедшие мужи, которые были лучше нас и стояли ближе к Богу, – выносили в своих душах «истину», которая нашей критики не боялась и с ней не считалась. И если уже говорить все, то нужно признаться: хоть мы и критикуем Сократа, но от его чар и доныне не освободились. «Постулатом» современного, как и античного, мышления продолжает оставаться убеждение: знание равняется добродетели, равняется вечному спасению. О средневековье же и говорить нечего. Hugues de Saint-Victor открыто утверждал, что сократовское γνω̃θι σεαυτόν, «познай самого себя», упало с неба, как упала с неба и Библия. Нам еще не раз придется касаться этого загадочного тяготения и современной, и средневековой мысли к греческой мудрости. Пока я только скажу, что схоластическая философия не только не могла, но и не хотела бороться с чарами греческой мудрости, как не хотим бороться и мы. И для нас Сократ – лучший из людей, мудрейший из людей, праведник. И для нас приговор дельфийского оракула остается окончательным и навеки нерушимым. Раз только – и то в стороне от большой дороги, которой шла философия, – было высказано подозрение в законности суда оракула и истории над Сократом: Ницше почувствовал в Сократе décadent’a, т. е. падшего человека κατ’εξοχήν (по существу). И как раз в том, в чем и сам Сократ, и оракул, и история видели огромную заслугу Сократа: в его готовности отдать не только жизнь, но и душу познанию, Ницше увидел его падение, словно вспоминая рассказ из книги Бытия. До Ницше все думали, что «познай самого себя» упало к нам с неба, но никому и на ум не приходило, что запрет прикасаться к плодам с дерева познания упал с неба. В «познай самого себя» видели истину, в дереве познания – метафору или аллегорию, от которой, как и от многих других библейских аллегорий, необходимо отделаться, профильтровав ее через греческий «разум». Основоположенными истинами, упавшими людям с неба еще до того, как греко-римский мир встретился с Библией, были положения, высказанные Платоном в приведенных мною выше отрывках из «Федона» и «Эвтифрона». Все, что читало средневековье в Св. Писании, преломлялось через эти истины, и ими же оно очищалось от неприемлемых для просвещенных людей элементов. И вдруг Дунс Скот и Оккам обрушились – и с какой при этом безудержностью! – именно против этих незыблемых истин. Точно вперед защищаясь от миролюбивого Лессинга, они все свое изумительное диалектическое искусство направили к тому, чтобы изъять из ведения разума и перевести в область credibilia почти все, что в Библии рассказано о Боге, – что Deum esse vivum, sapientem, volentem (Бог есть живой, мудрый, хотящий), что Бог есть causa efficiens (движущая причина), что Бог неподвижен, неизменен и что, создавши мир, он сам не перестал существовать. «In theorematibus, – заявляет Скот, – ponentur credibilia, quibus vel ad quorum assensum ratio captivatur, quae tamen eo sunt catholicis certiora, quo non intellectui nostro caecutiente et in plurimis vacillante, sed tuae solidissimae veritati firmiter inni tuntur». (Достоверности покоятся на теориях, к приятию которых принужден разум, но которые для католиков тем достовернее, чем меньше они опираются на шаткий и во многих вещах колеблющийся разум и крепче стоят на твоей прочнейшей истине.) Таким языком мог говорить Д.Скот, тот Д.Скот, который, как мы помним, подменил «верую Господи, помоги моему неверию», пришедшее из Иерусалима, «верую Господи, но, если можно, я бы хотел знать», усвоенным людьми в Афинах. Intellectus (разум) у него уже не princeps et judex omnium (глава и судья всего), а слепой и колеблющийся вожатый слепых. И Оккам выражается не менее решительно: «et sic articuli fidei non sunt principia demonstrationis, nec conclusionis, nec sunt probabiles, qua omnibus, vel plurimis, vel sapientibus apparent falsi, nec hac accipiendo sapientes pro sapientibus mundi et praecipui innitentibus rationi natural!»[97]97
Таким образом, положения веры не являются ни принципами доказательств или умозаключений, не являются они также и вероятными утверждениями, которые для всех, для большинства или для разумных, представляются ложными, их следует принимать не так, как разумные принимают свои положения перед лицом разумных, преимущественно опираясь на доводы естественного разума (лат.).
[Закрыть] Дунс Скот и Оккам не ждут от разума оправдания того, что им принесла откровенная истина. Но этого им показалось недостаточно. Они посягают на то, что представлялось грекам и до сих пор представляется нам незыблемейшим из принципов: на провозглашенную Сократом автономию, самозаконность морали. «Dico quod omne aliud a Deo est bonum quia a Deo volitum et non ex converse». (Я говорю, что все другое, что от Бога хорошо, потому, что Богу угодно, а не наоборот.) Или: «Ideo sicut potest (Deus) aliter agere, ita potest aliam legem statuere rectam, qui si statueretur a Deo, recta esset, quia nulla lex est recta, nisi quatenus a voluntate divina acceptatur». (И так как Он может действовать иначе. Он может объявить справедливым другой закон, который и стал бы справедливым, так как Богом установленный, ибо никакой закон не может быть справедливым, если он не исходит от Божественной воли.) Ибо: «non potest Deus aliquid velle, quod non possit recte velle, quia voluntas sua est prima regula» (Бог не может желать того, чего бы он не мог желать справедливо, ибо воля Его есть высшая мера). Если припомнить еще по учению Скота «hujus quare voluntas voluit hoc, nulla est causa, nisi quia voluntas voluntas est» (почему Его воля пожелала этого, для этого нет оснований, ибо именно Его воля есть Его воля), то едва ли можно сомневаться, что попытки тех богословов или историков, которые, чтобы спасти философское доброе имя Скота, стараются всячески доказать, что в Боге Д.Скота все же нельзя видеть воплощение произвола, своих целей не достигают.
У нас, может быть, кровь стынет и волосы на голове подымаются дыбом от этой мысли, но тот, кто, как Д.Скот, заявляет, что «omne est bonum quia a Deo volitum est et non ex converse»,[98]98
Все хорошо, потому что угодно Богу, а не наоборот (лат.).
[Закрыть] или как Оккам: «Deus ad nullum potest obligari, et ideo quod Deus vult, hoc est justum fieri» (Бог ничем не может быть обязан, и поэтому что Бог хочет, то справедливо), тот утверждает в Боге schlechthinnige und regellose Willkur (несдержанный и беспорядочный произвол), сколько бы теологи ни протестовали против этого.[99]99
См., напр., R. Seeberg. Die Theologie des D.Scotus, которому и принадлежит выражение «schlechthinnige und regellose Willkur». По его мнению, «хотя Д.Скот сам дает повод к этому, когда он отрицает, что что-либо может быть для твари само по себе хорошим и тому подобными школьными остротами», у него все же произвол Бога ограничен его bonitas.
[Закрыть] Над Богом нет никаких правил, воля Его не ограничена никаким законом: наоборот – Он единственный источник, Он же и господин над всякими правилами и законами. Как у Плотина: «Оно не нуждается в опоре, как если бы оно не могло само поддержать себя». Та же «беспочвенность» – но еще более страшная и еще менее приемлемая для разумного человека. Можно ли ввериться такому Богу, сколько бы Св. Писание ни повторяло нам свое audi, Israël? И, если таков Бог Св. Писания, Бог, который все, не исключая вечных истин. Сам творит и Сам уничтожает, – то что общего у Него с разумными и этическими началами античной мудрости? И возможен ли тогда дальнейший симбиоз греческой и иудео-христианской философии? Ясно, что неизбежен полный разрыв, а вместе с разрывом и конец средневековой философии, если она не найдет в себе достаточно сил и дерзновения, чтобы пуститься в дальнейший путь не на поводу у древних, а за свой страх и на свою ответственность. На последнее она не отважилась: она хотела во что бы то ни стало сохранить свою связь с «родиной человеческой мысли», с Грецией. И наступил конец. «Elle est morte, – так описывает ее конец Жильсон, – de ses propres dissensions et ses dissensions se multiplièrem dès qu’elle se prit pour une fin au lieu de s’ordonner vers cette sagesse qui était en même temps sa fin et son principe. Albertistes, thomistes, scotistes, occamistes ont contribué à la ruine de la philosophie médièvale dans la mesure exacte où ils ont négligé la recherche de la vérité pour s’épuiser en luttes stériles… La pensée médièvale n’est plus devenue qu’un cadavre inanimé, un poids mort, sous lequel s’est effondré le sol qu’elle avait préparé et sur lequel seui elle pouvait construire».[100]100
Она умерла в распрях с самой собой, и распри эти начали множиться, как только она посчитала целью саму себя и перестала подчиняться той мудрости, в которой заключается и ее цель. Альбертисты, томисты, скотисты, оккамисты – каждый вносил свой вклад в разрушение средневековой философии ровно в той мере, в какой пренебрегал поисками истины и растрачивал себя в бесплодной борьбе… Средневековая мысль превратилась всего лишь в безжизненный труп, в мертвый груз, под которым рухнула ею самою подготовленная почва и на которой только она и могла строить (фр.).
[Закрыть] Средневековая философия после Оккама и Д.Скота, выдернувших из-под нее веками подготовленную почву, умерла, как умерла и греческая философия после Плотина от ужаса пред открытым им οὐ δει̃ται ἱδρύσεως (оно не нуждается в опоре). Она не могла вынести того «ничем не ограниченного и беспорядочного произвола», который просвечивал через скотовское «omne est bonum quia a Deo volitum et non ex converso», т. е. того, в чем заключалась «метафизика исхода» и что возвестить людям было ее назначением: «la notion inconnue aux anciens, d’une vérité créée, spontanément ordonnée vers l’Etre qui en est à la fois la fin et l’origine»,[101]101
Необходимое древним понятие истины сотворенной, свободно подчиненной бытию, в котором ее исток и ее цель (фр.).
[Закрыть] как великолепно выразился Жильсон (II, 64). Недаром схоластики столько столетий жили под сенью греческой мудрости и ее вечных несотворенных истин. Сам Д.Скот хотел во что бы то ни стало «знать», и, когда его преемникам пришлось выбирать между откровенной истиной и истиной самоочевидной, они отвернулись от первой и протянули руку к дереву познания, зачарованные вечно соблазнительным eritis sciemis.
И – да свершится написанное: «la philosophie médièvale est devenue un cadavre inanimé, un poids mort». Каков будет конец новой философии – угадать трудно. Но если и она, как учил Гегель, в плодах с дерева познания будет продолжать видеть единственный источник приобщения к истине и если написанному и дальше суждено сбываться, надо думать, что и ей не избегнуть участи древней и средневековой философии. Или Жильсон заблуждается и «vérité сréée» есть conradictio in adjecto, как и откровенная истина, о которой так много и так вдохновенно говорили нам отцы церкви и схоластики?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.