Текст книги "Военная тайна"
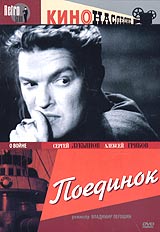
Автор книги: Лев Шейнин
Жанр: Шпионские детективы, Детективы
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Пройдёт несколько лет, и на Нюрнбергском процессе главных немецких военных преступников главный обвинитель от французской республики де Ментон в своей речи, произнесённой 17 января 1946 года, будет вынужден с горечью признать:
“Общественное мнение Франции и Великобритании, обманутое заявлением Гитлера, поверило тому, что замыслы нацистов направлены только на обеспечение судьбы национальных меньшинств, оно надеялось, что существует предел германским притязаниям… Франция и Великобритания позволили ей (Германии) вооружиться…”
Как показал на том же Нюрнбергском процессе подсудимый Кейтель, бывший начальник верховного командования германскими вооружёнными силами и член тайного совета [3]3
Так назывался пост, занимаемый Кейтелем.
[Закрыть] , Гитлер сначала собирался напасть на Советский Союз в конце 1940 года. Ещё раньше, весной 1940 года, был разработан план этого нападения. Он обсуждался в июле того же года на военном совещании в Рейхенхалле.
Осенью 1940 года Гитлер, Кейтель и Иодль (начальник штаба верховного командования) окончательно утвердили и подписали план нападения на СССР, зашифрованный наименованием вариант “Барбаросса”.
Только девять человек в “Третьей империи” были ознакомлены тогда с этим планом – так тщательно он был засекречен…
И только после разгрома гитлеровской Германии этот секретнейший документ с подлинными подписями Гитлера, Кейтеля и Иодля был обнаружен и оглашён на Нюрнбергском процессе.
План начинался так:
“Директива № 21, вариант “Барбаросса”.
Немецкие вооружённые силы должны быть готовы к тому, чтобы ещё до окончания войны с Англией победить путём быстротечной военной операции Советскую Россию (вариант “Барбаросса”). Для этого армия должна будет предоставить все состоящие в её распоряжении соединения с тем лишь ограничением, что оккупированные области должны быть защищены от всяких неожиданностей.
Задача военно-воздушных сил будет заключаться в том, чтобы высвободить для восточного фронта силы, необходимые для поддержки армии, с тем чтобы можно было рассчитывать на быстрое проведение наземной операции, а также на то, чтобы разрушения восточных областей Германии со стороны вражеской авиации были бы наименее значительными.
Основное требование заключается в том, чтобы находящиеся под нашей властью районы боевых действий и боевого обеспечения были полностью защищены от воздушного нападения неприятеля и чтобы наступательные действия против Англии и в особенности против её путей подвоза отнюдь не ослабевали.
Центр тяжести применения военного флота остаётся и во время восточного похода направленным преимущественно против Англии.
Приказ о наступлении на Советскую Россию я дам в случае необходимости за восемь недель перед намеченным началом операции.
Приготовления, требующие более значительного времени, должны быть начаты (если они ещё не начались) уже сейчас и доведены до конца к 15.5.41 г.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение произвести нападение…”
***
Таков был план “Барбаросса”, разработанный Гитлером и его штабом. Всё было предусмотрено в этом плане, и казалось, всё предвидели его авторы: и преимущества внезапного удара, и возможных союзников, с которыми предварительно секретно договорились, и взаимодействие всех родов войск, и задачи, поставленные перед ними, и конечные цели всей “операции”, и глубочайшую засекреченность самого плана и всех предварительных приготовлений. Всё предусмотрели и предвидели в этом плане, кроме одного: мужества и стойкости великого народа, его любви к своей Родине и умения отстоять её независимость и честь в любое время, при любых обстоятельствах и от любых врагов…
Трое подписали план “Барбаросса”: Гитлер, Иодль и Кейтель. Через пять лет Гитлер покончил с собой в душном подземелье новой имперской канцелярии, Иодль и Кейтель были повешены по приговору Международного Военного Трибунала во дворе старинной нюрнбергской тюрьмы вместе со своими сообщниками, повешены в том самом древнем баварском городе, где фашистская партия так торжественно проводила свои съезды, принимала свои людоедские законы и утверждала свои безумные планы “мирового господства”.
***
Голубоватые кольца сигарного дыма плавали в купе международного вагона, в котором Шулленбург и Вейцель ехали в Берлин. Две допитые бутылки рейнвейна – любимая марка господина Шулленбурга – позвякивали на столике при каждом толчке поезда, стремительно мчавшегося на запад. Сидя друг против друга в уютном купе, сверкающем красным полированным деревом и бронзовой арматурой, размякнув от движения, выпитого вина и сигарного дыма, посол и военный атташе без обычного недружелюбия поглядывали друг на друга. Впрочем, их примиряло не столько общее путешествие в одном купе, сколько томительная неизвестность цели этого путешествия и его возможных результатов. Общая тревога сближала их.
Кроме того, каждый из них считал полезным на всякий случай подчеркнуть своё расположение к другому. Вейцель делал это, чтобы Шулленбург не очень играл в Берлине на происшествии с Крашке; Шулленбург пытался задобрить Вейцеля, чтобы тот не очень распространялся “в своей конторе” касательно позиции посла в вопросе о германо-советских отношениях.
За окнами вагона шумел май. Дымились свежевспаханные поля; кое-где гудели, как огромные пчёлы, тракторы; первая, ещё робкая зелень была удивительно нежна. Маленькие будки дорожных мастеров и стрелочников, кирпичные здания полустанков и полосатые шлагбаумы железнодорожных переездов мелькали, как на экране. Стук колёс и свист ветра сливались в ту особую, присущую только железной дороге симфонию, которая и успокаивала, и погружала в дрёму, и вызывала смутные мысли о том, что поджидает впереди.
– Удивительная страна, – осторожно начал Шулленберг, указывая на скользящий за окном вагона пейзаж. – Бескрайние просторы, неисчерпаемые богатства земных недр и самый фанатичный в сегодняшнем мире народ. Следует признать, мой дорогой полковник, что в Берлине имеют весьма приблизительное представление о Советской России и её возможностях…
– Какие возможности вы имеете в виду, уважаемый господин фон Шулленбург? – спросил Вейцель.
– Прежде всего их промышленный и военный потенциал, – ответил Шулленбург.
– Я невысокого мнения о советских вооружённых силах, – медленно и раздельно возразил Вейцель, сразу вспомнив свой доклад о киевских маневрах. – Что же касается их промышленного потенциала, то серия хорошо подготовленных налётов бомбардировочной авиации может без особого труда его ликвидировать.
Фон Шулленбург задумался.
– Ах, господин полковник, – произнёс он после значительной паузы, – от русских всегда можно ожидать всяких неожиданностей! Нам, представителям цивилизованной страны, даже трудно представить себе всё, на что способны эти азиаты… И с этой точки зрения нельзя не вспомнить Бисмарка, который, как вам известно, решительно рекомендовал Германии никогда не воевать с Россией.
– Стоит ли вспоминать о Бисмарке, когда, к счастью Германии, есть Адольф Гитлер! – торжественно произнёс Вейцель, глядя прямо в глаза Шулленбургу и с удовольствием замечая, что тот несколько растерялся.
– О да! – поспешил ответить Шулленбург. – Гений нашего фюрера – поистине счастье для Германии. То, что удалось фюреру за последние годы, ещё сотни лет будет удивлять историков…
И, произнеся эту тираду, господин фон Шулленбург решил не говорить больше с Вейцелем на подобные темы. В Берлин они приехали утром и в тот же день явились к начальству.
Генерал Пиккенброк, как только Вейцель вошёл в его кабинет, закатил военному атташе такой скандал, что Вейцеля едва не хватил удар. Но это была только прелюдия: к концу дня Пиккенброк повёл почти полумёртвого Вейцеля к адмиралу Канарису. Последний был зловеще спокоен. Он молча протянул Вейцелю руку, пригласил его сесть и, по обыкновению, начал насвистывать модный опереточный мотив – господин адмирал имел отличную музыкальную память и очень этим гордился. Пиккенброк и Вейцель молчали.
– Военная разведывательная служба, – начал наконец Канарис, – разумеется, укомплектована не только гениями. Но я никогда не думал, господин полковник, что абсолютный болван, лишённый элементарной профессиональной осторожности, может подвизаться в роли нашего военного атташе, да ещё в такой стране, как Советская Россия… Не кажется ли вам, что это по меньшей мере странно?
– Господин адмирал, – воскликнул Вейцель, мгновенно вскочив с кресла, – позвольте хотя бы два слова!
– Не позволю! – отрубил Канарис. – Вам нечего объяснять! Не желаю слушать всякий вздор… Вы провалили важнейшее задание, которым интересовался сам фюрер. В состоянии вы понять хотя бы это?
– Господин адмирал!.. – залепетал Вейцель. – Во всём виноват этот Крашке, которого, кстати, я совсем не знал. И он… И я… Одним словом…
– Молчать!.. – закричал Канарис и так хватил кулаком по столу, что хрустальный письменный прибор зазвенел. – Я назначаю служебное расследование и подвергаю вас на время расследования домашнему аресту… Вы слышите, генерал Пиккенброк?
– Так точно, господин адмирал, – щёлкнул каблуками Пиккенброк.
К концу беседы выяснилось, что с Крашке поступили ещё более круто: его уволили из главного управления военной разведки и назначили представителем “Абвера” в одну из дивизий, которой командовал некий генерал-майор Флик.
Началось служебное расследование, во время которого выяснилось, что Крашке в своих письменных объяснениях пытался всё свалить на Вейцеля, заявив, что тот приказал ему ехать на вокзал и там передать плёнку вопреки его, Крашке, предложению передать её Мюллеру в гостинице.
Инспектор для особых поручений, который производил служебное расследование, особенно напирал на эти объяснения Крашке во время мучительных для Вейцеля допросов.
Фон Вейцель провёл двое суток под домашним арестом в своей загородной вилле, только днём его возили на допросы к инспектору.
Бог знает, чем бы всё это кончилось, если бы не мудрость фюрера, который, когда ему доложили результаты расследования, спросил:
– Не тот ли это полковник Вейцель, который прислал доклад о киевских маневрах?
– Тот самый, мой фюрер, – ответил Канарис.
– Это был превосходный доклад, – сказал Гитлер. – Этот полковник – честный немец и знает своё дело.
Канарис, который только что собирался характеризовать Вейцеля как бездельника, тупицу и лицо, не заслуживающее доверия, немедленно перестроился и стал петь Вейцелю дифирамбы.
– Ограничьтесь устным внушением, – приказал Гитлер, – а завтра привезите этого полковника ко мне. Я хочу с ним поговорить.
Канарис, вызвав к себе после этого разговора Вейцеля, был обходителен и мил до чрезвычайности. Передав Вейцелю в общих чертах решение фюрера и даже похлопав полковника по плечу, он приказал явиться к нему на следующий день утром в парадной форме, чтобы вместе ехать к Гитлеру.
И вот они вдвоём входят в кабинет фюрера, куда их пропускает сам Мартин Борман, помощник фюрера и руководитель партийной канцелярии, член рейхстага, член штаба главного командования СА (штурмовые отряды нацистской партии), основатель и глава кассы взаимопомощи партии (злые языки утверждали, что Борман имел все основания называть её “кассой самопомощи”, рейхслейтер, генерал СС, и прочая, и прочая, и прочая.
Вейцель мысленно отметил подчёркнутую подобострастность, с которой Канарис поздоровался с Борманом, и понял, что этот человек пользуется огромным влиянием на Гитлера.
Когда Канарис и Вейцель вошли в кабинет Гитлера, они увидели фюрера, склонившегося над огромной картой, разложенной на длинном столе для заседаний. Рядом с Гитлером, также склонившись над картой, стоял Геринг.
Гитлер расчерчивал карту огромным красным карандашом, заливаясь счастливым смехом. Геринг старательно вторил ему. Оба были так увлечены картой, что даже не обернулись на скрип двери.
Канарис и Вейцель застыли в позе “смирно”, не решаясь оторвать руководителей “Третьей империи” от занятия, которым они были так поглощены.
– Смотрите, Герман, – говорил Гитлер, указывая на отчёркнутую им жирную красную линию, – здесь, на границе Урала, только здесь я остановлю победный марш моих армий. Здесь будут наши военные колонии…
В этот момент в кабинете появился Борман, который запросто подошёл к Гитлеру и шепнул ему о приходе Канариса и Вейцеля.
Гитлер и Геринг обернулись к ним. Гитлер с интересом взглянул на Вейцеля и спросил:
– Вы давно из Москвы, полковник? Что там нового? Как чувствуют себя русские большевики? Всё ещё собираются строить коммунизм?
И он отрывисто, чуть повизгивая, захохотал, закидывая назад сплющенную книзу голову с неизменным клоком волос, как бы приклеенным ко лбу, выпученными глазами и маленькими усиками.
Рядом со слонообразным, оплывшим Герингом низкорослый, тощий фюрер выглядел особенно нелепо.
Господин Вейцель довольно складно ответил на вопрос фюрера, что в Москве, судя по всему, нет ничего нового, большевики действительно продолжают упорствовать со строительством коммунизма и особо заметных военных приготовлений нет.
Гитлер пригласил Канариса и Вейцеля сесть за стол и стал задавать Вейцелю вопрос за вопросом.
Отвечая на эти вопросы, Вейцель рассказал, что в России отличные виды на урожай, продовольствия сколько угодно, население питается хорошо, данных о срочных мобилизациях нет.
Каждый из этих ответов заметно радовал фюрера, и Вейцель понял, что война предрешена.
В конце разговора, который шёл вполне мирно и даже весело, фюрер внезапно вскочил с кресла (все сразу встали) и начал кричать, что он верен “своей исторической миссии” и докажет всему миру способность уничтожить коммунизм дотла.
– Я превращу Ленинград в пепел, – кричал он, ударяя кулаком по столу, – а Москву в груды развалин!.. Я покажу всем этим либеральным европейским болтунам и социалистическим собакам, что такое нацистский кулак! Они боятся России как огня, а я сокрушу её в три месяца!..
Он долго ещё кричал, сыпал ругательства и проклятия, сменившиеся хвастливыми угрозами и клятвами, бросал на пол карандаши, ручки, весь сотрясаясь от судорожных конвульсий, Невозможно было понять, почему так внезапно наступил этот почти эпилептический припадок, почему Гитлер начал вдруг бесноваться, орать и дёргаться.
Вейцель, ещё никогда не видевший Гитлера в таком состоянии, оцепенел от ужаса. Что означал этот приступ безумия?
Геринг стоял с равнодушным и даже немного скучающим лицом – он давно привык к подобным выходкам Гитлера и в глубине души считал, что по справедливости фюрером Германии должен был стать он, Герман Вильгельм Геринг, настоящий немец, а не этот тощий австрияк, который злится на весь мир и делает уйму глупостей.
Канарис, адмирал Канарис, глава германской разведывательной службы, готовый при первом удобном случае продаться любой иностранной разведке, если только она будет хорошо платить (что он в дальнейшем и сделал), стоял с непроницаемым выражением лица, мысленно прикидывая, насколько может затянуться очередной приступ и не сорвёт ли он весьма приятного свидания, которое назначила господину адмиралу обворожительная фрейлейн Эрна, новая звезда венской оперетты, гастролирующей в Берлине.
А фюрер продолжал кричать и скоро сорвал и без того натруженный на митингах голос. Он перешёл на фальцет – и вдруг, без всякого перехода и, видит бог, без всяких причин (так подумал Канарис) побежал к сейфу, вынул из него орден Железного Креста и, подбежав к напуганному Вейцелю, прикрепил орден к его парадному кителю, крича:
– Вот тебе за истинно немецкий дух и светлую голову!..
Геринг и Канарис, придя в полное недоумение, тем не менее вытянулись и застыли в положении “смирно”, как этого требовал в таких случаях имперский военный устав. Полковник Вейцель, вчера ещё размышлявший, не закончится ли домашний арест заключением его в Моабитскую тюрьму или какой-нибудь концлагерь, подумал, что всё это происходит с ним во сне…
И уже дома, сняв парадную форму и облачившись в спокойную домашнюю пижаму, германский военный атташе в Москве полковник Ганс фон Вейцель, подойдя к зеркалу, пристально вгляделся в своё осунувшееся от треволнений последних дней лицо и вдруг начал от всей души хохотать.
Вот что значит представить угодный начальству доклад!
***
Увы, господин фон Шулленбург не только не получил ордена, но, напротив, имел очень неприятный разговор с рейхсминистром иностранных дел господином Иоханном фон Риббентропом.
Рейхсминистр заявил послу, что фюрер чрезвычайно недоволен его докладами и совершенно не разделяет выводов, которые он столь легкомысленно делает.
На вопрос Шулленбурга, может ли он надеяться быть лично принятым фюрером и обосновать свои выводы, Риббентроп странно усмехнулся и произнёс довольно загадочную фразу, смысл которой сводился к тому, что вряд ли фюрер сочтёт это полезным для себя, а для господина Шулленбурга, пожалуй, будет полезнее, если эта аудиенция не произойдёт…
Риббентроп, конечно, не сказал Шулленбургу главного: фюрер хотел арестовать его и передать в гестапо. Шулленбурга спасло лишь то, что война была предрешена. Гитлер считал, что внезапная смена посла может вызвать в Москве подозрения, а ему хотелось именно теперь ничем не выдавать своих замыслов. Поэтому он согласился с предложением Риббентропа вернуть Шулленбурга в Москву, решив про себя, что арестовать его он всегда успеет, Риббентроп приказал Шулленбургу по возвращении в Москву предпринять ряд шагов, направленных к тому, чтобы уверить Советское правительство в верности немцев советско-германскому пакту.
Шулленбург возвращался в Москву один, так как Вейцель должен был ещё задержаться в Берлине. Он ехал с недобрыми предчувствиями, которые не обманули его. [4]4
Шулленбург был расстрелян по приказу Гитлера 10 декабря 1944 года.
[Закрыть]
Как раз тогда, когда Шулленбург следовал из Берлина в Москву, германские дивизии скрытно подвозились к советским границам. Со всех сторон Европы, пароходами и океанскими лайнерами, товарными и пассажирскими поездами, целыми автоколоннами, транспортными самолётами, сушей, морем и по воздуху, подвигались к границам СССР пехота и артиллерия, тысячи танков и самолётов, бомбы и боеприпасы, штабные машины всех марок мира, награбленные во всех странах закабалённой Европы, прожекторные части, передвижные радиостанции, походные типографии. Ехали специально обученные парашютисты-диверсанты, переодетые в форму советской милиции и органов НКВД и снабжённые толом и портативными рациями, гестаповские “зондеркоманды”, особо подготовленные для массового уничтожения советского населения и партийного актива, шпионы всех мастей и расценок, опытные тюремщики, набившие руку палачи, тучи всякого рода “экономических советников”, готовых налететь, как вороньё, на оккупированные области и немедленно выкачать оттуда всё, что возможно. По ночам, рокоча моторами, скрытно подкрадывалась к советским рубежам вся чудовищная гитлеровская военная машина, готовая по первому приказу фюрера ринуться на советскую землю.
Смерть и рождение
В то самое утро, когда Крашке направился на Белорусский вокзал для передачи плёнки уезжавшему герру Мюллеру, молодой карманник Жора-хлястик, имеющий, однако, уже солидный воровской стаж и три судимости в прошлом, шёл по улице Горького, направляясь к тому же вокзалу для проводов заграничного поезда Москва – Негорелое.
Собственно, провожать Жоре-хлястику было решительно некого, но Белорусский вокзал и заграничный поезд представляли для него совершенно особый интерес – это была зона его воровской деятельности.
Именно на этом вокзале и перед самым отходом именно этого поезда Жора-хлястик в предотъездной вокзальной сутолоке довольно удачно обворовывал пассажиров или тех, кто их провожал.
Жора-хлястик был вор-одиночка и потому “работал” на свой страх и риск, не получая доли из общего “котла”, как было раньше, когда он состоял в воровской “артели” и делил с другими карманниками дневную выручку.
“Артель” давала известные преимущества в том смысле, что, если в определённый день кто-либо из карманников оставался без “улова”, он всё равно получал долю из общего “котла”.
Но несмотря на это, Жора-хлястик не захотел оставаться в “артели”. Ему надоели вечные ссоры из-за взаимных расчётов, традиционные пьянки после удачного дня, диктаторский тон “председателя артели” и весь воровской быт. Кроме того, Жора в глубине души давно уже сознавал, что ведёт никчемную, пустую жизнь и что с этим пора кончать.
Сейчас, направляясь к Белорусскому вокзалу с видом человека, совершающего утренний моцион, Жора-хлястик был в самом отличном настроении. Всё радовало глаз и душу: и эта нарядная, залитая майским солнцем, только что вымытая специальными машинами улица, и весёлая уличная толпа, и зеркальные витрины магазинов, и яркие краски вывесок, и излюбленный им кафетерий “Форель”, где служила продавщицей рыбного отдела весёлая, кокетливая Люся. Молоденькая шатенка со вздёрнутым носиком охотно принимала ухаживания Жоры-хлястика, представившегося ей артистом-чечёточником Мосэстрады, и уже дважды ходила с ним в “Эрмитаж”.
На Белорусском вокзале, как всегда перед отходом дальнего поезда, царила весёлая сутолока. Носильщики разгружали подходившие одна за другой машины с пассажирами; в киосках нарасхват раскупали свежие журналы и газеты; у буфетной стойки толпилась нетерпеливая очередь; бойко торговали продавщицы мороженого и первых весенних фиалок; во всех направлениях сновали женщины с детьми, солидные хозяйственники с толстыми портфелями и иностранцы, сопровождаемые носильщиками, тащившими за ними чемоданы с яркими наклейками на разных языках.
Жора-хлястик (настоящая его фамилия была Фунтиков) спокойно закурил, с удовольствием посмотрел на свои ярко начищенные ботинки редкого апельсинового цвета, купил перронный билет и вышел к поданному на платформу поезду.
У коричневого международного вагона он обратил внимание на иностранца с моноклем (это был Крашке), который тоже, видимо, пришёл кого-то провожать, но ещё не дождался уезжающего и теперь нетерпеливо посматривал на часы. Фунтиков, не глядя ему в лицо, осмотрел его сзади – он большей частью “работал” по задним карманам. Иностранец медленно похаживал вдоль вагона, чуть повиливая бедрами. На нём были светлые фланелевые брюки с бежевым оттенком и светло-коричневый, в тон брюкам, спортивный пиджак.
Острый глаз Фунтикова сразу отметил, что пиджак чуть топорщился над задним карманом брюк, в котором явно находился бумажник. Объект был найден.
Охваченный весёлым предчувствием удачи, которое почти никогда не обманывало его, Фунтиков следовал, как тень, за спиной этого высокого иностранца с моноклем, делая, однако, вид, что не обращает на него ни малейшего внимания.
За четверть часа до отхода поезда на перроне появился сухопарый рыжеватый человек в тёмных очках, за которым шёл носильщик с двумя ярко-жёлтыми чемоданами. Рыжий остановился у международного вагона и поздоровался с поджидающим его иностранцем с моноклем. Носильщик внёс чемоданы в купе и, получив за услуги, удалился, а оба иностранца, стоя у вагона, стали разговаривать между собой.
Как раз в это время к тому же вагону мчалась по перрону толстая, потная от волнения и боязни опоздать дама с уймой картонок и баулов в руках, а за нею едва поспевал какой-то щуплый человечек, тоже нагруженный всевозможными свёртками и пакетами.
– Коля, да скорее же, этакий тюлень! – кричала дама на всю платформу, энергично расталкивая стоявших на перроне людей и задевая их своими вещами. – Опоздаем, вот увидишь, опоздаем!
– Не волнуйся, Валюша, ещё есть время, – бормотал, тяжело дыша, её спутник, – до отхода ещё несколько минут…
Взглянув на эту даму и сразу сообразив, что она – сущий клад. Фунтиков, так сказать, поплыл в её фарватере и не ошибся: дама, поравнявшись с двумя иностранцами, бесцеремонно их растолкала, задев при этом того, кто был с моноклем, своими картонками и оттеснив его в сторону.
Именно в это мгновение Фунтиков, сделав вид, что он прижат энергичной дамой, вплотную прильнул к иностранцу, молниеносным движением правой руки вырезал задний карман и сразу как бы растворился в толпе пассажиров, уже начавших прощаться со своими провожающими. Через несколько секунд Фунтиков “смылся” с перрона.
Не торопясь, всё с тем же независимым видом человека, только что проводившего своих близких, Фунтиков вышел на вокзальную площадь.
Бумажник, судя по объёму и тяжести, сулил превосходные перспективы.
Фунтиков закурил и, выбравшись на улицу Горького, направился в кафетерий “Форель”, где сразу увидел Люсю, стоявшую за стойкой в белом кружевном фартучке и кокетливой наколке.
– Труженикам прилавка пламенный! – произнёс Фунтиков, здороваясь с Люсей. – Попрошу пару раков и скумбрию горячего копчения…
– Здравствуйте, Жора, – пропела Люся, старательно выбирая своему поклоннику самых крупных раков и жирную золотистую скумбрию. – Вот самые свежие…
И она протянула Фунтикову тарелку.
– Благодарствуйте, Люсенька, – солидно произнёс Фунтиков и направился с тарелкой в самый тёмный угол кафетерия, где в тот час никого не было.
Здесь, поставив тарелку на высокий столик, Фунтиков вынул из кармана только что украденный бумажник и внимательно осмотрел его снаружи, не заглядывая пока в его отделения.
Это был превосходный, совсем ещё новый бумажник из крокодиловой кожи, на “молниях” с многочисленными карманчиками и отделениями, которые были туго набиты. В самом крупном кармане бумажника, под застёгнутой “молнией”, что-то упруго круглилось.
Положив бумажник на мраморный столик, Фунтиков стал неторопливо есть, с аппетитом поглощая нежную, таявшую во рту скумбрию, а за ней горячих раков.
Покончив наконец с едой, Фунтиков взялся за бумажник. В нём оказалось двести с чем-то рублей, несколько американских долларов и немецкие марки. “Улов” был не так уж богат. В другом отделении были обнаружены какие-то записки на иностранном языке, визитная карточка с надписью на обороте и, наконец, фотоплёнка в целлоффановом конверте, уже проявленная.
***
Фунтиков вынул плёнку и посмотрел её на свет. На ней было тридцать шесть чётких, ясно видимых фотоснимков каких-то чертежей и конструкций. На трёх из них зоркие глаза Фунтикова разглядели надписи, сделанные очень мелкими русскими буквами.
Фунтиков с большим напряжением всё же разобрал эти надписи, которые гласили: “Сов. секретно. Чертежи и формулы орудия “Л‑2”.
Как только Фунтиков прочёл эти слова, он понял, что обворовал иностранного шпиона, врага, сумевшего каким-то путём добыть секретные военные чертежи. С бьющимся от волнения сердцем, забыв даже проститься с Люсей, он выбежал из кафетерия, держа в руках злополучный бумажник. Он ещё не знал, как поступить, что делать, куда и к кому направиться, но всем своим существом ощущал необходимость что-то решить, действовать и прежде всего разобраться в том, что вдруг вспыхнуло и забурлило в его душе и что теперь несло его невесть куда, невесть зачем, не спрашивая его согласия, несло, как несёт внезапно нахлынувший морской вал застигнутого врасплох пловца, даже не пытающегося сопротивляться могучей стихии.
Фунтиков не помнил, как он пробежал по улице Горького до Пушкинской площади, уже не замечая ни прохожих, ни всех чудес весеннего дня, пробежал, как будто за ним гонится кто-то неотвратимый и строгий, как судьба, от которой, как ни старайся, всё равно не убежишь, не скроешься, не спрячешься.
Он не помнил, как очутился на Тверском бульваре, в боковой аллее, полной свежей прохлады, молодой зелени цветущих лип и весёлых криков играющих детей. Он сел на скамью и, может быть, впервые в жизни всерьёз задумался над всем, чем он жил, что делал.
Фунтиков не отдавал себе отчёта в том, что это новое, удивительное состояние острой тревоги и вместе с тем предчувствия счастья, вызванное случаем с бумажником, явится переломным моментом в его жизни, хотя само это происшествие было лишь последней каплей в том, что уже давно наполняло его душу и в чём он сам себе ещё боялся признаться.
Он ещё не понимал, что случай с бумажником вытолкнет его окончательно и навсегда из той жизни и среды, которыми он внутренне уже давно тяготился, но порвать с которыми ещё не находил в себе ни смелости, ни сил. Да, ему требовался какой-то последний, но решающий толчок извне, и именно бумажнику господина Крашке суждено было сыграть роль такого толчка.
Итак, он обокрал шпиона, врага его Родины, да, Родины, потому что, как бы то ни было, это ведь и его Родина. И вот сейчас он, карманный вор с тремя судимостями и тёмным прошлым, может на деле помочь Родине, если только он действительно её сын и если хватит у него смелости доказать это делом, пренебрегая всеми возможными неприятностями, даже тюрьмой, которой может для него кончиться всё случившееся.
Тюрьма… Она была хорошо знакома Фунтикову, и всё-таки он очень боялся её. А тюрьмы, если он пойдёт куда следует и честно заявит о случившемся, видимо, не избежать: ведь он совершил карманную кражу, то есть уголовно наказуемое деяние. И, кроме того, “там” сразу поймут, что он профессиональный вор-рецидивист, не покончивший со своим прошлым, и что этот проклятый бумажник – только последнее звено в длинной цепи совершённых им краж. Налицо 162‑я статья, текст которой он давно знал наизусть и по которой уже не раз судился.
А жизнь так прекрасна и заманчива! И что может быть лучше свободы, вот этих весенних улиц, цветущих лип, тёплых Люсиных губ и её сияющего, нежного взгляда? Ведь он может, не являясь лично, послать в следственные органы этот бумажник и таким образом выполнить свой долг перед государством, ничем при этом не рискуя.
Да, может, но всё-таки это будет не то, совсем не то, потому что его помощь, вероятно, понадобится тем же органам, например, для опознания иностранца с моноклем.
До позднего вечера Фунтиков, забыв обо всех своих личных делах и планах, шатался по Москве, нигде не находя себе места и укрытия от самого себя.
Он провёл мучительную, бессонную ночь и утром, приготовив маленький чемодан с бельём, папиросами, зубной щёткой и одеялом – необходимый набор для тюрьмы, – пошёл в прокуратуру, к народному следователю Бахметьеву, напомнил о себе и попросил выписать ему пропуск, так как он должен сделать заявление “по делу особой государственной важности”.
Так Жора-хлястик впервые по своей доброй воле пошёл к следователю…
И хотя это была смерть Жоры-хлястика и рождение Маркела Ивановича Фунтикова, ни в одном загсе столицы не были зарегистрированы ни факт смерти вора, ни факт рождения нового честного человека. Потому что далеко не всё, что происходит в удивительное наше время, регистрируется в ведомственных книгах, но зато подлежит регистрации в великой книге истории нашими потомками, когда благодарно и пытливо они станут изучать трудные и сложные пути, которыми их отцы и деды пробивались к коммунизму, не щадя ни своих сил, ни своих лет, ни самой жизни своей, если только она требовалась во имя общей и великой цели. “Второе рождение” Фунтикова было фактором мелким, незначительным и никак не связанным с главными делами эпохи. Но и в нём, в этом своеобразном факте сказывался дух нового времени.









































