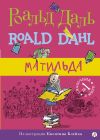Текст книги "Рождество под кипарисами"

Автор книги: Лейла Слимани
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Это карманный фонарик. Посвети им вверх и попытайся попасть лучом в глаза птицам. Если сумеешь, они так напугаются, что замрут в воздухе, и ты сможешь поймать их рукой.
В другой раз он пригласил дочку пойти с ним в примыкающий к дому декоративный садик, который разбил для Матильды. Там росли молодая сирень, куст рододендрона и жакаранда, которая еще ни разу не цвела. Под окном гостиной раскинулось дерево с корявыми ветками, сгибавшимися под тяжестью апельсинов. В руке с черными полосками земли под ногтями Амин держал ветку лимона, он вытянул палец и показал Аише две сформировавшиеся на ней почки. Острым ножом сделал глубокую насечку на стволе апельсинового дерева.
– А вот теперь смотри внимательно, – произнес он и осторожно вставил косо срезанный конец ветки лимона в щель на стволе апельсина. – Сейчас скажу работнику, чтобы замазал разрез смолой и обвязал веревкой. Тебе останется только выбрать имя этому странному дереву.
* * *
Сестра Мари-Соланж любила Аишу. Она была очарована этим ребенком, на которого втайне возлагала честолюбивые надежды. Малышка была склонна к мистике, и если директриса видела в этом первые признаки истерии, то сестра Мари-Соланж, напротив, определяла божественное призвание. Каждое утро перед уроками ученицы отправлялись в часовню, к которой вела посыпанная гравием дорожка. Аиша часто опаздывала, но стоило ей войти в ворота школы, и она уже не отрывала взгляда от дома Божьего. Она шла туда с такой целеустремленностью и решительностью, что это казалось странным, особенно в ее возрасте. Порой, не дойдя нескольких метров до порога часовни, она становилась на колени и с безмятежным лицом двигалась вперед, скрестив руки на груди и обдирая кожу об острые камни. Когда она попадалась на глаза директрисе, та рывком поднимала ее:
– Мадемуазель, мне не по вкусу ваше показное благочестие. Господь умеет распознавать искренность.
Аиша любила Господа и сказала об этом сестре Мари-Соланж. Она любила Иисуса Христа, который встречал ее, нагой, когда она выходила в ледяное утро. Ей сказали, что страдание приближает человека к небесам. Она поверила.
Однажды утром в конце мессы Аиша упала в обморок. Она не смогла произнести последние слова молитвы. Она дрожала от холода, стоя в стылой часовне в поношенном свитере на костлявых плечах. Ее не согрели ни пение, ни запах ладана, ни звучный голос сестры Мари-Соланж. Ее лицо побелело, глаза закатились, и она упала на каменный пол. Сестре Мари-Соланж пришлось нести ее на руках. Эта сцена привела школьниц в раздражение. Они говорили, что Аиша притвора, что она фальшивая святая, а в будущем станет бесноватой прорицательницей.
Ее уложили в маленькой комнатке, служившей медицинским пунктом. Сестра Мари-Соланж поцеловала ее в щеки и в лоб. По правде говоря, здоровье малышки ее не беспокоило. Этот обморок означал, что между тщедушным тельцем девочки и телом Христа установился диалог, ни смысла, ни красоты которого Аиша пока не осознавала. Девочка шумно выхлебала теплую воду, а сахар, который сестра велела ей пососать, оттолкнула. Она заявила, что не заслуживает такого лакомства. Сестра Мари-Соланж настояла на своем, Аиша высунула острый язычок, потом с хрустом разгрызла сахар.
Она попросила разрешения вернуться в класс. Сказала, что ей уже лучше, что она не хочет пропускать занятия. Вошла и села за свою парту, позади Бланш Колиньи, и утро прошло тихо и мирно. Аиша не отрываясь смотрела в затылок Бланш, на ее розовую пухлую шею, покрытую легким светлым пушком. Бланш высоко зачесывала волосы и собирала их в пучок на макушке, как у балерины. Каждый день Аиша часами созерцала эту шею. Она знала ее в мельчайших подробностях. Она знала, что, когда Бланш наклоняется к тетрадке, чуть выше плеч у нее образуется маленькая складочка. В сентябре, когда стояла удушающая жара, кожа Бланш покрылась красными зудящими пятнышками. Аиша наблюдала, как ее соседка в кровь расчесывала кожу испачканными в чернилах пальцами. Капельки пота стекали от корней волос вниз, на спину, воротнички платьев намокали и приобретали желтоватый оттенок. В классной комнате нечем было дышать, шея Бланш изгибалась, как у гуся, по мере того как внимание девочки рассеивалось, ее одолевала усталость, и случалось, среди дня она засыпала. Аиша никогда не притрагивалась к своей однокласснице. Иногда ей хотелось протянуть руку, ощупать кончиками пальцев выпуклые позвонки, погладить выбившиеся из прически белобрысые прядки, мягкие, как цыплячий пух. Если бы она не держала себя в руках, то уткнулась бы носом в эту шею и вдохнула ее запах, но еще больше ей хотелось бы попробовать ее на вкус, лизнув кончиком языка.
В тот день Аиша заметила, как по затылку Бланш пробежала легкая дрожь. Белый пушок встал дыбом, как у кошки, готовой к драке. Аиша гадала, что было причиной такого волнения. Или это просто свежий ветерок ворвался в окно, открытое сестрой Мари-Соланж? Аиша уже не слышала ни голоса учительницы, ни скрипа мела по доске. Этот затылок вызывал у нее помрачение рассудка. И она не удержалась. Схватила циркуль и проворно вонзила иглу в шею Бланш. Тут же ее выдернула и, зажав большим и указательным пальцами, стерла капельку крови.
Бланш громко вскрикнула. Сестра Мари-Соланж резко обернулась и чуть не свалилась с кафедры:
– Мадемуазель Колиньи! Что на вас нашло? Почему вы кричите?
Бланш набросилась на Аишу. Изо всех сил вцепилась ей в волосы. Ее перекосило от ярости.
– Эта ведьма ущипнула меня за шею!
Аиша и пальцем не пошевелила. Когда Бланш налетела на нее, она опустила глаза, сжалась в комок и не произнесла ни слова. Сестра Мари-Соланж схватила Бланш за руку. И с поразившей учениц грубостью потащила к своему столу.
– Как вы смеете обвинять мадемуазель Бельхадж? Кто мог бы вообразить, что Аиша на такое способна? Я подозреваю, что за всем этим кроются какие-то недостойные чувства.
– Но я вам клянусь! – вскричала Бланш, ощупывая затылок и шею и осматривая ладонь в надежде обнаружить доказательства нападения. Но крови не было, и сестра Мари-Соланж велела ей несколько раз написать красивым почерком: «Никогда не буду обвинять своих школьных друзей в вымышленных проступках».
На перемене Бланш бросала на Аишу злобные взгляды. Казалось, она говорит: «Ничего-ничего, ты у меня дождешься!» Аиша сожалела, что укол циркулем не принес ожидаемого результата. Она надеялась, что тело соседки сдуется, как шарик, который проткнули булавкой, что оно превратится в вялую безобидную оболочку. Но Бланш осталась жива и невредима, она прыгала посреди двора, смешила подружек. Прислонившись спиной к стене и повернувшись лицом к солнцу, которое согревало и успокаивало ее, Аиша наблюдала за девочками, игравшими в огороженном дворике, где росли платаны. Марокканки, сложив ладони трубочкой и прикрыв ими рот, шепотом делились друг с другом своими секретами. Аиша считала, что они очень красивы, длинные темные волосы, заплетенные в косы, поддерживал тоненький белый ободок надо лбом. Большинство из них жили в интернате и ночевали на территории школы. По пятницам они уезжали домой, к родным, в Касабланку, Фес или Рабат – в города, где Аиша никогда не бывала и которые представлялись ей такими же далекими, как Эльзас, родной край ее матери Матильды. Ведь Аиша не была в полной мере ни арабкой, ни европейской девочкой, как дочери землевладельцев, авантюристов, чиновников колониальной администрации, играющие в классики, крепко сжав коленки. Она не знала, кто она такая, а потому стояла одна, прислонившись к нагретой солнцем стене школьного здания. «Как долго! Как же долго! Когда я снова увижу маму?»
Вечером ученицы с криками помчались к школьной ограде. Начинались рождественские каникулы. Гравий хрустел под лакированными ботинками девочек, их замшевые пальто покрывались белыми пушинками. Шумный возбужденный рой школьниц чуть не сбил Аишу с ног. Она прошла за ограду и остановилась на тротуаре. Матильда не приехала. Аиша смотрела, как ее однокашницы, уходя, прижимаются к матерям и трутся о них, как кошки. Перед школой припарковался огромный американский автомобиль, из него вышел мужчина в красной феске. Обошел машину и стал искать взглядом маленькую девчушку. Заметив ее, почтительно приложил руку к сердцу и прижал подбородок к груди. «Lalla[8]8
Почтительное обращение к женщине.
[Закрыть] Фатима!» – приветствовал он направлявшуюся к нему школьницу, и Аиша удивилась, почему с этой малышкой, которая засыпала на уроках, уронив голову на тетрадь и пачкая слюнями страницы, обращались как с важной дамой. Фатима исчезла в чреве огромной машины, девочки помахали ей, крикнув: «Хороших каникул!» Потом щебет стих, детвора разошлась, и городская жизнь потекла своим чередом. На пустыре за школой подростки играли в мяч, до Аиши долетали испанские и французские ругательства. Прохожие, украдкой взглянув на нее, поднимали глаза, словно ища объяснение, почему эта девчушка, не похожая на нищенку, стоит здесь в одиночестве, как будто все о ней забыли. Аиша отводила глаза, ей не хотелось, чтобы ее жалели, а тем более утешали.
Стало совсем темно, и Аиша крепко прижалась к школьной ограде, желая исчезнуть, испариться, превратиться в дуновение ветра, призрак, облачко пара. Время текло так медленно! Ей казалось, что она стоит здесь уже целую вечность: плечи и лодыжки у нее заледенели, она мысленно звала мать, которая все никак не ехала. Она потерла ладонями плечи, попрыгала с ножки на ножку, чтобы не замерзнуть окончательно. Ее одноклассницы, подумала она, полдничают сейчас на кухне, уплетая горячие блинчики с медом. Аиша представляла себе, как кто-то из них делает уроки, сидя за столом из красного дерева в комнате, заваленной игрушками. Загудели автомобильные клаксоны, люди стали выходить из контор, и Аиша то и дело вздрагивала от слепящего света фар. Город заплясал в лихорадочном ритме, который задавали мужчины в шляпах и плащах. Они уверенным шагом входили в теплые жилища, радостно предвкушая вечер и ночь, когда они будут пить и спать. Аиша принялась вертеться волчком, словно обезумевшая механическая кукла, и молиться Иисусу Христу и Деве Марии, стиснув руки так, что они побелели. Браим не сказал ей ни слова, потому что директриса запретила ему разговаривать с ученицами. Но он протянул девочке руку, и она сжала его ладонь. Стоя у ограды, они вдвоем не отрываясь смотрели на перекресток, откуда наконец должна была появиться Матильда.
Она выскочила из старой развалюхи и обняла свое дитя. На арабском с заметным эльзасским акцентом поблагодарила Браима. Ощупала карман грязной куртки, наверное, ища монету, чтобы дать ее сторожу, но не нашла и покраснела. В машине Аиша не отвечала на вопросы Матильды. Не рассказала о том, как ненавидят ее Бланш и другие одноклассницы. Тремя месяцами раньше Аиша плакала, выйдя из школы, оттого что ее одноклассница отказалась дать ей руку. Родители тогда сказали, что это не имеет значения, что на это не надо обращать внимания, их равнодушие задело Аишу. Но той ночью она никак не могла уснуть от огорчения и услышала, как ссорятся родители. Амин ругал эту христианскую школу, где его дочь чувствует себя чужой. Матильда, всхлипывая, проклинала их замкнутый образ жизни. С тех пор Аиша решила ничего им не рассказывать. С отцом не говорила об Иисусе. Она хранила в секрете свою любовь к человеку с обнаженными ногами, дававшему ей силу обуздывать свой гнев. Матери не признавалась в том, что целый день ничего не ест, после того как в школьном буфете обнаружила зуб в тарелке рагу из стручковой фасоли с бараниной. Это был не белый остренький молочный зуб, как тот, что у нее выпал минувшим летом, и в обмен на него маленькая мышка принесла ей конфету с пралине. Нет, это был черный зуб с дуплом, зуб старика, сам собой вывалившийся, как будто державшая его десна начала разлагаться. Всякий раз, когда Аиша думала об этом, ее начинало тошнить.
* * *
В сентябре, когда Аиша пошла в школу, Амин решил приобрести зерноуборочный комбайн. Он так потратился на ферму, на детей, на обстановку для дома, что ему едва хватило средств на услуги плутоватого торговца металлоломом, и тот посулил ему потрясающую машину прямиком с американского завода. Амин прервал поток его красноречия, резко отмахнувшись. Он не желал слушать словесные излияния пройдохи, к тому же мог себе позволить только этот и никакой другой агрегат. Целыми днями Амин работал на комбайне, не доверяя его никому. «Они его сломают», – объяснял он Матильде, обеспокоенной тем, что муж до крайности исхудал. Его лицо осунулось от усталости и жары, кожа стала почти черной, как у африканских стрелков. Он работал без продыху, следил за каждым движением работников. До темноты наблюдал за загрузкой мешков, и случалось, засыпал прямо за рулем автомобиля, слишком утомившись, чтобы добраться до дома.
Несколько месяцев Амин не спал в супружеской постели. Ел на кухне стоя и пытался разговаривать с Матильдой, но сыпал словами, которых она не понимала. Вид у него был совершенно безумный, он смотрел на нее выпученными, красными от кровяной сетки глазами. Вероятно, он хотел что-то ей объяснить, но вместо этого только резко взмахивал рукой, словно бросая мяч или замахиваясь на кого-то ножом. Он не решался ни с кем поделиться своими тревогами, и оттого они мучили его еще больше. Если бы он признал свое поражение, это его убило бы. Дело было не в технике, не в климате и даже не в невежестве его работников. Его отец совершил ошибку, и эта мысль терзала Амина. Эта земля ни на что не годилась. Плодородным был только тонюсенький слой почвы, а под ним залегал туф, серая и пустая горная порода, и об этот туф раз за разом разбивались его амбиции.
Иногда он чувствовал себя до такой степени раздавленным усталостью и заботами, что ему хотелось лечь на землю, свернуться калачиком и проспать несколько недель кряду. Он готов был расплакаться, как перевозбужденный, утомленный играми ребенок, ему казалось, что слезы ослабят тиски, сдавившие ему грудь. Солнце и бессонница уже почти свели его с ума. Его душа пребывала во власти мрака, в котором смешались воспоминания о войне и картины надвигающейся нищеты. Амин помнил времена великого голода. Ему было лет десять – двенадцать, когда с юга в их край потянулись целые семьи вместе с домашним скотом, все тощие, истощенные до такой степени, что не могли даже говорить. Головы у этих людей были изъедены паршой, они шли в большие города – может, там услышат их немую мольбу – и хоронили детей на обочинах дорог. Амину казалось, что весь мир страдает, что толпы голодающих до сих пор идут за ним по пятам и сам он скоро к ним присоединится. Этот кошмар постоянно преследовал его.
* * *
Тем не менее Амин не сдавался. Под влиянием одной статьи он решил заняться разведением коров. Однажды, когда Матильда ехала из школы, она заметила Амина на обочине, в двух километрах от фермы. Он шел рядом с тощим мужчиной в грязной джеллабе и грубых сандалиях, в кровь натиравших ноги. Амин улыбался, а мужчина хлопал его по плечу. Со стороны они выглядели как старые знакомые. Матильда остановила машину. Вышла, разгладила ладонями юбку и направилась к ним. Амин, казалось, смутился, но представил их друг другу. Мужчину звали Бушаиб, и Амин только что заключил с ним сделку, которой очень гордился. На те небольшие средства, что у них еще остались, он намеревался приобрести четыре-пять быков, которых Бушаиб отгонит на пастбища в Атласские горы, чтобы хорошенько там откормить. Потом они продадут быков, а выручку поделят.
Матильда пристально разглядывала Бушаиба. Ей не понравился его сдавленный смех, напоминающий приступы кашля, когда у человека першит в горле. Его манера тереть лицо длинными грязными пальцами произвела на нее ужасное впечатление. Ни разу он не посмотрел ей прямо в глаза, но она знала, что дело тут не в том, что она женщина, и не в том, что она иностранка. Матильда не сомневалась, что этот человек собирается их обмануть. В тот же вечер она сказала об этом Амину. Подождала, пока дети уснут и муж откинется на спинку кресла. Она попыталась уговорить его не связываться с этим типом. Ей было немного стыдно за свои шаткие доводы, стыдно говорить об интуиции, дурных предчувствиях, отталкивающем облике крестьянина. Амин вспылил:
– Ты так говоришь, потому что кожа у него темная, потому что он деревенщина, живет в горах и не умеет вести себя, как горожанин! Ты ничего не знаешь об этих людях. Тебе их не понять.
На следующий день Амин и Бушаиб отправились на скотный рынок. Он располагался у одной из дорог, между развалинами стены, когда-то защищавшей город от набегов кочевых племен, и деревьями, под которыми горцы расстелили свои ковры. Стояла убийственная жара, Амина мутило от густого запаха скота, испражнений животных и людского пота. Несколько раз он прикрывал нос рукавом, боясь, что его стошнит или ему станет плохо. Худые покорные создания стояли, склонив головы к земле. Казалось, ослы и козы прекрасно понимают, что никому нет дела до того, что они чувствуют. Они равнодушно жевали редкие стебли одуванчиков, пожелтевшую траву, пучки дикой мальвы. Они спокойно и смиренно ожидали, когда перейдут от одного мучителя к другому. Крестьяне суетились. Они выкликали вес, цену, возраст животных, сообщали, к чему оно пригодно. В этом бесплодном засушливом крае каждый бился за право сеять, собирать урожай, разводить скот. Амин перешагнул через валявшиеся на земле большие мешки с джутом, стараясь не наступить на лепешки навоза, подсыхавшие на солнце, и направился прямиком к западной части рынка, где размещалось стадо быков.
Он поздоровался с хозяином, лысым стариком в белой чалме, и почти сразу – по мнению Бушаиба, слишком нелюбезно – оборвал его витиеватые пожелания удачи и благополучия. Амин по-ученому заговорил о животных. Стал задавать слишком сложные для старика вопросы. Он хотел ясно и определенно дать понять, что они люди не одного круга. Крестьянин обиделся и принялся жевать стебелек желтого колокольчика, так же громко шлепая губами, как быки, которых он продавал. Бушаиб взял дело в свои руки. Он совал пальцы в ноздри животных, обеими руками ощупывал круп. Похлопывая хозяина по плечу, расспрашивал о количестве спермы и навоза, нахваливал ухоженный вид скота. Амин отступил на несколько шагов, ему стоило большого труда скрывать гнев и нетерпение. Торг длился не один час. Бушаиб с крестьянином говорили ни о чем. Назначали сумму, приходили к соглашению, потом передумывали, тогда Бушаиб угрожал уйти, и они надолго замолкали. Амин прекрасно знал, что здесь дела так и делаются, это что-то вроде игры или ритуала, однако он несколько раз едва не закричал, чтобы положить конец этой дурацкой церемонии. День склонялся к закату. Солнце постепенно исчезало за зубцами Атласского хребта, по рынку стал гулять холодный ветер. Они ударили по рукам с хозяином, тот передал им с рук на руки четырех отменно здоровых быков.
Собираясь расстаться со своим партнером и отправиться к себе в горную деревушку, Бушаиб сделался обходительным. Отметил умение Амина достойно держаться и вести переговоры. Произнес длинную речь о честности горных племен, о том, как твердо они держат данное слово. Нелестно отозвался о французах, этих придирах, вечно всех во всем подозревающих. Амин подумал о Матильде и согласно кивнул. За этот долгий день он совершенно вымотался и мечтал только о том, чтобы поскорее вернуться домой и побыть с детьми.
Следующие несколько недель Бушаиб регулярно отправлял на ферму гонца. Юного пастуха с чесоточными пятнами и гноящимися глазами, к которым липли мухи. Подросток, судя по всему, ни разу в жизни не евший досыта, в поэтических выражениях рассказывал о быках Амина. Он говорил, что там, наверху, трава свежа и сочна и что быки жиреют на глазах. По мере того как он это рассказывал, лицо Амина светлело, и мальчик был счастлив, что приносит радость в дом. Он приходил раза два-три и с наслаждением пил чай, куда, по его просьбе, Матильда клала три ложки сахара.
Потом мальчик перестал приходить. Минуло две недели, и Амин забеспокоился. Когда Матильда задала ему вопрос о быках, он вспылил:
– Я тебе уже сказал: не вмешивайся! Здесь обычно все так и делается. Надеюсь, ты не собираешься учить меня, как управлять фермой?
Однако его терзали сомнения. Он перестал спать по ночам. Вконец измучившись, сходя с ума от беспокойства, он послал одного из работников узнать, что происходит, но тот вернулся несолоно хлебавши. Он не нашел Бушаиба: «Горы велики, господин Бельхадж. Никто он нем не слышал».
Однажды вечером Бушаиб пришел сам. Он появился у ворот фермы с перекошенным лицом и воспаленными глазами. Заметив приближающегося Амина, стал колотить себя руками по макушке и расцарапал себе щеки, воя, как загнанный зверь. Крестьянин никак не мог отдышаться, и Амин не понимал, что тот пытается ему сказать. Бушаиб повторял одно слово: «Воры! Воры!» – и в его глазах стоял ужас. Он поведал, что ночью налетела банда вооруженных мужчин. Они связали пастухов, стерегших стадо, избили их и на грузовике увезли весь скот.
– Пастухи ничего не могли сделать. Они люди храбрые, трудолюбивые, но что они могут против парней с оружием и грузовиком? – проговорил Бушаиб и рухнул в кресло. Положил руки на колени и расплакался, как ребенок. Заявил, что теперь всю жизнь будет помнить это унижение, что никогда не оправится от позора. Отхлебнул чаю, в который бросил пять кусков сахара, и добавил: – Какое страшное несчастье для нас обоих!
– Мы пойдем к жандармам! – заявил Амин, стоя напротив Бушаиба.
– К жандармам? – Бушаиб снова зарыдал. Он в отчаянии замотал головой. – Жандармы ничем не помогут. Эти воры, дьяволы, сучьи дети, уже далеко. Разве кто-то сможет отыскать их следы?
Он долго жаловался на тяжелую судьбу горцев, чья жизнь проходит вдали от всего мира и отдана на милость своенравной природы и жестоких разбойников. Он оплакивал свою судьбу, горько сетуя на засуху, болезни, женщин, которые умирают в родах, продажных чиновников. Он еще всхлипывал, когда Амин дернул его за руку и произнес:
– Мы едем в жандармерию!
Амин, конечно, был ниже ростом, чем Бушаиб, но от этого не менее убедителен. От работы в поле руки этого молодого и волевого мужчины налились силой. Бушаиб знал, что тот побывал на войне, дослужился до офицера у французов и имеет награды за героизм. Амин ухватил Бушаиба за рукав джеллабы, крепко зажав ткань в кулаке, и крестьянин не посмел сопротивляться. Они сели в машину, и их сразу поглотила непроглядная тьма. Воцарилось молчание. Несмотря на ночной холод, Бушаиб обливался потом. Амин украдкой поглядывал на него. Он следил за руками крестьянина, едва освещенными светом фар. Амин опасался, что Бушаиб в приступе безумия или отчаяния может броситься на него, попытаться убить, а потом сбежать.
Вдали показалась казарма жандармерии. Бушаиб сменил жалобный тон на насмешливый.
– Ты что, правда считаешь, что эти остолопы станут нам помогать? – несколько раз повторил он и пожал плечами, как будто наивность Амина – самое забавное, что он видел в жизни.
Они остановились у ворот, но Бушаиб не двинулся с места. Амин обошел машину, открыл пассажирскую дверцу и произнес:
– Ты идешь со мной.
Амин вернулся домой, когда уже рассвело. Матильда сидела за кухонным столом. Она пыталась заплести волосы Аиши в косички, а та кусала губы, чтобы не плакать. Амин посмотрел на них. Молча им улыбнулся и прошел в свою комнату. Он не рассказал Матильде, что жандармы встретили Бушаиба как старого знакомого. Весело смеясь, выслушали его рассказ о горных разбойниках. Изображая удивление, переспрашивали: «А грузовик? Скажи, какой был грузовик? А бедняги пастухи – их сильно покалечили? Они смогут приехать и дать свидетельские показания? Расскажи-ка еще разок, как появились эти воры. Ты эту историю не забудь, уж больно она забавная!» У Амина создалось впечатление, что смеялись они прежде всего над ним. Над ним, строившим из себя крупного землевладельца с манерами французского поселенца, и позволившим первому встречному болтуну обвести себя вокруг пальца. Бушаиба на несколько месяцев отправили в тюрьму. Но для Амина это не стало утешением: это не поможет ему погасить долги. Крестьянин на самом деле оказался прав. Зачем ему понадобилось ехать к жандармам? Лишние мучения, и больше ничего. Нет, Амин должен был вмазать хорошенько этому проходимцу, этому куску дерьма. Бить его, пока тот не подохнет. Кто бы о нем пожалел? Была ли где-нибудь женщина, или ребенок, или друг, которые стали бы волноваться, куда подевалось это ничтожество? Все те, кто встречался с Бушаибом, скорее всего, вздохнули бы с облегчением, узнав о его смерти. Амин оставил бы его труп на растерзание шакалам и стервятникам, по крайней мере, так он почувствовал бы себя отомщенным. А полиция? Какая глупость!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?