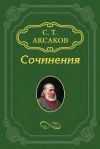Текст книги "Русский романс. Неизвестное об известном"

Автор книги: Любовь Казарновская
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Дело в том, что тогдашний камертон не заставлял певцов напрягать голоса, более того – способствовал тому, что они звучали очень естественно – и Варламов, разрабатывая свою школу пения и сочиняя свои романсы, понимал важность этого.
Варламову принадлежит фраза: «Если ты умеешь петь и ты умеешь распределить свои силы, ты будешь петь очень долго». Он говорил, работая с корифеями императорских театров, с тем же Мочаловым, с Щепкиным, с замечательным русским тенором Бантышевым, тоже учеником Бортнянского и первым исполнителем роли Финна в «Руслане и Людмиле»: «Музыке нужна душа. Я в полной мере требую от вас выражения вашей души в музыке. Вы не можете спеть ни одной ноты впустую, вы должны интонировать свою душу».
Я помню, как мы с Надеждой Матвеевной разбирали «На заре ты ее не буди…» и она мне говорила: «не бойся, Любанчик, этих подчеркнутых драматических интонаций».
И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.
Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит…
Ей снится ее любимый, и именно поэтому ее подушка так горяча. Она, как Татьяна, берет её – кто ты, мой ангел и хранитель?
Надо убирать оттуда слезливость и так называемую «музыкальность». Надежда Матвеевна не любила, когда говорили: она поёт музыкально. Да не бывает музыкально! Бывает правдиво с музыкальной драматической интонацией. И слезливо, ни о чём! Музыкальные слюни, как она говорила.
И то же самое:
Не шей ты мне, матушка,
Красный сарафан,
Не входи, родимая,
Попусту в изъян.
Рано мою косыньку…
Это не я ли в поле не травушка была? А что вы меня так рано замуж отдали? Зачем вы меня сломали? Зачем? Да с не милым, седым повенчали. Вот что она говорила. Вчитывайся в текст. Думай. Слушай интонацию, потому что часто в старинном романсе, особенно у Рахманинова, Чайковского, у Римского, музыкальный ряд идет сам по себе, а слово само по себе. Надо выразить это через слово, прорастить чувство, прорастить вокально-драматическую интонацию, которая подчас в музыке скрыта, прикрыта куплетностью, и в в каждом куплете находи свой смысл, свой ключ.
Вот это и есть тот русский романс, который мы обожаем. Помню, когда мы с Надеждой Матвеевной перед концертами в Гоголевской библиотеке, в Ленинке, в Иностранке объявляли программы старинного романса, над нами посмеивались, говорили: да пусть лучше Люба споёт Римского-Корсакова, Кюи какого-нибудь. Ну, может быть, Чайковского или Рахманинова. Что вам этот старинный романс?
Надежда Матвеевна неизменно отвечала: ну вот когда споёт, тогда и поговорим, обсудим. Говорила, что наша задача – возвысить в сознании людей этот наш старинный романс, возвысить до уровня Чайковского, Рахманинова. Потому что их просто не было без Булахова, Гурилёва и Варламова, и т. д.
Аполлон Григорьев
А. Е. Варламову (При посылке стихотворений)
Да будут вам посвящены
Из сердца вырванные звуки:
Быть может, оба мы равны
Безумной верой в счастье муки.
Быть может, оба мы страдать
И не просить успокоенья
Равно привыкли– и забвенье,
А не блаженство понимать.
Да, это так: я слышал в них,
В твоих напевах безотрадных,
Тоску надежд безумно жадных
И память радостей былых.
«В минуту жизни трудную…»
Александр Гурилёв
На юге Московской области, на реке Лопасне, между Симферопольским и Каширским шоссе, есть старинное село Семёновское. От десятков и сотен сёл с таким же названием оно отличается своим вторым именем, которое дали ему его владельцы, графы Орловы – Сёмёновское-Отрада.
Орловы жили на широкую ногу, и Семёновское-Отрада было одним из самых роскошных дворянских гнёзд Подмосковья – с роскошным пейзажным парком, в котором жили олени и косули, с фонтанами, скульптурами и павильонами, с мавзолеем-усыпальницей владельцев, наконец, с роскошным дворцом. Его проект принадлежал то ли Карлу Ивановичу Бланку, то ли Василию Ивановичу Баженову – первое вероятнее.

«Забвенью брошенный дворец…» Усадьба Семёновское-Отрада, где прошли молодые годы А. Л. Гурилёвам
Через полтора десятка лет после печально памятного октября 1917 года обширное поместье перешло к другим хозяевам жизни – НКВД и его преемникам (в частности, на территории орловского имения находилась Дальняя дача Сталина). В их собственности Семёновское-Отрада находится до сих пор.
Но однажды всемогущей «конторе» попросту надоело поддерживать в порядке изрядно обветшавший старинный дворец – для ведомственного санатория в конце прошлого века построили безликое новое здание.
Дворец же и усадебные строения уже много лет пребывают в разрухе и запустении. Впрочем, будем объективны: если бы усадьба, подобно многим в России, осталась бы без хозяина, даже того, что сохранилось сейчас, мы бы не увидели – растащили бы всё до кирпичика. Сейчас же – пусть со стороны – ансамбль орловской усадьбы, вернее, то, что от него осталось, вполне можно увидеть.
К чему я это рассказала? А к тому, что современное печальное состояние Семёновского-Отрады поневоле заставляет вспомнить судьбу одного из самых известных её уроженцев. Звали его Александром Львовичем Гурилёвым. Кто он был? В первую голову – композитор, а кроме того – пианист. Скрипач. Актёр. Словом – Артист, именно в таком написании. Но в первую голову – Музыкант.
Родился Гурилёв, как считает большинство историков, в Семёновском-Отраде в 1803 году, за год до Михаила Ивановича Глинки. Родился в семье музыканта, точнее, хорового дирижёра, крепостного в поместье младшего из обласканных предыдущим веком братьев Орловых – Владимира Григорьевича.
Сколько раз в биографиях великих композиторов, певцов, инструменталистов мы встречаем их непреклонных отцов – даже относящихся к тому же «цеху»! – которые решительно и категорически возражают против того, чтобы любимое дитятко шло по его стопам. Мол, нормальную профессию получать надо, а не на скрипочке пиликать!

Александр Львович Гурилёв
Совсем не то было с Сашей Гурилёвым. Музыка, надо полагать, в его доме – как и в доме Булаховых, Алябьевых, Верстовских – звучала круглые сутки. И отец, приметив, как мальчик слушает её, всячески поощрял его увлечение. Известно, что будущий автор «Сердца-игрушки» с семи лет играл на скрипке и альте в крепостном оркестре, и не только играл – что-то пытался сочинять и сам.
Конечно, это было чисто детское баловство (хотя оркестр отца некоторые его пьесы исполнял), но и к нему старший Гурилёв относился серьёзно, отсылая их прославленному Джону Филду. Отлично понимая при этом, что настоящее, полноценное музыкальное образование крепостному мальчишке получить было невозможно.
Филд, ирландец по рождению, был одарённейшим композитором – создателем жанра ноктюрна в его современном понимании, пианистом-виртуозом и, как выяснилось впоследствии, в России, где Филд поселился с 1804 года, педагогом от Бога. У него учились Глинка, Верстовский, Дюбюк, Девитте и другие прославившиеся у нас в стране и в Европе музыканты.
Филд признал несомненный талант юного Гурилёва и счёл возможным развивать его как пианистические, так и композиторские способности – последние всё более склонялись к вокальным сочинениям.
Жизнь крепостному, что бы там ни толковали современные апологеты «необходимости самовластья и прелестей кнута», совсем не казалась мёдом. Но барин, каким бы злыднем он не был, в любом случае обязан был предоставлять своим холопам крышу над головой и кормить их. Граф же Орлов в 1831 году, без малого девяноста лет от роду, умер, и Гурилёвы получили, вписавшись в мещанское сословие, вольную, которая вместе с личной свободой – момент, вне всякого сомнения, положительный! – принесла и суровую необходимость всякий день радеть в самом буквальном смысле о хлебе насущном. А музыка, увы, не тот товар, который нужен сегодня и ежедневно каждому.
Конечно, очень хорошо, что Гурилёв был по достоинству оценён талантливым музыкантом и преуспевающим издателем музыкальных сочинений Матвеем Бернардом (да и другими издателями!), который охотно стал издавать его первые вокальные сочинения. Считается, что Гурилёв написал около двухсот романсов, из них при его жизни было опубликовано всего 90.
Гурилёву повезло, что ещё в молодые годы он попал в круг, как бы сейчас сказали, прогрессивной московской интеллигенции 1830-х годов, где мог знакомиться с новыми сочинениями Пушкина, Лермонтова, Кольцова и других замечательных поэтов. Вдобавок приютил, точнее, взял в свой квартет, явно знавший и ценивший его по орловским концертам князь Н. Б. Юсупов.
Но на жизнь игрой в этом квартете было не заработать, а потому приходилось не просто много работать, а не брезговать вообще никакой работой. Уроками. Написанием всевозможных транскрипций и вариаций на темы чужих сочинений – «Жизни за Царя» Глинки, «Лукреции Борджа» Доницетти, романса «На заре ты её не буди» Варламова, с которым Гурилёв дружил много лет. Даже корректурой нот – многие композиторы, зная дотошность и бережность отношения Гурилёва к нотным текстам, посылали свои сочинения именно ему.
И неудивительно, что ни одно музицирование ни в одном салоне в 1840-е – 1850-е годы в России не обходилось без тех или иных сочинений Гурилёва. «Однозвучно гремит колокольчик», «Вам не понять моей печали», «На заре туманной юности…», «Матушка-голубушка», «Грусть девушки», «Отвернитесь, не глядите», «Аль опять не видать», «Чёрный ворон», «Сердце-игрушка» – это только те романсы, которые довелось петь мне.
«Молитву» на стихи Лермонтова Гурилёв положил на музыку ещё при жизни поэта! Романс на стихи Николая Щербины «После битвы» – потом из него не без приключений выросла поистине самая народная и самая знаменитая из матросских песен «Раскинулось море широко» – в годы Крымской войны запела буквально вся Россия.
А что толку? Авторского права в его современном значении – а значит, и авторских отчислений за каждое исполнение – в те времена не было… Эмоции же, как сказал бы сугубый практик Михаил Семёнович Собакевич, «в карман не положишь».
Вокальная лирика Гурилева – а ему наиболее по душе была поэзия Лермонтова и Кольцова – удивительно многогранна, это просто какая-то радуга. При всегда очень чёткой и точной фортепианной разработке – и романтически-сентиментальные настроения, и тончайший лиризм, и очевидная опора на русские песни, народную традицию, соединившаяся со знанием законов бельканто, с удобной для певцов поющейся мелодией, кантиленой, роднящей его с вокальным творчеством его погодка Глинки. И вместе с этим – драматизм, мелодекламация, такие очень разговорно-точные акценты, предвосхищающие шедевры Даргомыжского, Мусоргского и Чайковского. Всё так.
И при этом – настоящая, подлинная трагедия последних лет жизни Гурилёва: с одной стороны, очевидное признание, слава, широкая, как сказали бы ныне, известность в узких кругах. А с другой – полуголодное существование, постоянная необходимость перебиваться с хлеба на квас. Как тут жить человеку с тонкой душевной организацией, эмоциональному, чувствительному, ранимому – именно таким и был, судя по его сочинениям, Гурилёв?

Квартал на углу Неглинной улицы и Трубной площади, где жил А. Л. Гурилёв
Понятно, что семью в таких условиях не создашь, и Гурилёв много лет промыкался в крохотной холостяцкой квартирке близ московской Трубной площади, на Неглинной улице, 18 (подлинный дом был недавно снесён, на его месте выстроен очень приблизительно повторяющий его формы новодел). Понятно, что он то и дело впадал в глубочайшие депрессии, которые однажды привели к параличу и тяжёлой нервной блезни. И погиб он, можно смело сказать, и от этой вечной нищеты, от постоянного внутреннего раздрая, проведя последние десять лет жизни на больничной койке.
Говорят, последние его слова перед смертью были: «Наверное, для меня должен был быть путь Христа каким-то ориентиром… А я не смог в себе преодолеть эту боль, эту обиду на людей, эту обиду на то, что я в жизни не получил того, что заслужил. Но путь Христа для меня, наверное, в другой жизни будет примером…».
Отчего, скажи, мой любимый серп,
Почернел ты весь – что коса моя?
Это не только о героине романса – это и о себе. Всё это Гурилёв выстрадал на своем личном примере, пропустил чуть ли не в прямом смысле слова через собственное сердце – отсюда и такой эмоциональный градус, такая боль, такой невероятный надрыв и невероятно точная балладная нота.
В его городских романсах – я их обожаю! – вся многоликость русской души: неразделённая любовь, томление, одиночество, умение понять чужую боль как свою собственную, женская доля с её эмоциональными вспышками, перепадами, и при этом – какое-то невероятное, чисто христианское смирение и покаяние, тонкость, изысканность, исповедальность, искренность, чистота… Всё это ставит Гурилёва для меня в первый ряд русских композиторов.
Помню, как мы с Надеждой Матвеевной Малышевой-Виноградовой, моим педагогом, разбирали романс «Сердце-игрушка» на стихи Эдуарда Губера (1814–1847) – ещё одной яркой, но очень быстро погасшей звёздочки на русском поэтическом небосклоне.
Это был один из первых романсов, которые мы делали с Надеждой Матвеевной. Она спросила: «Что это для тебя?» «Это история, – говорю, – о том, как разбивается сердце человеческое». «А в каком стиле это написано? – спросила она и сама себе ответила: – Это трагическое болеро».
Поиграли бедной волею
Без любви и жалости…
А пока над ним шутили вы,
Сердце к вам просилося;
Отшутили, отлюбили вы…
И она просила такую огромную паузу. Но:
И слезами над подушкою
Разлилось, распалося.
Вот что с бедною игрушкою
Вот что с сердцем сталося!
Тут изначально не должно быть никаких нюней, никакой сентиментальности, плаксивости или слезливости в голосе – тут в самой музыке такая страшная, трагическая предынфарктная тахикардия, и если этого изначально не понять, то этот романс лучше вообще не петь.
Как и уже упомянутую мною «Грусть девушки». Серп и коса её – тут, конечно, речь идёт об инструменте, в не о девичьей косе! – почернели, потому что который уж покос проходит без её милого. А где он? А поди узнай – то ли сгинул на войне, то ли рекрутчина его сгубила, то ли запил он где-то насмерть, а потому не колосья скашивает героиня серпом своим, а годы своей жизни, и эта страшная «косьба» гениально передана в музыке. Коса и серп – как символы смерти…
А «Домик-крошечка»? Чем не страничка из «Детского альбома» Петра Ильича! Сплошная магия, сплошная загадка? Что за домик? Что за теми тремя окошечками? Какая тайна прячется за этими занавесочками? Чья рука поит «канареечку»? И чей глазок, который каждого спалит, «будь хоть каменный»? Вот и изволь ответить – голосом…
«Однозвучно гремит колокольчик» – это уже даже не столько лирика, сколько чисто русский эпос. Всё тот же звон колокольчика, всё тот же скрип колёс или полозьев, всё те же вёрсты, полосатые, как одежда каторжника, и даже ямщик мой замолк… Не от всё той же беспросветной и безысходной во все времена русской тоски – «живи ещё хоть четверть века, всё будет так, исхода нет». «А дорога Предо мной далека, далека…» Но вот куда ведёт эта дорога?

Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова и Любовь Казарновская
А некоторые гурилёвские вещи и вовсе ушли в народ. Не зря же иногда говорят, что высшая стадия народного признания – это забвение, забвение на уровне «музыка (вариант: слова) народные». Кто не знает народной песни: «Ни с слезой, ни с тоской Молодец не знался, Всё певал да гулял, Вот и догулялся!» А ведь это тоже Гурилёв подарил нам такое чудо…
И, наверное, один из много-много раз исполненых гурилёвских романсов, которые мы пели с Надеждой Матвеевной – «Отвернитесь, не глядите». Барышня поёт:
Отвернитесь, не глядите
Так умильно на меня,
Иль закройтесь, не светите
Искрой розового дня!
Огневые, голубые,
Как лазурь, как бирюза!
Неги полные, живые,
Искрометные глаза!
И, конечно, тоскует по искромётным глазам своего возлюбленного. Но при этом: что же вы в любви никак не признаетесь, я ведь жду? Я отвернусь от вас, и вы отвернулись от меня! Вы меня не любите. Это прелестная игровая сценка, такой маленький театр.
Легко вообразить себе какой-нибудь великосветский салон, где влюблённые друг в друга девушка и юноша не могут в открытую этого показать. Но всё же пытаются – только голубыми, как лазурь, как бирюза, глазами всё время смотрят друг на друга, взмахивают ресницами – и опять отворачиваются! Прелестная маленькая зарисовка, маленькая виньетка в альбом.
Коротко говоря, на примере этого очень тонко выстроенного драматургически романса мы видим, насколько широка и богата палитра Гурилёва как художника, как драматурга – и насколько богатые и поистине благодатные возможности он предоставляет исполнителю, которые хорошо понимают этот жанр. Всё отыщется на этих картинах, все краски и чувства: и страдания, и томление, и скорбь, и радость, и кокетство, и удаль, и смех сквозь слёзы, и детское озорство – ну решительно всё, что хотите!
Совсем неспроста Константин Сергеевич Станиславский считал Гурилёва прирождённым драматургом и обожал давать романсы Гурилева как материал для работы в своей оперной студии. Он, как рассказывала мне Надежда Матвеевна, начинал с этих романсов – «Сердце-игрушка», «Матушка-голубушка», «Однозвучно гремит колокольчик». Это были упражнения на драматургические задачи, на игру с интонированием слова, на напряжение и освобождение мышц – где они включаются, где расслабляются. Это была настоящая этюдная история!
…А Москва, с которой так или иначе связана вся жизнь Гурилёва, слезам, как всем известно, не верит. Поэтому в ней нет ни улицы, ни даже музыкальной школы, названной в его честь. Не говоря уже о памятнике. Место захоронения композитора также неизвестно.
«И это проходит…»?
Выхожу одна я на дорогу…[1]1
Глава написана Г. Осиповым
[Закрыть]
Елизавета Сергеевна Шашина
Несколько лет назад на одном из аукционов «всплыл» исполненный в цветном графитном карандаше небольшой рисунок Карла Брюллова. Он назывался «Портрет Елизаветы Сергеевны Шашиной». Голубоглазое и темноволосое четырнадцатилетнее существо смотрит не по-детски серьёзно и задумчиво, словно вопрошая: каков-то будет мой взрослый век?

Елизавета Сергеевна Шашина
Слово «век» тут употреблено вовсе не случайно. Ибо почти сто лет, больше, чем у кого-либо из героев этой книги, вместит её земная жизнь, начавшаяся и окончившаяся в скромнейшей усадьбе Глубокое под Вышним Волочком: родилась она в год Аустерлица и, пережив четырёх(!) российских императоров, умерла за несколько недель до начала русско-японской войны. И вошла в историю не благодаря портрету Брюллова (хотя и этого вполне хватило бы!), а благодаря романсу «Выхожу один я на дорогу» на стихи Лермонтова, своего младшего современника.
Сколько композиторов положили его на музыку, точно сказать невозможно. Несколько десятков набирается без труда, и имена авторов точно в истории русской культуры не последние: Пётр Булахов-младший, Константин Вильбоа, Николай Огарёв (да-да, тот самый!), Николай Мясковский, Борис Асафьев, Георгий Свиридов… Но из десятков достойных композиторов-мужчин заветную мелодию «угадала» одна-единственная среди них женщина – Елизавета Шашина.
Почему «угадала»? Потому что всякий Поэт, сочиняя стихотворение, ощущает в себе некую музыку, некую мелодию – пусть зачастую и не слыша её. И композитор старается эту мелодию, перечитывая стихи, услышать, прочувствовать и записать. Порой неудачно. Но бывает и так, что мелодия буквально с первого прослушивания ложится, врезается, впечатывается в душу любого человека – даже такого, которому медведи или даже слоны ухо оттоптали. В таких случаях начинают говорить – «музыка народная».

Усадьба Шашиных Глубокое Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.
Великий историк Василий Ключевский говорил об этом стихотворении Лермонтова: «Пьеса эта своим стихом почти освобождает композитора от труда подбирать мотивы и звуки при её переложении на ноты…». Признаем, что за этим «почти освобождает» нередко стоят незримые для мира поистине танталовы творческие муки и самый немилосердный, почти что сизифов труд.
Владимир Солоухин однажды описал случай, как в американском доме одного очень древнего годами потомка русских эмигранта последний вспомнил, как в детстве певал с матерью некую народную песню, начинавшуюся словами «Выхожу…» И спел, как мог, три ноты. После чего все присутствовавшие русские дружно подтянули «…один я на дорогу!» Но автора музыки, натурально, никто не знал.
И, скорее всего, не узнал бы. Если бы не «первый» юбилей Лермонтова в 1964 году. Кавычки оттого, что ни в 1914-м (столетие рождения), ни в 1941-м (столетие смерти) России по понятным причинам было не до Лермонтова.
И только полвека спустя, углубившиеся по случаю юбилея поэта, в архивы исследователи отыскали в них имя Шашиной. И вот в одном из музыкально-театральных журналов за конец октября 1903 года обнаружился короткий некролог: «Елизавета Сергеевна Шашина умерла на девяносто восьмом году в своей усадьбе Глубокое Тверской губернии. Покойная была прекрасной преподавательницей пения и известна по своим романсам…»
Вернее и точнее было бы вести речь о сёстрах Шашиных, младшую сестру-погодка Елизаветы звали Аделаидой. Сёстры Шашины были дочерьми Сергея Николаевича Шашина и жены его, умершей в 106-летнем возрасте, Дарьи Филипповны, дворовых людей графа Строганова. Откупившись на волю в начале 1800-х, Сергей Шашин сделался декоратором-обойщиком: оформлял интерьеры императорских дворцов и особняков петербургской знати, сделав на этом неплохие деньги.

Георгиевская церковь в усадьбе Глубокое
Настолько неплохие, что смог устроить дочерей в Елизаветинский институт. А когда у обеих сестёр обнаружились отличные вокальные данные (у Елизаветы было контральто) – отправить их на обучение в Италию. И не просто в Италию, в La Scala. И не просто в La Scala, а к самой знаменитой его в те годы примадонне – великой Джудитте Паста! Той самой, для которой Винченцо Беллини написал роль Нормы.
Подробности обучения до нас не дошли, но точно известно, что обе сестры выступали на сцене легендарного театра. Многие герои этой книги обладали отличными певческими голосами, но на сцене La Scala пели только Аделаида и Елизавета Шашины. Некоторое время, после возвращения в Россию, сёстры пели в петербургской Итальянской опере, но вскоре Елизавете – из-за тяжёлой болезни – с мечтами о вокальной карьере пришлось расстаться. Ничего не поделаешь пришлось целиком посвятить себя теории музыки, композиции и совместным выступлениям в качестве концертмейстера с младшей сестрой. Первые романсы Шашиной были изданы в начале 1850-х годов. Вот один из отзывов прессы о ней:
«Любители музыки неоднократно слышали в течение нынешнего сезона русскую певицу Аделаиду Шашину: она пела в Реквиеме Моцарта… Дарование её и высокое музыкальное образование обратили на нее внимание знатоков и вызвали у слушателей громкие рукоплескания».
В юношеские свои годы Аделаидой был увлечён Александр Порфирьевич Бородин – он посвятил ей свой первый романс «Красавица-рыбачка» и вальс, подаренный ей на день рождения.
Помимо театра и концертов, сёстры часто выступали на домашних концертах в светских салонах Петербурга. В частности, в весьма известном в своё время в Петербурге салоне Елены Андреевны Штакеншнейдер, старшей дочери очень известного и модного в те годы архитектора. В салоне этом часто бывали многие музыкальные и литературные корифеи той поры: Глинка, Даргомыжский, Достоевский, Полонский, Майков.

Джудита Паста, первая исполнительница роли Нормы
Вот как вспоминает один из вечеров хозяйка: «И действительно, ровно через час явились обе сестры Шашины, одна певица, другая аккомпанирует ей. Мы их никогда прежде не видели, и они нас – тоже. Они произвели странное впечатление. Высокие, со строгими чертами лица, немолодые, одетые с ног до головы в чёрное, они едва поздоровались и, не проронив ни единого слова, тотчас принялись за дело, попели, напились чаю и также, молча, удалились. Говорят, Шашины были очень богаты когда-то, но разорились, не вышли замуж и стали какие-то странные».
О том, какой именно репертуар исполнялся сёстрами, мемуаристка умалчивает. Но вполне возможно, что звучали и романсы, написанные Елизаветой. В последующие годы неоднократно переиздавался её так называемый лермонтовский цикл: романсы «Мцыри» («Дитя моё, останься здесь»), «Не плачь, не плачь, мое дитя», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «К Л.» («У ног других не забывал»), «Нищий».
В отношении упомянутого в этом перечне романса «Нет, не тебя так пылко я люблю» не совсем понятно, идёт ли речь об оригинальном сочинении, или о романсе, который сегодня, что называется, у всех на слуху и который приписывается Алексею Шишкину – о нём, как и о Шашиной до последнего времени, мало что известно. Вполне возможно, что авторов, благодаря схожести фамилий, просто непреднамеренно перепутали – такое в романсовой литературе бывает, к сожалению, нередко.

Елена Андреевна Штакеншнейдер
О самом знаменитом романсе Шашиной её сестра в своём частично уцелевшем дневнике пишет: «Мы жили с сестрой моей Лизонькой неподалеку от источника Грязнушка (в Железноводске – авт.), где четверть века спустя после гибели любимого Лермонтова она сочинила романс «Выхожу один я на дорогу»…».
Четверть века спустя – это 1866-й год. А как же быть с объявлением в небезызвестной газете «Северная пчела» от 7 апреля 1858 (!) года: «На днях вышли в свет четыре прекрасных русских романса Елизаветы Шашиной: “Первая любовь”, “Глаза”, “Что болит, ретивое моё” и “Выхожу один я на дорогу”. Продаются в магазине Бернарда на Невском проспекте, насупротив Малой морской, в доме Паскаля. Цена первым трём по 40 копеек, четвёртая 50 копеек».

Одно из изданий романса Елизаветы Шашиной «Выхожу один я на дорогу»
Заключительная цена принуждает вспомнить любопытный факт: один из современников вспоминает, как Шашина жаловалась ему на то, что издатель очень наживался на её романсе, переиздавая его несколько (по самым скромным и приблизительным подсчётам – более двадцати! – авт.) раз, а сам заплатил ей за него всего, кажется, пять рублей». Поскольку большинство романсов Шашиной выходило в издательстве уже не раз упоминавшегося здесь Матвея Ивановича Бернарда, приходится признать, что речь идёт, скорее всего, именно о нём. Ничего личного – чистый бизнес!
Но и 1858-й, скорее всего, не точная дата. На одном из сайтов в Интернете есть упоминание о том, что Георгий Васильевич Свиридов говорил весьма известной ныне исполнительнице русских народных песен Татьяне Петровой о том, что есть романс Шашиной «Выхожу один я на дорогу» именно в той музыкальной редакции, в которой его слушал сам Лермонтов и одобрил её… Лермонтов?
Попробуем разобраться. Шашина старше поэта на девять лет, и в Петербург из Италии она с сестрой возвратилась приблизительно в 1840-41 годах. Были ли они знакомы с Лермонтовым – неизвестно. Точное время написание Лермонтовым стихотворения – тоже. Один из вариантов – весна 1841 года, перед последней высылкой на Кавказ.
Конечно, неплохо было бы расспросить поподробнее самого Георгия Васильевича, но поскольку сие, увы, невозможно, признаем: факт знакомства Шашиной и Лермонтова пока ничем не подтверждается. Но и отрицать его полную невозможность, а значит, и то, что известная всякому в России мелодия рождалась в течение почти четверти века – тоже. Вот вам и «почти полное освобождение композитора от труда»…

Могила сестёр Шашиных у Георгиевской церкви в Глубоком – до реставрации
«А напоследок я скажу…» Скажу что совсем недавно – в мае нынешнего года – в вышневолоцкой глубинке сыскались активные, неравнодушные и, главное, состоятельные люди, которые на собственные средства привели в порядок могилу сестёр Шашиных возле полуразрушенной (пока!) Георгиевской церкви в бывшем имении Глубокое…
Честь им и хвала!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?