Текст книги "И посетителя посетила смерть. Книга II. Другая чаша"
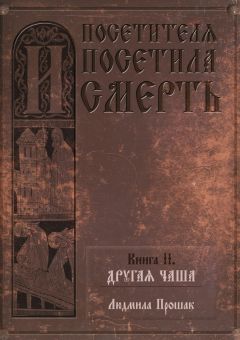
Автор книги: Людмила Прошак
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Да, – кивнул Кирилл и сам удивился тому, как устало это прозвучало. – Из Новгорода, а ещё раньше из Смоленска, из Вильни, из Киева, из Ростова…
– Что ж это тебя по свету носит?
– Послушание у меня такое…
– За что ж это тебя так наказали?
– Нет, я сам его принял.
– Сам? Тогда тебе, сынок, от него не освободиться, пока не исполнишь. Сбросить можно только чужой груз. А своя ноша, сам знаешь, плеч не тянет… потому как к ним приросла, претворившись в плоть и кровь. Я человека, который сам себе избрал путь, ведала…
– И что с ним стало? – Кирилл чувствовал, словно воздух вокруг сгустился, как перед грозой, когда всё стихает, укутываясь в сгущающуюся тьму.
Женщина вопрос Кирилла словно и не слышала. Он уже хотел было тихо встать, как она остановила его:
– Не спеши! Глупо уходить прежде чем поймёшь, зачем приходил.
12
Воспоминания вдовицы Дарьи
с Красной Горы о событиях,
произошедших в Устюге в году 6893
Я не так себе представляла епископа. Точнее, я его вообще никак не представляла. Человек, стоявший в дверях, им был. Я это знала наверняка, но всё равно подумала о том, что даже у наших местных батюшек ризы отливают золотом. А передо мной стоял черноризец, единственным украшением которого было серебро седин. Посох, который он сжимал в руках, делал его похожим на странника. А я почему-то думала, что он за годы добровольного заточения в Перми, стал точь-в-точь как его язычники. Впрочем, ничем особливым они от устюжан не отличались, разве что шубами с шерстью наружу, хотя и у нас их носили многие. Я помню пермских торговцев столько же, сколько себя саму. Они приводили оленей с добытой по дороге северной рыбой, ягодой, мехами. Наиболее удачливые селилась в нашем городе. Такие, как мой отец. Но никому из устюжан не приходило в голову ехать жить в Пермь, даже заядлым звероловам и рыболовам. Никому! Кроме одного… Того самого, что стоял сейчас в дверях избы. Он улыбнулся застенчиво, будто через силу. Я тогда лишь просто отметила это, а по-настоящему поняла значительно позже: человек может измениться до неузнаваемости во всём – в обличье, в походке, в повадках, но если перемены не затронули душу, то улыбка всю жизнь сохраняется такой, какой была в детстве.
Он всегда сторонился наших игр, как бы радостно нам всем не было. «Ты почему так редко улыбаешься?» – «Разве?.» У него была замечательная улыбка. Я была убеждена в этом с того самого утра, когда на первом уроке отец Серафим нас, самых младших, усадил прямо перед собой. Нам было по семь лет. Все остальные ученики были старше нас на три, а то и четыре года. Девять мальчишек и одна девчонка. Белобородый наставник взял вощаную дощечку и вывел на ней дрожащей рукой: АБВ.
«Ну, дети, кто мне скажет, что это за буквы?» – батюшка смотрел поверх наших голов на старших. Но ответ позвучал из нашего младшего ряда. «Аз – буки – веди!» – выпалил мальчишка, сидевший рядом со мной. Отец Серафим благосклонно кивнул усердному ученику, а тот повторил: «Аз – буки – веди… Я – буквы – знаю?» Наставник начал терять терпение: «Да, эти три буквы ты уже знаешь, но есть ещё многих других, которые надо вызубрить, а потом склады, которые каждого слова костяк…» Мальчишка его перебил: «Аз – буки – веди! Но буквы сами собой складываются, говорят за любого из нас: „Я буквы знаю“…»
К концу года мы одолели всю азбучную премудрость. «Теперь, когда вам известны все сорок две буквы, – сказал нам отец Серафим, – вырежьте их на обратной стороне дощечки по порядку – от аза до ижицы». Я очень старалась, даже украсила края узорами, и удостоилась за то особой похвалы. Когда отец Серафим взял в руки следующую дощечку, улыбка ещё оставалась на его изрезанном морщинами лице. Первыми построжели глаза, а потом и губы вытянулись в суровую линию: «А это что? Я сказал, буквы расположить по порядку?!» Мой сосед побледнел, но отвечал твердо: «Отче, особняком от остальных только ферт, фита, кси, пси и ижица». – «Но по-о-о-чему?!» – вопрос был громоподобен. Мальчишка застенчиво улыбнулся: «Потому что заимствованы из греческого алфавита. Ты же сам, отче, сказал, что они употребляются только для иноземных слов…»
На будущий год меня уже не посылали учиться. Я подросла для того, чтобы стать помощницей по хозяйству. Тщетны были мои попытки возразить, что я ещё не выучилась читать по складам и не разумею цифр. «Той грамоты, что есть, достаточно, – осадил меня отец, – чтобы быть подспорьем и мужу в делах, и детям в учении. Вон, соседский сынок, как и ты, год отучился, а уже молитвы читает в соборе, где отец служит. Там, глядишь, чин и место его унаследует…»
Зима сменяла зиму, поторапливая года. Детство как сосулька, свисающая с крыши: привстав на цыпочки, ты примериваешься к ней, чтобы отломить и хрустко разгрызть, а луч солнца выскочит из-за снежных туч, и она, истончав, прольётся капелью прямо у тебя на глазах.
Мы играли в снежки возле торжища. Из-за того что снег был ноздреватый и мокрый, они получались похожими на рогульки. Может, поэтому, достигая цели, они лупили так больно. Мне досталось изрядно. Особенно старался один тощий жердяй. Я размахнулась… Снежок, перелетев через голову моего обидчика, ударил в нарты. Запряжённый в них олень, укоризненно покосился на меня влажным коричневым глазом. И точно с таким же выражением посмотрел на меня мой бывший сосед по ученической лавке, крутившихся возле нарт. «А ты чего тут? – спросила я, уставившись на вощаную дощечку в его руке: – Учишься, что ли?» – «Учусь…» – «Торговать?» – «Нет, что ты!» – улыбнулся он своей обычной застенчивой улыбкой. Я заглянула ему через плечо. Процарапанные на воске знаки напоминали птичьи следы на снегу.
«А это еще что такое?» – «Сам не знаю, азбука наверно…» – «Чья?» – «Пермян, нарты ведь их…»
Даже будучи ребенком, я никогда не чувствовала сил посмеяться над ним. В нём было что-то такое, чего он и сам, наверное, толком в себе не понимал, иначе бы не улыбался так робко и задумчиво…
Мы повзрослели как-то вдруг. Однажды утром я, перекинув косу на грудь, почувствовала, что она теперь не так лежит, как раньше. И все те мальчишки, с которыми мы ещё зимой играли в снежки, каким-то новым взглядом посмотрели на мою косу. Особенно тот длинный жердяй, который стал ещё длиннее, но уже утратил прежнюю неуклюжесть.
Мой бывший сосед по ученичеству не уступал ему в росте. Прознав, что он любит сиживать на высоком берегу Югры, я однажды его там подкараулила. Села рядом и стала ждать, когда он, наконец, заметит моё присутствие и что-нибудь скажет. Бежала вода, день клонился к вечеру. Он произнес, не спуская глаз с излучины: «Жизнь скоротечна как речная быстрина или травный цвет! Как успеть выучиться всей грамматичной премудрости и книжной силе?» Я вспыхнула и, чтобы не разрыдаться, убежала. Разве таких слов я от него ждала!
Спустя три дня я полоскала в речке белье, когда за мной примчалась младшая сестренка: «Скорее, Дашка, тебя батюшка Серафим дожидается!» Едва не утопив рушник, я всё же выловила его и бросила в корыто поверх остального…
Отец Серафим, как и полагается такому гостю, сидел в красном углу под образами. Завидев меня, все домашние засуетились и едва не опрометью повыскакивали друг за дружкой из избы. Я стояла перед батюшкой, пряча мокрые руки под фартук. Отец Серафим прокашлялся: «Сядь, дитятко, и выслушай меня внимательно». Я опустилась на краешек лавки. «Для моего самого лучшего ученика – ты знаешь, о ком я говорю, – подчеркнул он, возвысив голос, – есть два пути: удовольствовавшись приобретённой уже грамотой, жениться, принять сан и служить, скажем, в нашем соборе, или продолжить изучение Писания. «Иже кто оставит отца и мать, жену и дети, братью и сестры, домы и имения имени Моего ради, сторицею примет и жизнь вечную наследит..» Отец Серафим едва не увлекся, но всё же оборвал себя: «Я что хочу сказать, Дарья? Он пойдёт по второму пути, ему никогда не утолить книжного голода, который будет снедать его до самой смерти. Не пытайся это понять, просто поверь мне!.» Я закрыла ладонью рот, чтобы не закричать. Батюшка кроил по-живому. «К тебе, Дарьюшка, сватов засылает Путята (тот самый длинный жердяй). Твои отец с матерью уже согласие дали. Ты не противься этому и приучи свое сердце слушаться разума. Вы будете хорошей парой, я сам вас повенчаю…»
Отец Серафим как в воду глядел: мы прожили душа в душу двадцать лет, вырастили пятерых детей и уже собирались нянчить внуков… Путята к тому времени стал у воеводы правой рукой. Но за каждый щедрый урожай приходится рано или поздно платить бескормицей. И чем дольше длятся хлебные лета, тем страшнее и внезапнее голод…
Однажды Путята вернулся домой раньше обычного. Я ещё и на стол не успела накрыть, стояла у печи. «Знаешь, кого я сегодня видел? – он юркнул босыми ногами в копытца и, поудобнее устроившись на лавке, произнес с расстановкой: – Того самого парня, который батюшку Серафима из себя выводил, ты его помнишь?» Вместо меня ответил выпавший из ухвата горшок. Он раскололся на черепки, во все стороны брызнуло варево. «Обожглась?» – участливо спросил Путята. «Нет!» – ответила я и, уткнувшись в фартук, расплакалась.
На рассвете устюжская дружина скрытно уходила в поход. Против кого? Ради чего? Никто ничего не сказал. Головной отряд вёл мой Путята. Мы простились скомкано и поспешно. Он наклонился меня поцеловать, я увернулась: «Да что ты, на людях!.»
Минуло три дождливых дня. Едва распогодилось, как я отправилась полоть. Солнце стояло в зените, когда по огороду промчалась орава мальчишек, что-то крича. Я им вслед: «Что случилось?» Самый маленький на бегу повернулся: «Тетя Даша, победа!.» Я не успела обрадоваться. У нашего двора остановилась телега. Скорбно сгорбившийся возница был красноречивее любых слов… Что было дальше, я не помню. Знаю только, что продолжала рвать сорняки. Сначала руками, потом зубами. Очнулась в конце межи. Весь мой путь по огороду был выстлан вырванной с корнем ботвой. Поднялась и почувствовала, что не могу пошевелить языком: рот забит землёй. Потом мне сказали, что наша дружина в устье Чёрной речки из засады напала на новгородских ушкуйников, преградив им дорогу в ПермьCXXI. «Они угрожали напасть на Устюг?» – «Нет, но об этом одолжении попросил епископ Пермский…»
Как только установился санный путь, новгородцы прислали нашему князю откуп, признав силу нашей рати и её право дозволить или воспретить набег на Пермь. Серебро, наполнившее казну, сделало уступчивее даже наших житопродавцев. Снаряжая хлебные обозы, стало уже добрым обычаем снижать цену: «Для Пермского епископа?» – «Тогда дешевле на треть! Он же наш, устюжский!» Я не хотел о нём слышать. Он был виноват в гибели моего Путяты и каждого из пяти дружинников. Я даже корову начала выгонять на пастбище позже, лишь бы не встречаться с матерью Стефана. Дома-то ведь бок о бок стоят. И вот в один такой день я вдруг увидела: соседская корова жалобно мычит и трется о изгородь. Что же, её с вечера в хлев не поставили? Ответом было разбухшее вымя. «Тетя Мария!» – позвала я и раз, и другой. Не дождавшись ответа, сбегала к себе во двор за ведром и, встав на него, заглянула во двор: ни души. Пошарив рукой, нащупала щеколду на калитке и вошла. Она лежала у самого порога, неловко подвернув под себя левую руку. Сначала я подумала, что Господь уже прибрал её к себе, но она вдруг судорожно вздохнула как всхлипнула..
Пришли соседи, мы положили ее на лавку под образами, не зная, как быть дальше с ней – ни живой, ни мертвой. «Удар у неё, – определила всеведающая бабка Зинаида, – больше десяти ден не проживет. Соборовать бы..» – «Надо бы с оказией известить Стефана, – предположил призванный по такому случаю отец Василий, заступивший на место почившего батюшки Серафима. – А елеосвящение совершать не могу, потому как в беспамятстве она». Все с готовность согласились и, тихо переговариваясь, поспешили восвояси: человек привычен ко всему, тем более к чужому горю. Когда дверь за последним сочувствующим закрылась, я поняла, что осталась с больной одна. Мне ничего больше не оставалось, как метаться между своими детьми и лежавшей в беспамятстве тетей Марией… Как долго это тянулось? Не знаю, я потеряла счёт сменявшим друг друга дням и ночам, все они слились в одну длинную седмицу. Я поняла это лишь тогда, когда увидела на пороге Стефана. Мы не виделись с той самой поры, когда он отправился в Ростов. Двадцать лет! Нахлынули ли на меня воспоминания? Нет, всё умерло во мне. Я не забыла лишь об одном: он виноват в гибели моего Путяты. «Зачем пришёл? Из-за тебя и твоих язычников я осталась без мужа, а дети без отца! И еще четыре семьи сиротство мыкают..»
Он печально кивнул и, отстранив меня, склонился над матерью. Ужаснувшись себе, я зажала рот рукой. Боже мой, как же я могла забыть! Прижавшись к стене, я стояла, не зная уйти мне или остаться. Стефан между тем огляделся в доме, будто гость: «Скатёрку бы да блюдо с пшеницей на стол. Поможешь сыскать?» Я метнулась к себе. Когда вернулась с чистым столешником и утицей, в доме пахло ладаном, кадило ещё слабо дымилось, окутывая дом спокойной, тихой грустью. Стефан стоял на коленях перед матерью и держал её руки в своих. «Пшеницы нет, только рожь. До нового урожая не дожили, а старый по сусекам скребём. Думаю, у тети Марии тоже закрома не ломятся. Тосковала она без тебя..» – «Она тебе об этом говорила?» – «Разве нужны слова, чтобы одна мать поняла другую?» Не ответив, Стефан положил на стол крест, достал сосуды с красным вином и прозрачным елеем, отлил из них в плошку, смешал и поставил на зерно посреди утицы, окружив её семью стручцамиCXXII и семью свечами. «Воды согрей..» Я поставила котелок, подкинула дровишек в печь. Стефан, затеплив тем временем ещё две свечи, одну протянул мне, а вторую вложил в руки матери. Я придвинулась («Не ровён час, выронит!»). Но нет, свеча горела ровным пламенем, бросая солнечно-жёлтый отблеск на её безжизненные руки.
«Ты её соборовать будешь? Но ведь она в беспамятстве.. Отец Василий сказывал – грех..» – «Она с нами, всё понимает, всё чувствует, даже на рукопожатие мне ответила, просто у неё нет сил веки поднять». Он закрыл глаза и погрузился в моление о болящей. Свечи тихо плавились.. Он взял стручец и крестообразно помазал елеем широкий лоб, крылья заострившегося носа, округлые щёки, пересохшие губы, еле заметно вздымавшуюся грудь и державшие свечу руки. «Отче святый, Врачу душ и телес..» Загасил первую из семи свеч и продолжил молитву. Потом настал черед второй свечи, третьей.. Сумерки, наполнившие избу, обострили звуки: вот зашипел свечной фитилек, вот забурлила вскипевшая вода, вот затрещало смоляное полено в печи, вот в дрёме замурлыкала кошка. Боль ведёт себя так же: то запустит в тебя все когти, а то свернётся калачиком. Стефан, смешав воду с вином, поил с ложки мать. Она прильнула головой к его плечу, словно дитя. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь..» – тихо приговаривал Стефан. Мать, не открывая глаз, мелко и часто глотала. Красная струйка текла по её подбородку, растворяясь в складках чёрной рясы сына.
Я проведывала их поутру, выгнав на пастбище обеих коров, и вечером, когда, подоив, возвращала бурёнку в хлев. Приносила кувшин с молоком, краюху хлеба, забирая принесённое ранее почти нетронутым. Мать спала, а Стефан сидел перед нею и читал Евангелие. Со стороны это выглядело так, будто отец рассказывает дитяти на ночь сказку.
Минуло два дня. На третье утро я замерла на пороге: Стефан спал, уронив голову на книгу, а тетя Мария творила у печи блины. Если бы не бледность её лица, то и не было ничего особливого в том, что мать хлопочет, чтобы накормить навестившего её сына. Придя в себя, я кинулась на подмогу. «Не надо, Дашутка, я сама, – остановила она меня, слабой, почти прозрачной рукой. – Вдруг я его в последний раз потчую.. А ты лучше сядь, отдохни. Тебе есть от чего устать». Удерживая черпак обеими руками, она окунула его в миску и осторожно вылила молочно-белое тесто на раскалённый лист. Блин, пузырясь, зарумянился по краям золотисто-коричневыми кружевами. «Лучше ты его, дитятко, сними, а то жалко будет, если порву..» Горка блинов росла по мере того, как таяла шкварка сала, которой я только успевала смазывать лист, попутно счищая пригарок. Я отвернулась от жара, чтобы поправить платок, – Стефан, заложив руки за голову, сидел на лавке, где ещё совсем недавно лежала его мать, и с бережным вниманием следил за каждым её движением.
«Проснулся? – улыбнулась она седому сыну. – Умывайся – и к столу, а то всё простынет. Ты блины-то ешь? Я и не спросила, вдруг скоромное не станешь». – «Буду, мама, буду». Он ел, а она, прилежно сложив руки на коленях, смотрела на него, не мигая, как ребенок смотрит на огонь. «Трудно тебе, сынок? Седой, будто старец..» – «Трудно, мама». – «Всё из-за язычников, сынок?» – «Да нет, с ними проще всего. Знаешь, чего ждать. Беда лишь в том, что и они знают, чего от меня ждать должно. Я для них человек из Москвы». – «А ты им скажи, что у нас в Устюге почитай каждый второй корнями из Перми».
Я не утерпела: «И ты, тётя Мария?» – «А хоть бы и я. Моего отца купец привёз. Откуда? Он не помнил, мал был. На меня глянь – ответ на моём лице. Хотя болезнь уж всё с него стерла…» – «Ты красивая, мама…» – «Так ведь ты приехал, сынок. Скажи мне, если не язычники, то кто же так сильно огорчает тебя? Не всё же тебе исповеди слушать! Уедешь, а я разговоры наши буду перебирать, твоими заботами жить». – «Заботы мои, мама, нескончаемы. Пермь – край скудный людьми, но обильный сокровищами природы, в коих и у Москвы, и у Новгорода, и у Литвы, и у Орды нужда великая. Да мало ли ещё у кого…» – «Ну и отдай! Все люди данники, так заведено». – «Но источники иссякнут, если дани не ослабить…» – «Ты не делишься, а они думают, что себе всё оставить хочешь…» – «Книги – мои дети, мои наследники. Будет на то воля Божия, я в епархии монастыри размножу, ибо с ними разрастается собирание книжных сокровищ. Оно сбережёт умы и души от запустения…»
Мать покачала головой: «Подумать только! Ты – епископ! Я один раз архипастыря на празднике издали видела. Важный такой, весь в золоте.. Это, наверно, очень трудно – владычествовать над людьми?» – «Не владыка я им, а заступник. А это труднее. Знаешь, мама, когда я, маленький, канонаршил в нашем соборе, то поглядывал, где там отец, и знал, если что не так, он поправит. А теперь все смотрят на меня. И неверные тоже. От них вся державная смута. Запустение в храмы приходит не из Орды, а из неверных душ. Им самостоятельность государства нашего и мир церкви православной как кость в горле. Потому и митрополитов на Руси не счесть, и тайных переговоров за спиной у великого князя тьма тьмущая. Все об единстве на словах пекутся, а на самом деле власти алчут». – «Сынок, что тебе до них? Каждый в этой жизни как утлая лодья. Один налегке под парусом пройдёт, другой впихнёт в неё всё, что глаз видит. Миг – а на волнах лишь щепки..»
Мы виделись с ним ещё однажды. Уже после того, как я закрыла тёте Марии глаза. «Она тихо, по-христиански умерла», – сказала я в утешение. Он пожал плечами: «Что у Бога является причастием? Может быть, мученичество?»
Рядом с этим человеком я провела детство и встретила юность. Но понадобилось двадцать лет разлуки, чтобы понять, что не так в его улыбке: когда он улыбается, его глаза остаются занятыми созерцанием каких-то вещей, которые он видит своим внутренним зрением. Он и тогда с той же застенчивой улыбкой смотрел на меня, а видел нечто, о чем – я уверена – обычному человеку и предполагать не следует. Чувствовала ли я при этом благоговение, трепет? Не знаю.. Он ждал, что я скажу ещё. Но я молчала. Тогда заговорил снова: «Знаешь, у меня уже никого не осталось, родительский дом без присмотра. Там, правда, две старицы обретаются, их ещё мама приютила. Ты их не гони, пусть свой век доживут, ладно? А во всём остальном дом твой». – «А на семьи остальных ратников у тебя домов хватит?» – не знаю, почему я так зло сказала: то ли от растерянности, то ли от боли… Он прошёл в красный угол, положил за икону грамоту: «Это тебе и твоим детям дарственная», – и тихо затворил за собой дверь.
13
Московское великое княжество,
Устюг, Красная Гора,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
девятый час
Домовитая судьба. Ушёл, чтобы вернуться
Кирилл сидел, боясь нарушить тишину. У него и вправду было такое чувство, будто только что закрылась дверь.
– Вот он, этот дом, – Дарья, все еще перебиравшая чётки воспоминаний, словно очнулась, – мы его на половинки разделили. В одной – приют для убогих, в другой – я с младшими детьми. Старшим нашу с Путятой избу оставила. Ничего, справно живут. Я как сюда переселилась, стала захаживать в Успенский собор. Свечку на помин души его родителей Симеона и Марии поставлю и потом всю седмицу с легким сердцем хожу. А когда его самого не стало, то и собор погиб с ним в одночасье.. Как восстановили, снова туда хожу. Посеревшая от прошумевших над ней лет и зим изба зримо присутствовала в этом возникшем из ничего разговоре.
– Может, заночуешь? У нас места хватит, одно слово – приют.
– Да нет, пойду я, пока не стемнело, идти пора.
– Не стемнело? – неожиданно звонко рассмеялась Дарья: – Так у нас сумерки сгустятся в осень, а все лето ночью светло как днём. Уже давно вечер.
– Тогда я побежал?
– Беги, отче. А коль без тебя уплыли, так ты возвращайся!
– Я вернусь…
14
Московское великое княжество,
Устюг, набережная,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
девятый час
Никто за одного. Хуже небесного лоцмана только женщина
Отто не спешил подниматься на ушкуй. К чему лишний раз навлекать на себя гнев капитана, которому во что бы то ни стало хотелось спровадить всех с судна? К тому же, почему бы не понаблюдать издали, кто и с кем будет возвращаться? Устроившись на перевёрнутой килем вверх ладье с кульком ещё тёплых пирожков, которые он купил на торжище, Отто принялся бдеть.
Ушкуйники потянулись с берега: задние окликали идущих впереди; те останавливались, поджидая догонявших. Ватагой, громко переговариваясь и похлопывая друг друга по спинам, прошла команда и со второго ушкуя. И что же?! На нём всем заправляет подельник Власия купец Иван Кочерин!
На такую удачу – zwei Nasen töten – не смел надеяться даже расчетливый Ганс Вреде. Предводитель немецкого торгового двора, когда поручал Отто проследить за ушкуйником, понятия не имел, что тот отправится в Биармию на пару с Кочериным. С тем самым, вместе с которым Власий сорвал последнюю сделку с немецким двором. Такого еще не бывало никогда! Когда герр Вреде перенёс окончательный расчёт на утро, оба купца на следующий день не явились. Хозяин русской Birchalle, которая была через дорогу с торговым домом, за скромное вознаграждение присматривавший за своими посетителями, доложил, что к Власию и Ивану подсел ломбардский купец. Он и скупил у них весь товар, не торгуясь.
Ганс Вреде был вне себя: он требовал отыскать вероломного купца и отправить его noch warm ins Jenseits. Кинулись в погоню, а его ни на одном торговом дворе никто не знает. И все же Отто его настиг, уже на подъезде к Нарове, когда купец уже успел поверить в то, что спасся.. Вытерев о траву клинок, Отто проворно обшарил обмякшее тело, испытав мимолетное недоумение. («Слишком легкая добыча, слишком… И где сам товар?») Впрочем, was dich nicht juckt, das kratze nicht. Отто честно принёс Гансу то, что он просил, – жизнь купца, оставив себе то, о чём Вреде не спрашивал – карту Биармии с нанесёнными на неё какими-то непонятными знаками. И не распознанные они являли собой очень важными сведениями для человека, не понаслышке знающего, что на самые главные вопросы ответы приходят тогда, когда меньше всего ждешь. Но когда он, выполняя поручение герра Вреде, напросился на ушкуй Власия, то невольно подумал, ощупывая под подкладкой карту, что приблизился к разгадке. Кому карта могла принадлежать? Викингам, ходившим в Биармию для добычи? Саамам, промышлявшим в этих краях мехами, серебром и моржовой костью?
Не вызывало сомнений то, что рисунок исполнил умелый картограф, а знаки нанёс некто другой – небрежно и поспешно. Возможно, у того, другого, был повод торопиться и таиться.. Но что могли означать эти знаки? Если это были места, особо богатые добычей, то почему этот некто не обозначил их одинаково? А может быть, он просто делал список с чужой карты, переняв для верности и обозначения?
Отто был уверен: все ответы там, в Биармии. Но до неё еще надо доплыть, не получив удар в спину. И от этого может быть только одно средство – дружба. В одиночку человек уязвимей. Но с кем из ушкуйников получится установить приятельские отношения, если невозможно понять, то ли все между собой дружны, то ли наоборот здесь человек человеку – вынужденный попутчик? Jedermanns Freund ist niemandes Freund. Попробовать сойтись поближе с их капитаном? Но если бы не плотницкие навыки и не высокая плата, которую Отто за себя предложил, вряд ли бы Власий позволил бы ему подняться на ушкуй.
По привычке погладив бритую голову, Отто поморщился: руку колол отросший ёжик волос. Значит, остаются сотник и те двое, в сером. Словно отвечая его мыслям, показался Фрол. Странно, что он не сбежал, как другие, по тропинке. Значит, тоже сидел где-то неподалёку в засаде? А вот и те двое.. Лица по-прежнему укрыты. Интересно, а их почему взял на ушкуй Власий? Возможно, они заплатили за себя не дешевле, чем он. От них, сдаётся, вероятнее всего получить удар сзади. А может быть, самый простой способ не иметь их за спиной – пропустить их впереди себя, оказав такую, с позволения сказать, дружескую услугу?
И в это самое время он увидел монаха. Немец оторопело перевёл взгляд с развевающейся рыжей бороды на ноги, которым черноризец косолапо загребал песок.. Не увидев сапог, Отто подумал, что монах, сверкая чёрными пятками, топает босиком, но потом, приглядевшись, понял, что тот в какой-то детской, даже с виду очень мягкой, обувке.
И всё бы ничего, если бы монах не спешил на ушкуй! Отто едва не застонал. Как бывалый моряк, он был убежден, что небесные лоцманы приносят несчастье. Ещё большей бедой на корабле может стать только присутствие женщин. К счастью, монаха приняли на второй ушкуй. Увидев, как Власий окидывает взглядом команду, Отто поспешил на судно. Но стоило ему ступить на палубу, как он увидел женщину.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































