Текст книги "Люди города и предместья (сборник)"
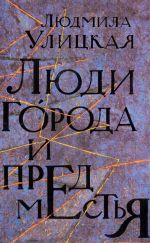
Автор книги: Людмила Улицкая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Ноябрь, 1990 г., Фрайбург.
Из бесед Даниэля Штайна со школьниками
Мы знаем, что многие современные христиане не совершают совместных богослужений, потому что исторически они разделились из-за богословских разногласий. Когда-то единая церковь была разделена на три главные – католическую, православную и протестантскую. Но есть еще множество малых церквей, некоторые насчитывают всего несколько сот членов, но с другими христианами у них нет литургического общения – они не молятся вместе, не совершают совместных богослужений. Такие расколы в среде христиан – схизмы – иногда были очень острыми и даже приводили к религиозным войнам.
У евреев тоже был такой раскол в конце XVIII века. Тогда возникло два течения – хасидов и традиционалистов – митнагдим. Они друг друга не признавали, хотя до войны дело никогда не доходило. Еврейские жители Польши принадлежали главным образом к хасидскому миру, а Вильно (так тогда называли Вильнюс) оставался городом «традиционным». Хасиды были мистиками, впадали в молитвенный экстаз, к тому же придавали большое значение изучению Каббалы и ожидали скорого прихода Мессии. Последнее роднит хасидов с некоторыми христианскими сектами.
Вильно в последние два столетия был столицей евреев традиционного направления. До сегодняшнего дня различия в этих течениях интересуют только религиозных евреев. Но нацистов эти тонкости совершенно не интересовали – они поставили перед собой задачу уничтожить всех евреев – хасидов, митнагдим и вообще неверующих. Это был этнический геноцид.
Когда мы, молодые евреи с польской окраины, в декабре 39-го года попали в город Вильно, он предстал не только большим городом европейского государства, но еще и столицей западного еврейства. Его часто называли в те годы «литовский Иерусалим». Население состояло почти наполовину из евреев.
Когда мы туда попали, Вильно по пакту Риббентропа – Молотова как раз отошло к Литве, и литовцы начали вытеснять поляков. Это был короткий период независимости Литвы, и нам казалось, что наша мечта сбывается: скоро мы попадем в Палестину. Мы не понимали, что попали в ловушку, которая вот-вот захлопнется. В июне 1940 года Литву оккупировала Красная Армия, еще через полтора месяца Литва вошла в состав Советского Союза. В июне 1941 года Вильно было занято войсками вермахта. Но мы не могли предвидеть такого поворота событий.
Вильно нам очень понравился, мы поднялись на гору Гедиминаса, погуляли по еврейским кварталам и прошли по набережным. Город имел особый запах, с оттенком печного дыма. Угля почти не было, город топили дровами. Кстати, благодаря этому мы нашли работу: в первую зиму мы зарабатывали на жизнь тем, что кололи дрова и разносили их по квартирам, на верхние этажи вильнюсских домов.
В городе еще работали разные еврейские организации, в том числе и сионистские, и мы сразу с ними связались. Для выезда в Палестину надо было получить специальный сертификат. Их выписывали бесплатно тем, кто не достиг восемнадцати лет. Шансы моего брата на выезд были неплохи, а мои – очень низки. Ему было шестнадцать лет, а мне уже исполнилось восемнадцать.
Надо было как-то выживать, дожидаясь сертификата. Мы организовали кибуц – общину, в которой все вместе работают и не имеют личного дохода. Как в монастыре. Поселились мы в довольно просторном доме, у каждой группы была своя комната, единственная у нас девушка вела хозяйство, все остальные работали, и работа порой была очень тяжелой. Сначала я вместе со всеми работал дровосеком, а потом мне предложили пойти в ученики к сапожнику. Сапожник был очень бедным, с кучей детей, и я проводил у него почти весь день: после работы оставался с детьми, помогал им готовить уроки. Но сапожному делу я научился и до сегодняшнего дня сам чиню свои сандалии.
Наладилась связь с нашими родителями – через Красный Крест. Мы списались с ними. После расставания они вернулись домой, но их тут же переселили в другую область Польши. Красный Крест пересылал письма. Последний раз родителей видели живыми наши двоюродные братья, некоторое время они жили все вместе в одном местечке. Потом вестей не стало. Мы точно не знаем, в каком из лагерей смерти они погибли.
В последнем письме от матери, которое до нас дошло, она умоляла нас ни в коем случае не расставаться.
Но мы расстались: брат получил сертификат на выезд в Палестину. Он уехал туда по очень опасному маршруту – через Москву и Стамбул. Это произошло в январе 1941 года. Тяжелое расставание – никто не знал, встретимся ли мы когда-нибудь.
С отъезда брата события развивались самым драматическим образом: 22 июня 1941 года началась русско-германская война. Через час после объявления войны началась бомбардировка. Через три дня русские сдали город.
Нас в этот момент в городе уже не было, мы решили уходить, и уже отошли от города километров на шестьдесят, пока не обнаружили, что находимся на территории, занятой немцами.
Вернулись в Вильно. Узнали удручающие вести: в день, когда Красная Армия покинула Вильно, стихийно организовались литовские банды, которые начали убивать евреев еще до взятия города немцами. Впоследствии в состав немецких карательных отрядов вступила большая группа литовцев.
Вступили в действие антиеврейские законы: конфискация собственности, запрещение появляться в людных местах, запрещение ходить по тротуарам. Наконец, потребовали обязательного ношения отличительного знака – звезды Давида. Начались аресты.
Я в то время был так наивен, что не мог поверить, будто у немцев существует продуманная система по уничтожению евреев. Меня воспитали в уважении к немецкой культуре, и я спорил с друзьями, убеждая их, что отдельные факты насилия и издевательства – следствие беспорядка. Я просто не мог в это поверить. Все происходящее казалось нелепостью и ошибкой. Я твердил: «Этого не может быть! Не верьте сплетням! Немцы скоро наведут порядок!»
Действительно, настоящего немецкого порядка мы еще не видели!
Начались облавы на евреев на улицах города, люди исчезали. Поползли слухи о расстрелах. Я полностью отвергал очевидное.
Все сионистские организации, которые еще оставались в городе, были разогнаны. О Палестине можно было забыть. Я решил разыскать родителей через Красный Крест и пробиваться к ним. По дороге в приемную Красного Креста я попал в очередную облаву на евреев, и меня арестовали.
С этого первого задержания 13 июля 1941 года до конца войны я мог быть убит каждый день. Даже можно сказать, что я много раз должен был погибнуть. Каждый раз чудесным образом я бывал спасен. Если человек может привыкнуть к чуду, то за время войны я привык к чуду. Но в те дни чудеса моей жизни только начинались.
Что вообще называют чудесами? То, чего прежде никто не видывал, что никогда не случалось? То, что выходит за пределы нашего опыта? Что противоречит здравому смыслу? Что маловероятно или случается так редко, что такому событию нет свидетелей? Например, в середине июля в городе Вильно вдруг выпал бы снег – это чудо?
Исходя из моего опыта, я могу сказать: чудо узнается по той примете, что его творит Бог. Значит ли это, что чудеса не происходят с неверующими? Не значит. Потому что ум неверующего человека так устроен, что он будет объяснять чудо естественными причинами, теорией вероятности или исключением из правил. Для верующего человека чудо – это вмешательство Бога в естественное течение событий, и ум верующего человека радуется и наполняется благодарностью, когда чудо происходит.
Атеистом я никогда не был. Осознанно молиться начал лет в восемь, и просил я у Бога, чтобы он послал мне учителя, который научил бы меня правде. Я представлял себе учителя красивым, образованным, с длинными усами, похожим на президента Польши тех лет.
Такого усатого учителя я не встретил, но Тот, Кого я встретил и Кого я называю Учителем, долгое время разговаривал со мной именно на языке чудес.
Но прежде чем научиться читать на этом языке, надо было научиться различать его буквы. Задумался я об этом после первой облавы, когда нас с другом схватили на улице.
Из полицейского участка группу задержанных евреев повели на работу – колоть дрова в немецкой пекарне. Впервые на моих глазах два немецких солдата едва не насмерть забили молодого человека, который плохо колол поленья. Мы с приятелем еле дотащили его до двора тюрьмы Лукишки, куда нас загнали после длинного рабочего дня. Двор был забит евреями – одни мужчины. Потом у нас отобрали вещи и документы и велели всем ответить на анкетные вопросы. Когда спросили, кто я по специальности, я колебался, что говорить: дровосек или сапожник. Подумав, я решил, что сапожник я более умелый, чем дровосек. Так и сказал. И тут произошло чудо. Офицер крикнул: «Эй, отдайте Штайну вещи и документы!»
Меня вывели на лестницу. Потом присоединили еще несколько человек. Все они были сапожники. Сапожники, как потом выяснилось, понадобились гестапо по той причине, что у еврейских торговцев конфисковали большой склад кожи, и местное немецкое начальство решило распорядиться с этой кожей по-хозяйски – не отправлять в Германию, а сшить себе обувь. Из тысячи человек, задержанных в той уличной облаве, только двенадцать были сапожниками. Мне позже сказали, что всех остальных расстреляли. Я не поверил.
Кожи было так много, что работа сапожников затягивалась. Первые шесть недель нас не выпускали из тюрьмы, а потом выписали пропуск с печатью гестапо и отпустили по домам. Теперь мы должны были приходить в тюремную обувную мастерскую на работу.
Однажды, когда я возвращался домой, какой-то крестьянин на телеге предложил подвезти. Я не подозревал тогда, что встреча с этим человеком – Болеслав Рокицкий его звали – сама по себе чудо. Мы ведь знаем, как много людей, на чьей совести погубленные жизни. А он был из тех, кто спасал. Но я тогда мало что понимал.
Болеслав жил на хуторе в двух километрах от Понар. Он сказал мне, что в противотанковых рвах, выкопанных красноармейцами перед отступлением, уже похоронили около тридцати тысяч евреев. Расстрелы идут круглосуточно. Я опять не поверил.
Болеслав предложил мне перебраться к нему в усадьбу, где, как он считал, самое безопасное место.
– На еврея ты не похож, говоришь по-польски как поляк. На тебе же не написано, что ты еврей… Объявишься поляком.
Я отказался. У меня была немецкая справка с печатью, что я работаю сапожником в гестапо, и я считал, что она сохранит меня.
Через несколько дней, возвращаясь с работы, я опять попал в облаву. Перекрыли улицу и всех проходящих в толпе евреев загоняли в закрытый внутренний двор, каменный мешок с единственным входом – тяжелыми металлическими воротами. Облаву проводили литовские охранники в нацистской форме. Они отличались особой жестокостью. Вместо оружия у них были деревянные дубинки, и они прекрасно ими орудовали. Я подошел к литовцу-офицеру и протянул свою бумагу. И объяснил, на кого я работаю. Он порвал мой драгоценный пропуск и влепил мне пощечину.
Всех евреев загнали во двор, ворота заперли. Дома, образующие внутренний двор, были пустыми, людей из них уже выселили. Некоторые попытались укрыться в пустых квартирах, кто-то полез в подвал. Я тоже решил спрятаться в подвале. Как и во многих виленских домах, в подвалах были кладовые для хранения овощей, разделенные на отсеки. Я нащупал в темноте какую-то дверку, но она оказалась заперта. Тогда я раздвинул доски и проскользнул внутрь. Овощей никаких там не было, все маленькое помещение было завалено старой мебелью. Я спрятался.
Через несколько часов приехали грузовики, раздались слова немецких команд. Потом появились немцы с фонарями и начали поиски. Это сильно напоминало игру в прятки, только у проигравшего не было шанса отыграться. Через щели между досок на меня брызнул свет.
– Здесь висит замок. Пошли. Больше никого нет, – услышал я, и луч фонарика исчез.
– Смотри-ка, здесь щель между досками, – ответил второй.
Никогда еще я так горячо не молился Богу.
– Ты смеешься? Сюда и ребенок не пролезет…
Ушли. В полной тишине я сидел час, другой. Я понимал, что надо как-то выбираться. Немецкий документ, выданный в гестапо, порвал литовский офицер. Оставалась только ученическая карточка, полученная в 1939 году. Национальности нам не писали, стояло только имя – Дитер Штайн. Обычное немецкое имя. Я сорвал с рукава желтую звезду. Я принял решение: еврей остался в этом подвале. На поверхность выходит немец. Я должен вести себя так, как ведут себя немцы. Нет, поляки. Отец немец, мать полячка – так будет лучше. И родители умерли…
Я выбрался во двор. Уже светало. Как кошка, прижимаясь к стенам дома, я прокрался к воротам. Они были заперты. К тому же навешены они были близко к каменной кладке стены, что протиснуться в щель было невозможно. Камни тесно пригнаны один к другому. Без инструмента не выбить. Но инструмент у меня был с собой – небольшой сапожный молоток с гвоздодером на ручке! При входе во двор всех обыскивали, но молотка не нашли в сапоге. «Чудо, – подумал я. – Еще одно чудо».
Минут за пятнадцать я выбил два небольших камня. Образовавшееся отверстие было маленьким, но для меня достаточным. Я и сейчас, как видите, не очень крупный человек, а в те годы и пятидесяти килограммов не весил. Я проскользнул в щель и оказался на улице.
Было раннее утро. Из-за поворота вышел совершенно пьяный немецкий солдат в сопровождении толпы мальчишек, которые над ним издевались. Я спросил у него по-немецки, куда он направляется. Он протянул листок с адресом гостиницы. Я отогнал мальчишек и поволок пьяного немца по указанному адресу. Немец бормотал что-то невнятное, и из его бессвязного рассказа следовало, что он сегодня ночью участвовал в акции по уничтожению евреев.
Я должен вести себя так, как будто я немец. Нет, поляк… И я молчал.
– Полторы тысячи, ты понимаешь, полторы тысячи… – Он остановился, его начало рвать. – Мне нет до них дела, но почему я должен этим заниматься? Линотипист, понимаешь ли, я линотипист… Какое мне дело до евреев?
Он не был похож на человека, которому понравилось расстреливать.
В конце концов я довел его до гостиницы. Никому и в голову не могло прийти, что пьяного немецкого солдата ведет еврей.
Вечером того же дня я разыскал ферму Болеслава. Он принял меня очень тепло. На ферме укрывались двое русских военнопленных, сбежавших из лагеря, и еврейская женщина с ребенком.
Ночью, лежа в чулане, накормленный, в чистой одежде, а главное, с ощущением безопасности, я был полон благодарности Богу, который потратил столько времени, чтобы вытащить меня из этой мышеловки.
Я быстро заснул, но через несколько часов проснулся от автоматных очередей. Они раздавались со стороны Понар, и теперь я уже не сомневался, что именно там происходит. Очень многое из того, с чем мне предстояло столкнуться, нормальное человеческое сознание не может принять. То, что происходило в нескольких километрах, было еще более немыслимо, чем любое чудо. У меня был личный опыт чуда как сверхъестественного добра. Теперь я переживал мучительное чувство, что нарушаются высшие законы жизни и творящееся зло сверхъестественно и противоречит всему мироустройству.
Несколько месяцев я прожил на ферме у Болеслава, работал в поле вместе с другими наемными рабочими. В середине октября немцы выпустили закон, карающий смертной казнью тех, кто укрывал евреев.
Я не хотел подвергать Болеслава опасности и решил уходить. Вскоре подвернулся случай: местный ветеринар, которого вызвали принимать роды у коровы, предложил мне перебраться в Белоруссию, где его брат жил в такой глуши, что немцы там не появлялись.
Настал день, когда я вышел на шоссе. Было очень страшно. Я шел и думал о том, что если мне не удастся победить страх, я не выживу. Мой страх меня выдаст. Это был еврейский страх – страх быть евреем, выглядеть евреем. Я подумал, что, только перестав быть евреем, я смогу выжить. Я должен стать таким, как поляки и белорусы. Внешность моя была достаточно нейтральной, к тому же изменить ее я все равно не мог. Изменить я мог только свое поведение. Я должен вести себя как все.
Шоссе было заполнено немецкими машинами, время от времени мужчины голосовали, иногда их подсаживали. Женщины шли пешком. Они боялись голосовать. Я поборол страх и проголосовал. Остановился немецкий грузовик.
На третий день я добрался до места. Глухая белорусская деревня.
Но немцами она не была забыта: за неделю до моего приезда здесь были расстреляны все местные евреи. В самом большом строении располагалась школа, которую потеснили – отдали часть полицейскому участку. Там же в одной из комнат был склад, где хранили одежду. Ту, что забрали у еще живых и сняли с уже убитых.
Полицейские были в основном белорусы. Поляков было меньше, потому что в 40-м и в начале 41-го года около полутора миллионов поляков из восточных областей было депортировано в Россию.
В полицейском участке, куда я пришел через день, чтобы получить разрешение на проживание в деревне, меня принял полицейский секретарь, поляк, и моя легенда о родителях не вызвала у него подозрения. Мое ученическое удостоверение, единственный документ, было безупречным, а национальность в нем не указана. Польский язык был действительно для меня родным. В этом участке я получил новые документы, в которых значилось, что мой отец немец, а мать полячка. Я даже имел теперь право стать фольксдойчем, то есть этническим немцем. Но я не воспользовался этой привилегией. Моей привилегией оказалось знание немецкого языка.
Так я легализовался. На первых порах меня кормило сапожное ремесло. Денег не давали, расплачивались продуктами. Через некоторое время мне предложили должность уборщика в школе и комнатку в школьном здании. Соседнюю комнату занимал начальник полиции. В мои обязанности входила уборка, рубка дров и топка печей. Вскоре к моим обязанностям добавилось преподавание немецкого языка школьникам.
Начались морозы. Теплой одежды у меня не было. Однажды полицейский секретарь, в ведении которого был склад, предложил мне приодеться и открыл дверь забитой одеждой комнаты. Я испытал ужасное чувство – это были вещи убитых немцами евреев. Мне страшно было к ним прикоснуться. Что было делать? Я помолился, мысленно поблагодарил моих убитых соплеменников и взял поношенный овчинный тулуп и еще несколько вещей. Я не знал, долго ли мне еще суждено носить эту одежду.
Когда приезжало немецкое начальство, меня вызывали переводить. Я очень беспокоился – понимал, что мне надо как можно дальше держаться от немцев. Однажды в участок приехал начальник окружной полиции Иван Семенович. Это была белорусская организация в подчинении немцев, называлась она «Белорусская вспомогательная полиция германской жандармерии в оккупированных областях», и о ее начальнике шла дурная молва – он славился пьянством и жестокостью. С ним приехал и какой-то немецкий чин, и меня попросили переводить. Вечером Семенович вызвал меня и предложил остаться при нем – личным переводчиком и учителем немецкого языка.
Я не хотел работать на полицию. Для принятия решения у меня была ночь. Страшно подумать – мне, еврею, сотрудничать с полицией. Но уже тогда мне пришло в голову, что, работая с Семеновичем, я, наверное, смог бы спасти кого-то из тех, за кем охотится полиция. Сделать хоть что-то для людей, нуждающихся в помощи. Белорусы были очень бедным и забитым народом, боялись начальства, и даже такая ничтожная должность, как переводчик в белорусской полиции, в их глазах была значительна. Эта должность давала некоторое влияние.
И я принял решение работать на Семеновича и, как ни странно, почувствовал облегчение: даже на этой маленькой должности я мог быть полезен тем, кто нуждался в помощи. Многие просто не понимали, что от них требуют, и из-за этого подвергались наказаниям. Эта возможность возвращала мне достоинство, и только таким образом, делая что-то для других, я мог спасти свою совесть, свою личность. С первой же минуты новой службы я понимал, что малейший промах грозит мне смертью.
Я начал исполнять обязанности переводчика между немецкой жандармерией, белорусской полицией и местным населением. Я снял с себя последнее «еврейское наследство» – одежду расстрелянных евреев с полицейского склада. Теперь я надел черный полицейский мундир с серыми манжетами и воротником, галифе, сапоги и черную фуражку, но без изображения черепа. Мне даже выдали оружие. Черная форма была у частей СС, наша отличалась только серыми манжетами и воротником.
Так фактически я стал немецким полицейским в чине унтер-офицера. Я поступил на военную службу в том чине, в котором закончил ее мой отец. Никто не мог предвидеть такого поворота судьбы. Был декабрь 41-го года. Мне было 19 лет. Я был жив, и это было чудо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































