Текст книги "Покоритель орнамента (сборник)"
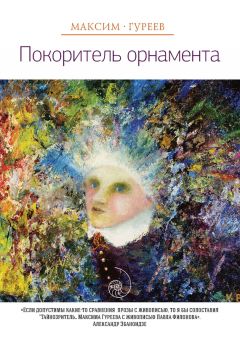
Автор книги: Максим Гуреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
3. Отец
Вот и в наш город потянулись обозы с дровами и углем. Обозы выстраиваются где-то на извозных и дровяных слободах, на грузовых железнодорожных перегонах, разъездах и оттуда устремляются бесконечными грохочущими потоками. Значит – скоро будет тепло! Значит – снова придется ковырять ломом заиндевевшее очко в сортире! Но ничего, это даже и хорошо!
От извозчиков, тех же водителей, в стеганых ватниках, тулупах ли, пахнет табаком. Поднимается пар. Целое парное марево.
Женя с отцом пробираются сквозь эту шумную толпу однообразного цвета и звука: кто-то кашляет, но не закрывает рта руками, кто-то громко смеется, хохочет, тыкает пальцем, чешет ушанку-шапку, съехавшую на затылок, кто-то просто зевает, курит, сморкается в жестяную трубу соответственно трубно. Подвозят уголь в вагонах или тачках, подвозят и дрова на лесовозах.
Поодаль стоит тарантас цыган, и сам цыган, облаченный в валенки и изорванный собаками тулуп, греется, прислонившись к дымящемуся боку мохнатой лошади. В руках держит лопату для угля, чтобы, лязгая, загружать железный сварной короб.
Никто не обращает на Женю и его отца никакого внимания.
Они выбрались в поле и пошли, оставив за спиной церковь, пошли к лесу, где находился погост.
Женя краем глаза наблюдал за отцом, который, не вынимая рук из карманов пальто, торопился, пытался попасть на полосу мокрого, липкого снега, но постоянно ошибался и проваливался в канаву, полную гнилых листьев, ботвы и вонючей воды.
– Как же здесь гроб-то несли? – вопрошал сам у себя.
Наконец вошли в лес. В темноте пропитанных влагой стволов, местами подмерзших и даже обледеневших, начинали свое движение навстречу идущим низкие, гнутые, едва ли доходящие до метра, крашенные в синий цвет ограды из проволоки, ножек кроватей, слежавшихся пружин и ребристых прутов – ограды могил.
Ограды могил.
Дорожки занесло снегом, и потому приходилось придумывать новые пути через кусты, кучи дерна, гравия, спиленные деревья и хрустящий лед осыпавшихся могил.
А ведь снег усилился тогда – он опухшим, отяжелевшим, бесформенным, прокисшей комкастой кашей (Господи, каким же еще?), распаренным после неверного пудового бега, сумасшедшим неистово рвался в глаза, в рот, в уши, за воротник, свисая, и рушился, раскачивая волосы и ветки, искусственные цветы и подставленные руки. Все, абсолютно все приводил в движение.
Женя был здесь как в кладовой, где под потолком по разъезженным рельсам и трубам перемещались отсыревшие куклы с пластмассовыми масками улыбок. Тут же были лацканы, полы, воротники, пазухи и запазухи, разного рода облачения и так далее. Все это несметное, но вполне обозримое по длине ангара-ризницы воинство шевелилось. Женя почти чувствовал объятия их душных рукавов.
Это все рисовалось его воображению…
Отец остановился:
– Кажется, пришли?
– Пришли. – Женя принялся разгребать снег с могилы, затем достал печенье.
Вдруг в тишине однообразного шума падающего снега, в темноте белого, синего и черного отец начал говорить монотонно. (Ты чео-о? Пап? А? Ты чео-о?) Говорить хрипло, даже распевно – может быть, он был голосом прозы, почти беззвучным? Раскачивался почти беззвучным, закрывал глаза почти беззвучным, вторил дрожанием полой трубы шахты лифта почти беззвучным. У него начала расти борода из снега. Борода из волос… тоже начала расти. Женя почувствовал дурноту.
Отец сел на скамью, закурил, стал рассказывать. Вот что Женя услышал тогда:
– В райцентре мотовоз обычно стоял три минуты. Подходил неспешно, газовал, свистел, громыхал тамбурами и агрегатами сцепки, сообщал: «Филиал – Кирпичный завод – Лесопункт Айга – Тихонова пустынь – Калугаодин – Калугадва» – все это, стало быть, пройдено.
На платформу, прибранную плешивыми кустами, еще на ходу выпрыгивали пильщики, водители лесовозов, мотористы, охрана. Выбрасывали деревянные обшитые железом ящики с почтой. А за поручни уже тяжело цеплялись другие, волоча перетянутые ремнями мешки. Тут же нищие просили, скользя по коварному перронову льду (костыли, палки, клюки-крюки), кто быстрей получит воздушный поцелуй или кто верней распорядится собранной мелочью. Некоторые из этих нищих, разумеется, падали, истошно вопили, скорее всего по причине бессильной злобы.
Отец улыбнулся.
– Я успел тогда вскочить на подножку в самую последнюю минуту и закричал: «А ну, мужики, потеснись! Ехать-то всем надо!» В глубине тамбура послышались голоса: «Ну, ехай, ехай, солдатик!» и еще «О, сильные люди лезут!»
Мотовоз загудел утробно гудком, и мы тронулись.
Я оглянулся – Калугадва медленно поплыла назад…
Женя вообразил себе эту мерзкую картину отбытия-исхода: картину опоздавших на поезд, смеющихся, отупело-безразличных, пьяных, неизвестно откуда взявшихся бритых дебилов и нищих.
– Ну, поехали, слава Богу. – Отец встал со скамейки, прошелся вдоль могильной ограды, вернулся. – К Кирпичному заводу стало немного посвободней, и мне удалось пробраться в вагон. Тут было нестерпимо душно, а еще нарядчики с дальних лесоучастков – от станции два часа на вездеходе – столпились у совершенно распаявшейся печки-перекалки и курили. Пахло дымом и табаком. Окна запотели. Я подумал тогда, как все глупо, безнадежно и бессмысленно… Понимаешь меня?
Женя кивнул головой.
– …ведь, понимаешь, я хорошо знал, что никакого болота и даже самой незначительной, мало-мальски ощутимой сыростью топи здесь не было. Просто старые вырубки слишком медленно зарастали редкой голутвой и кустарником. А я все ждал, все надеялся, что наступит тот момент, когда шпалы, а за ними и рельсы, и наш вагон врежутся в мутную, густую киселем водорослей воду… и все, расталкивая друг друга, бросятся к аварийному люку в потолке, будут просить подсадить, больно ударяя по каше лиц каблуками коротеньких резиновых ботиков или кирзовых сапог.
Женя закрыл глаза.
– Тебе плохо? – Отец подошел к нему, наклонился.
– Не-е, нормально, просто тошнит.
– После Мастерских, где когда-то работал мой отец, твой дед, кстати сказать, Дмитрий Павлович, вагон опустел совершенно, и до леспромхоза мотовоз ехал почти пустой…
– У тебя был отец? – Женя открыл глаза.
– А как ты думал, обязательно… Ну вот, тогда я и сел на скамью в вагоне – такую, знаешь, плоскую, обитую дерматином или фанерой, сейчас не помню, дурного, резкого цвета. Сел рядом с Лидой. Рядом с твоей матерью.
– Да, да. – Женя улыбнулся.
– На ней было старообрядское пальто с вытертым мерлушковым воротником.
Лида.
Она напоминала мне мою мать, такую же слабую, раздраженную, вечно уставшую, что надорвалась после войны, когда работала на погрузке леса, ведь тогда мужчин совсем не было и женщинам приходилось ворочать огромные сосновые стволы, подтаскивать к подводам, обвязав мерзлым корабельным канатом-тягой.
Мы молчали, смотрели в окно, за которым двигался назад рваный лес, какие-то заброшенные бараки, вагоны на путях и на земле, в них жили люди, вереницы грузовиков и трелевочных машин на переездах. Потом я спросил у Лиды…
– Что ты спросил, – Женя выдернул свою руку из руки отца и отвернулся, – ну, что ты спросил?
– Я спросил, где она работает, и она, то есть твоя мать, ответила, что работает в конторе леспромхоза, сидит в бытовке, которая не отапливается зимой. Сначала она говорила как-то нехотя или делала вид, смешно путаясь в блеклой косынке, вырезанной из полосатого пледа с кистями и витыми колбасками – вязаными-перевязаными, колючими и безобразными, знаешь такие?
– Знаю, знаю…
– Поправляла волосы, но потом осмелела и даже показала неведомые списки и счета, сокрытые до времени в ее папке. Как ты себя чувствуешь?
– Нормально. – Женя улыбнулся. – Даже хорошо.
Ну, конечно, старообрядское пальто, ну, конечно! И принадлежало оно сначала Фамари Никитичне, его бабке, сухой, мрачной насельнице двухэтажного бревенчатого барака для бывших спецпереселенцев, или их охраны, или черт знает кого еще!
– Вот… а потом она сказала: «Меня Лидой зовут, а вас как зовут?» «А меня зовут…» – и я сказал свое имя. Женя, ты помнишь, как меня зовут, как зовут твоего отца?
– Пойдем домой.
– Конечно, конечно. – Отец засуетился, принялся отряхивать снег с рукавов, шапки. – Уже поздно.
Теперь Женечке даже начинала и нравиться эта игра.
«Как звали моего отца? Владимиром? Александром? Иоанном? Иовом? Сергеем? Максимом? Валерием-Уалерием? Завулоном? Андреем или Иаковом? Нет, нет и нет!» Столь необычно он продолжал описывать происходящее, уподобляясь ветру, дыму, рваному подряснику, свитку.
Закрывал глаза. Подходил к окну с видом во двор. Ласкал сам себя, забравшись в рукав. Столь необычно все это, столь необычно. Придумывал чахлую мерцающую службу, жидкий ладан, слабые, почти немощные голоса, красный дребезжащий огонь свечей. Вспомнил, как поцеловал руку отцу Мелхиседеку.
– Лида тогда впервые привела меня на окраину поселка, в храм, который больше напоминал катакомбы, сырой подвал с бетонным полом, где еще год назад могли бы стоять циркулярные пилы и электрические ступы для мела, извести и гравия. Здесь на стенах, укрытых домашними полотенцами, изукрашенных припасенными образками, сохранилась бело-красно-зеленая пелена и лица были разбиты уступчатыми ямами в штукатурке…
Женя увидел: только ладони лодочкой и ризы колоколом в одной плоскости. Все повернуты, все смотрят, вносят огромный восьмиконечный крест.
По углам – печи, черные пробки дымоходов, топки забиты красным кирпичом и опилками. А зимой снег ложится здесь на подоконники и остатки растрескавшихся рам, образуя целые седловины и холмики. Ведь Лида впервые привела его в церковь, что располагалась на окраине поселка, где вполне можно было задохнуться от ладана, от гула чавкающих губ, шагов нескончаемым круговоротом и окна были непрозрачны. Отец Павлов обращался ко всем.
«На полях иконы обозримы клейма-жития – Рождество, Крещение, обращение к горнему (например, дикие звери приносят пищу), кормление хлебами и насыщение хлебами, подвиги веры, мученическая кончина, страсти и чудеса у гроба. Замкнутый цикл – идея круга. А также ряды-чины – идея последовательности, последовательного предшествования. Святоотеческий, пророческий – „сбылось реченное через пророка…“, деисус, местный, Святые Врата, Евхаристия и, наконец, страшный пожар, неистовство огня – тябла выгибаются и с грохотом валятся на пол, проламывая его. Жар раздирает доски, и они раскалываются, уходя в темноту…»
Отец Мелхиседек выключает свет, и сразу наступает зимний вечер.
Отец усмехнулся:
– Сам-то я давно в церкви бывал, кажется, еще в детстве, у себя в городе. Все забыл или даже не знал толком. Понимаешь, совершенно как чужой, как в гостях, в которые не приглашали. Одним словом, заглянул по случаю.
Женя кивнул в ответ.
– …на скамьях стояли забытые чашки с хлебной мякотью. Свечи вдруг начинали громко хрустеть в наступившей тишине, дымить, валиться и набрасываться друг на друга. Потом открыли потайные двери и вынесли пластмассовые ведра и корзины. Оранжевый воск капал, мутнел и застывал молниеносно. Пластмассовые ведра и корзины наполняли пакетами, мусором, бумагой, в которую заворачивали рыбу. Пластмассовые ведра и корзины ставили у стен, ставили их, таких пузатых, а они, как назло, падали и катались по бетонному полу, нарушая благоговейную тишину храма. Потом… что было потом?…А-а, да, потом протирали стекла и становились видны огни и снег на улице. Пластмассовые ведра и корзины падают и катаются, катаются, рассыпая мусор по полу, и его вновь терпеливо собирают. Пахнет рыбой, что поджаривали на огне.
– Как это на огне? – Женя почесал нос. – Чего-то чешется…
– Очень просто – сначала поджаривают на огне на решетках или подвешивают за ребро над углями, чтобы запеклось, а потом колесуют, чтобы проветрилось…
– Как это?
– Вот лето наступит, поедем на рыбалку, тогда и покажу. – Отец улыбнулся.
Женя опять увидел перед собой: только ладони лодочкой в одной плоскости и ризы колоколом в одной плоскости, еще ступени, копья, черепа. «Все это напоминает Голгофу, Секирную гору», – сообщает отец Мелхиседек. Боже мой! Боже мой! Отец Мелхиседек уходит, поклонившись.
– Потом мы с Лидой вышли на улицу. Она рассказала мне, что довольно редко заходила сюда, в храм, не знала толком ни праздников, кроме Рождества и Пасхи, ни служб, ни постов, ни молитв, ни чинопоследования, хотя ее мать, Фамарь Никитична, тут помогала церковному старосте, и все ее знали, и даже сам батюшка ее несколько побаивался за громкий стальной голос, была ли она права или неправа… какая разница?
Потом мы пошли с твоей мамой гулять. В пути следовало бы свернуть в переулок, чтобы сократить долгую, только что схваченную морозом дорогу по неосвещенной улице, но Лида повела меня на карусели – какие карусели зимой!
– Я знаю, – подхватил Женя, – мы там с мамой потом часто бывали. Я не люблю карусели, меня на них укачивает и начинает тошнить. – Женя подошел к могиле.
Теперь могила Лиды была чиста. Чиста от снега и черна от ночи бесформенной кучей дерна. Женя расчистил ее полностью, встал, вынул из карманов припасенное угощение – ломкий песок прошлогоднего печенья к новогодней елке, укутанной ватой, цветной бумагой, – к новогодней елке, ко дню ангела, к утренней службе, к службе вечерней, к маленьким, к крохотным таким вспотевшим ладоням лодочкой, совершившим свое слепое, но верное путешествие во влажной темноте карманов куртки, перешитой из ветхой бабушкиной кацавейки. К ладоням пристал белый порошок, рассыпанный повсюду.
Это был не снег, потому как не таял.
Женя вспомнил, что забыл выбросить целлофановый пакет, и теперь он разорвался. Значит, отрава перемешалась с крошками печенья, которым он только что угощал маму…
– Ты что? – Отец наклонился к Жене. – Замерз? Ну, пойдем домой, уже поздно, нам бабушка чаю согреет.
Но ведь она мертвая и, стало быть, не так страшно, что покушала это угощение. Она уже умерла. А бабушка говорила, что у Бога все живы…
– Я не виноват, я совсем, совсем забыл…
– Что ты забыл? – проговорил отец пустым, бесцветным голосом. – Сынок, пойдем скорее домой, пойдем, прошу тебя.
– Нет! – Женя отскочил к покосившейся, почти целиком погребенной под снегом ограде. – Нет! Не пойду с тобой! В глушь, в дремучую темь – там лешие, упыри, бесы и покойники!
– Что ты говоришь такое?!
– Я здесь останусь, рядом с мамой!
«Круг могилки я хожу, хожу, круг я келейки хожу, хожу, круг я новенькия, круг да сосновенькия, все я старицу бужу: „Уж ты, старица, встань, ты, спасена душа, встань, уж к заутрене звонят. Люди сходятся, Богу молятся, все спасаются!“ Все я матушку бужу, все я матушку бужу: „Уж ты, матушка, встань, ты, спасена душа, встань!“
– Ты поди прочь, пономарь! Ты поди прочь, молодой. Уж я, право, не могу, вот те Бог, не могу: ручки-ножки болят, все суставчики мозжат.
Круг могилки я хожу, хожу, круг я келейки хожу, хожу, круг я новенькия, круг да сосновенькия, все я старицу бужу: „Уж ты, старица, встань, ты, спасена душа, встань, как у наших у ворот собирается народ все со скрипочками, с балалаечками“. Все я матушку бужу, все я матушку бужу.
– Ты постой-ка, пономарь! Подожди-ка, молодой! Уж и стать было мне, поплясать было мне, хоровод поводить с девушками, да лежу я в гробу – „круг я новенькия, круг да сосновенькия“ – с медными пятаками на глазах».
Под вечер Женя заболел…
4. Женя
Под вечер Женя заболел.
Начался жар, поднялась температура, мокрые, расползшиеся валенки, оставленные в коридоре, повторяли форму влажных мучнистых ног, луж, хлюпающих шагов.
Дед старался не топать, прохаживаясь в темноте, лишь изредка озаряемый сполохами красного света из открытой топки печи. Часы с шипением стершихся шестерен и вытянутых вслед за цепями пружин пробили половину десятого. Отмерили границу тишины.
С кухни потянуло запахом настоя, приготовлением которого занялась Фамарь Никитична. Она специально для того пошла на неотапливаемую веранду и долго выбирала среди развешанных веников по окнам, среди трав и кореньев.
Сквозь цветной полусон Женя слышал голоса, шелест твердых, накрахмаленных углов подушки, шелест спиц, треск вздувшихся обоев, шум ветра и подвластных ему ветвей, шаги где-то очень далеко, шепот сухих губ, советовавших, как способней следует полоскать воспаленное горло. Женя почувствовал отвратительную горечь толченного в ложке анальгина, очень боялся пошевелиться, чтобы не растревожить такое слабое, постоянно сменяющееся ознобом, мерцающее тепло здесь, в огромных мокрых простынях. Ведь бабушка уложила Женечку к себе в кровать, накрыв стеганым одеялом.
Лежал, лежал да и свалил сам себя в кучу…
Под утро он уснул, однако вскоре проснулся: комната была освещена зеленоватым дымом перламутрового, давно заброшенного и заросшего водоема. Комната была пуста, комната была, и он – Женя – был. «А если я умру, как мама, то меня не будет… Все станут меня искать, звать, кричать: Женя, Женя, где ты? А меня уже давно не будет, и они пребудут в неведении и слепоте».
Посреди комнаты стоял стол, чуть шевелились благодаря горячему печному духу прелые занавески, газовые занавески, и страшила, страшила стена своим зимним рельефом побелки, отколотой штукатуркой и пролежнями замаскированных кирпичей, схваченных глиной, вьюшек ли. Речь, разумеется, идет о печной стене…
Под столом прятался грузовичок, доверху набитый игрушками, пусть даже новогодними, покрывшимися пылью. Окаменели за отсутствием – «гордо реет» – мятые первомайские флажки, услужливо снабженные подтеками казеинового клея. Когда-то Женя приклеивал их к уступам мебели, воображая себе парад на Красной площади, что транслировали по радио, – фанерный ящик, обтянутый колючим суровьем, светящийся ограненным стеклом и керамическими клавишами настройки, – радиоточка.
По столу ползали муравьи, но медная платформа для кускового сахара – фарфоровые балерины, тряпичные клоуны, лысые мраморные пасхи Фаберже и бумажные гномы, – круглая, подобная карусели, в центре стола, круглого, вздрагивала и начинала вращение.
Все быстрее и быстрее…
Женя вдруг становился невольным свидетелем этой нечаянной игры, нечаянной радости, и диспетчер по каруселям Афанасьевич пускал Лиду покататься бесплатно. Хотя Фамарь Никитична и давала ей двадцать копеек медными пятаками на завтрак, на мороженое… на глаза.
Да, на глаза, на глаза!
Диспетчер по каруселям в парке, где играла музыка, пускал покататься бесплатно. И они катались бесплатно вместе с кусковым сахаром, хозяйственным мылом, тряпичными клоунами и грудастыми физкультурницами.
Здесь все казалось реально и предельно знакомо, хотелось только иного света. И он становился иным – голубоватым утром, свежим, морозным, с наледью у водоразборной колонки и лаем собак, переживших эту ночь.
Женя пошевелился. Пижама высохла, затвердела, прилепившись к телу, и было столь приятно изуверски медленно отрывать ее от этого тела, распространявшего запах масел, зверобоя, загипсовавшейся марли и водки, которыми его (Женечку) натирали давеча.
Женя, кажется, был в беспамятстве и ничего не помнил из этого.
…вот они вернулись с отцом с кладбища, тогда мокрый, тяжелый снег сменился дождем, вот молча сели за стол и стали ждать ужина. Потом Женя почувствовал головную боль – сначала несильную, но медленную, вязкую, напоминавшую мерный, однообразный звук внутри лба и бровей, будто там кто-то ползал на чердаке, заглядывая в слуховые окна, затыкая вытяжные короба из глубин низа пробками – тряпьем и мятой бумагой. Женя попытался встать, ноги не слушались, боль молниеносно усилилась, взорвалась, растекшись по рукам, губам, одежде. Женя вскрикнул. Отец обернулся. Он начал что-то говорить громко, даже, вероятно, кричать, а на лице у него была надета маска из плотной бумаги, которую он, судя по безуспешным попыткам, никак не мог снять.
Женя услышал совершенно чужой хриплый голос бабки: «…вот, пожалуйста, померили температуру – тридцать девять и пять! Додумался в такую погоду ребенка на кладбище таскать, ирод!»
Фамарь Никитична помогала Жене раздеваться, кричала деду: «Давай ставь чайник, чего-о уставился!»
Отца в тот вечер она к Женечке не пустила, и он остался сидеть в коридоре у открытой печной топки, сушил промокшее пальто и Женины валенки. Они курились.
Стало жарко.
Женя вспоминал лето, когда он рвал подорожники и обклеивал ими голые ноги и руки, рвал и цветы, восхищался их свежестью, терпким тошнотворным запахом, густым голубоватым духом сумрачных водорослей.
Женя помнил, как сюда, в тень кустов, мама всегда прятала банку с водой, забеленной молоком, и банка остывала здесь.
Лида укрепляла сорванные цветы на тарантасе, стоявшем во дворе. Лошади вздрагивали, становились добычей оводов, навозной духоты, прели, мечтали о пронзительном ветре.
Тарантас, который теперь более походил на большую корзину цветов, после полудня уезжал на дальние лесоучастки. По его сиденьям, фартукам и блестящим подлокотникам ползали жуки. Лесник готовил зеленые военные термосы с их курящимися внутренностями – с чаем ли, щами, кашей. Проверял ружье. Кучер-цыган смотрел на маму: она выходила на солнце, на солнечную сторону, и ветер слегка шевелил ее волосы.
Жила-была себе в этой местности, посреди старого парка с единственной аллеей, на берегу заболоченного дурно пахнущего пруда, вернее сказать, карьера (глинодобытчики постарались!), в комнате из парусины и веников зверобоя. Выходила на веранду, вдыхала этот самый зверобой, эти самые языческие благовония-услады, здесь еще пахло сырым луком, а на кухне всегда говорило радио.
Летом Женя любил ходить на Филиал один. Филиалом назывались окрестности поселка, где располагались кирпичный завод, лесобиржа и интернат. В это время интернатовских увозили на торфяные разработки за болото Чижкомох, и поэтому интернат пустовал.
Площадка перед бревенчатым зданием школы зарастала травой, куча угля за котельной покрывалась теплым дымящимся мхом, и можно было, вполне обезопасив себя, избегая вопросов и погони по пятам, забраться на самый верхний звон полуразрушенной колокольни. С высоты после узкой, темной лестницы – крутого, крюкастого лаза, низкого, невыносимо низкого, скребущегося в голову потолка Женя принимался за эту территорию мира, разлитого под летним солнцем.
Конечно, ослепляло с непривычки, хотя этой минуты следовало ожидать с неотвязностью, борясь с волнением, не подавая вида в том, но все же, все же эта минута наступала внезапно – болели глаза, ломило голову.
Женя видел лес до горизонта, поселок, мутную зелень карьера.
В продолжение тишины улицы пустовали, расчерченные песчаной пылью, поднятой вероятным метанием камней или путешествием велосипеда. Деревянные мостовые возлежали в тени деревьев. Единственным местом, где происходило хоть какое мало-мальски различимое с вышины движение, была станция УЖД – узкоколейной железной дороги: мотовоз дышал черной копотью солярки и двигался игрушечной спичечной коробкой.
Потом Женя пробирался вдоль кирпичной монастырской ограды, и колокольня оставалась за спиной на фоне синего июльского неба.
…наконец лесник уезжал на лесоучастки, и ворота закрывались.
Женя очнулся. Дед сидел рядом с его кроватью на стуле и дремал.
Было уже поздно, часов одиннадцать, когда в дверь постучали. Отец открыл. На лестнице стоял Леха Золотарев. Он говорил быстро – «но Женя заболел», – он постоянно оглядывался – «но Женя заболел», – он чесал нос – «но Женя заболел», – он переминался с ноги на ногу – «но Женя, говорю, заболел».
Женя почувствовал, что этот разговор, свидетелем которого он стал, теряет для него всякий смысл. Голоса сливались в какое-то однообразное гудение, вой.
– …а как же звали твою собаку?
– Мухтаром звали.
– Стеклом, говоришь, подавилась?
– Да, она, зараза такая, все по помойкам лазила, дрянь всякую жрала.
«Я не понимаю, что он говорит». – Женя попытался встать.
– А ты его не слушай, не слушай. – Прямо перед собой Женя увидел усатое лицо Фамари Никитичны.
Оглянулся, деда уже нигде не было, а была только она… конечно, ведь Фамарь Никитична родилась в этом старом двухэтажном деревянном бараке, разгороженном печными трубами и фанерными ширмами, прожила здесь всю жизнь и знала свое заветное, укромное место под лестницей, где неторопливо располагалась с собственными опушенными холмами двойного подбородка, снопообразным пепельным париком и растянутыми, в сравнении с древесными грибами, мочками ушей. Естественно, чтобы никто не видел. Не дай Бог! Она разматывала свой серебряный тюрбан, сыпала на пол потоки стекол, конфетти, елочных украшений, снимала клипсы, закусив ими полысевший и потому скользкий манжет старой плисовой шубки Элизабеты Шварцкопф… Нет! Она не вкушала всего этого, у нее наличествовал гастрит, и ее частенько подташнивало.
Бабка всегда вспоминала зиму в той лишь связи, что в холодное время года на веранде хранилась картошка в корзинах на фоне засыпанных снегом деревьев. Веранда, на которую вела дверь, прорубленная в конце сумрачного коридора, была пересвечена солнцем, дымившимся пылью и паутиной. Последние недели, когда уже не могла выходить на улицу, Лида неподвижно сидела здесь, завернувшись в одеяло. Было свежо. Прозрачно…
Потом Женя услышал, как хлопнула входная дверь. Некоторое время шаги разносились на лестнице. Стукнула калитка. Золотарев ушел.
Теперь воцарилась тишина, и только из комнаты доносился сиплый голос Фамари, она что-то пела Женечке, который заболел.
Колыбельную песенку пела:
Приходи к нам ночевать,
Нашу Лидочку качать!
Пела распевно, закрывала глаза, раскачивалась, казалась совершенно беззвучной. Мертвой:
Уж ты, котенька-коток,
Я тебе, тому коту,
За работу заплачу:
Дам кувшин молока
Да кусок пирога…









































