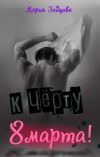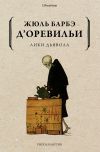Текст книги "Барбэ д'Оревильи"

Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Максимилиан Волошин
Барбэ д'Оревильи
I. Жизнь Жюля Барбэ д'Оревильи
Жюль Амедей Барбэ д'Оревильи родился в маленьком нормандском городке Sauveur-le-Vicomte 2 ноября 1808 года, в День всех мертвых.
«В этот мир я вошел в зимний, ледяной, сумрачный день, в день слез и воздыханий, день, который Мертвые, чье имя он носит, осеменили пророчественным прахом. Я всегда верил, что этот день должен был оказать темное влияние на мою жизнь и мою мысль», – говорил он про себя.
Как о произведениях д'Оревильи нельзя судить, не касаясь его личности так нельзя говорить о нем самом, не вызывая теней его предков. Он хотел быть и был голосом своей земли и своих отцов.
Род Барбэ – одна из старых крестьянских фамилии Нормандии, с полуострова Контантена, с берегов Ламанша, где раскинулись самые тучные, самые зеленые луга Франции.
Имя д'Оревильи не было дворянским титулом – так по именам своих поместий различались отдельные ветви рода. Лишь в 1765 году, перед революцией, дед поэта Феликс Барбэ купил себе дворянский титул. Теофиль, младший из сыновей его, глубочайшим несчастием жизни которого было то, что, будучи ребенком, он не мог принять участие в героической борьбе шуанов, в которой участвовали его старшие братья, был отцом поэта. Осужденный на вынужденное бездействие, он оставался всю жизнь непримиримым монархистом и отказывался признавать законными владыками реставрированных Бурбонов, так как, даровав Хартию они как бы признали этим дело Революции. Не нашедшая себе выхода политическая страсть оледенила его волю и сделала из него самовластного и жесткого хозяина своей семьи.
«Вы провели свою благородную жизнь в уединении полном Достоинства, как древний pater familias, верный своим убеждениям, которые торжествовали, потому что война шуанов угасла в военном великолепии Империи и в наполеоновской славе. Мне же не была дана эта спокойная и мощная судьба. Вместо того чтобы, как вы, оставаться сильным и, как дуб, вросшим в родную землю, беспокойный духом, ушел я вдаль, безумно отдавшись тому ветру, о котором говорится в Писании и который увы! всюду вьется меж пальцев человека». В таких выражениях Жюль Барбэ д'Оревильи посвящал отцу свой лучший роман «Le Chevalier des Touches»[1]1
«Шевалье де Туш» (франц.).
[Закрыть] – трагический эпизод шуанского восстания.
Мать поэта была из старой нормандской аристократии из рода Анго, получившего свой герб при Франциске I. В числе ее предков был знаменитый корсар Анго, который самовольно правил берегами Атлантики, объявлял войну португальскому королю и заключал договоры с соседними державами. Дед же ее Луи Анго был незаконным сыном Людовика XV.
«Вот разнообразная генеалогия! – восклицает Реми де Гурмон, – Солидные нормандские мужики и контантенские аристократы, оружейники из Дьепа и Бурбоны. Неужели такая смесь была необходима, чтобы создать одного Барбэ д'Оревильи? Вероятно… Чистые расы дают плоды более цельные».
И в творчестве и в личности Барбэ д'Оревильи кипит вся эта смесь терпких токов старой французской крови. Он проходит через современную литературу, пьяный этим тройным хмелем – дерзостью корсаров, католицизмом шуанов и гордостью Бурбонов, справедливо заслужившим ему имена «Великого Коннетабля французской словесности», «Видама Франции», «Последнего шуана», «Герцога Гиза литературы», «Тамерлана пера», «Мушкатера», «Крестоносца», – имена, которыми он был увенчан как друзьями, так и врагами.
Раннее детство Барбэ д'Оревильи прошло под трубные звуки наполеоновских побед и под вечерние рассказы у камина про дерзкие предприятия шуанов, которые еще продолжали на Контантене безумную, героическую и напрасную борьбу против Империи.
Первые книги его были: Шатобриан, Вальтер Скотт, Байрон и Берне. Ребенком он мечтал о войне. Но вместе с Реставрацией над героической Францией легла великая тишина мещанства. Школьные годы он провел в суровом средневековом городе Valognes. Ему было 15 лет, когда при вести о греческом восстании он написал свое первое произведение: оду «Героям Фермопил», посвященную Казимиру Делавиню, который отнесся к ней одобрительно. В 1827 году его отправили в Париж в College Stanislas готовиться к баккалауреату. Там подружился он с Морисом Гереном, рано умершим талантливым поэтом, который был одним из двух людей, имевших для него наибольшее значение в первую половину жизни. Вторым был Требутьен, библиограф, ориенталист и библиотекарь в городе Саеп, куда после баккалауреата Барбэ д'Оревильи был направлен отцом для поступления на юридический факультет. В это время начинается распря между ним и отцом, который приказывает ему, как старшему сыну, согласно традициям рода, заниматься землей. Период революционных увлечений, совпавший с июльской революцией, совместное с Требутьеном издание «Revue de Caen», проповедь крайних республиканских идей привели к полному разрыву с отцом. Он оставляет на много лет Нормандию и уезжает в Париж, «эту приемную родину для всех, кто порвал связь с семьей и оставил родную землю». Лишь дружба Требутьена, который становится на всю жизнь его верным издателем, поддерживает в эту эпоху его связь с Нормандией. В Париже он отдается байроническому романтизму Ролла и Чаттертона. Он пишет свой первый роман «Ce qui ne meurt pas»[2]2
«То, что не умирает» (франц.).
[Закрыть] – роман, которому суждено было увидеть свет лишь в 1884 году, когда ему уже было семьдесят шесть лет. Точно так же и поэма в прозе «Amaidèe»,[3]3
«Амедея» (франц.).
[Закрыть] написанная в ту же эпоху вдохновенных бесед с Гереном, появилась лишь в 1889 году, в год его смерти. Недаром на печати его стоял грустный и гордый девиз «Too late» – «Слишком поздно», в котором – тайная история его сердца. Главным документом, освещающим кризис его романтической разочарованности, является дневник его «Premier Mèmorandum».[4]4
«Первая записная книжка» (франц.).
[Закрыть] Первые книги его, появившиеся в печати, были роман «L'Amour impossible»,[5]5
«Запретная любовь» (франц.).
[Закрыть] и «Bague d'Hannibal»,[6]6
«Перстень Ганнибала» (франц.).
[Закрыть] которые он до этого тщетно старался поместить в «Revue des deux mondes». Эти книги не имеют успеха и отмечены лишь немногими уточненными ценителями. Зато в свете он одерживает победы. Это время его дендизма. Он красив, изыскан, блестящ, едок, изящно одет, производит неотразимое впечатление на женщин и скрывает боль души за маской надменности.
Недостаток материальных средств заставляет его взяться за журнализм. «Газеты мне отвратительны», – восклицает он. И несколько месяцев спустя: «Я проглотил свою жабу». Он пишет в «Nouvelliste», в «Le Globe», в «Le moniteur de la mode» и уже показывает в критике свои львиные когти, свою «furia francese».[7]7
французскую ярость (итал.).
[Закрыть] Он начинает свой большой роман «La vieille maîtresse[8]8
„Старая любовница“ (франц.).
[Закрыть] и заканчивает „Du dandisme et de G. Brummel“[9]9
„О дендизме и Джордже Бреммеле“ (франц.).
[Закрыть] – блестящую, глубокую и парадоксальную книгу, которая появляется в „Dèbats“. Но светская жизнь без цели, без веры и без идеалов становится невыносима его воинствующему и устремленному сердцу. В 1846 году он переживает глубокий духовный и религиозный переворот и возвращается к католицизму, к земле, к традициям рода.
На время он оставляет литературу. Он хочет практически работать в пользу церкви, и, романтик, он организует „Католическое общество“ по образцу бальзаковского „Общества тринадцати“. Это общество в его планах должно было создать во Франции нечто подобное движению в Англии, вызванному Рескином: символику средневековья поставить вновь на место мещанских стилей. Барбэ д'Оревильи собирается конкурировать с магазинами церковной утвари квартала Святого Сульпиция. Обществ» в кругу своих предприятий должно охватывать «бронзы, кованые железные украшения, церковные облачения, покровы для алтарей, вышивки, образа, гравюры, книги, церковные библиотеки, молитвенники, музыку, живопись и скульптуру, посвященные церковным целям, орнаменты, стекла, кафедры, алтари, исповедальни, ковры, стулья, решетки, органы и т. д. и т. д…».
Он путешествует по Франции, устраивая дела «Католического общества тринадцати пожирателей», и печатает в «Dèbats» после «Дендизма» статью об Иннокентии III. Джордж Брёммель и Иннокентий III, модные хроники и статьи по истории церкви – это было слишком трудно приемлемо для его современников. В «Revue du monde catholique», которую основывает в 1847 году Католическое общество, он печатает яростно патетические статьи в защиту церкви, статьи, дышащие пламенем инквизиционных костров и гремящие отлучениями, блестящие апологии иезуитского ордена и одновременно помещает сверкающие остроумием светские хроники под вызывающим женским псевдонимом Maximilienne de Syrene.
В 1848 году на несколько мгновений Барбэ д'Оревильи присоединяется к революции как председатель клуба «Смоковниц св. Павла» в Сент-Антуанском предместье, клуба, состоявшего из двух тысяч рабочих католиков. На первое заседание его он явился в сопровождении двух ассистентов священников. Члены клуба встретили их восторженными криками «долой иезуитов». В первый вечер Барбэ был сдержан и терпелив. На второй тоже. На третий он не вынес и, войдя на трибуну, объявил:
«Господа! Я очень жалею, что у меня, как у Кромвеля, нет военной силы, чтобы заставить вас замолчать. Но я не хочу, чтобы болтовня и крики остались здесь победителями. Поэтому я объявляю клуб распущенным. Мы выйдем вместе. За помещение заплачено за триместр вперед. Ключ я прячу в свой карман для того, чтобы оно не служило отхожим местом для кабацких трибунов». «И, как испанский гранд в присутствии короля, президент клуба Смоковниц св. Павла, взяв свою широкополую шляпу, надел ее перед лицом народа. Ошеломленная толпа застыла на месте».
Когда во время наступившей реакции Католическое общество распалось и орган его был закрыт, Барбэ возвратился снова к работе над своим романом «Une vieille maîtresse». Именно в это время он возвращается мысленно к родине своей, Нормандии, и задумывает создание цикла нормандских романов, героическую эпопею своей земли во время революции. Первым опытом «нормандского романа» был рассказ «Le dessous des cartes d'une partie de whist»,[10]10
«Изнанка одной партии в вист» (франц.).
[Закрыть] который потом вошел в книгу «Les Diaboliques».[11]11
«Дьявольские лики» (франц.).
[Закрыть]
В 1849 году в «Opinion publique», органе роялистов и легитимистов, он печатает два серьезных и глубоких этюда о Жозефе де Местре и Бональде, проникнутых непримиримым католицизмом. Они легли в основу его книги «Les prophetes du passè».[12]12
«Пророки былых времен» (франц.).
[Закрыть]
С 1850 года он пишет в журнале «La Mode», органе легитимистов, основанном его другом герцогом де Ровиго. В вечерней газете «Le Publie» он ведет политический фельетон и поддерживает Наполеона III. Благодаря этому он после переворота входит в редакцию правительственного органа «Le Pays».
В это время, в начале Империи, им написан роман «L'ensorcelèe»[13]13
«Околдованная» (франц.).
[Закрыть] и одна из лучших поэм его «La maîtresse rousse».[14]14
«Рыжая любовница» (франц.).
[Закрыть] Он издает «Reliquiae Eugènie Guèrin»[15]15
«Reliquiae Эжени Гереш» (франц.).
[Закрыть] – дневники и записки сестры его друга Мориса Герена, мистическую и обаятельную книгу, которая возродилась в недавние дни.
В 1856 году он примиряется со своим отцом и после двадцати пяти лет отсутствия возвращается в Valogne. В 1860 году он замыслил объединить все свои критические статьи в одном громадном издании, «основать свой собственный дом», и начинает выпускать сериями «XIX siecle. Les œuvres et les hommes»[16]16
«XIX век. Произведения и люди» (франц.).
[Закрыть] – свой страшный и неправедный суд над людьми и произведениями девятнадцатого века.
Его положение в правительственном органе «Le Pays» колеблется, и он находит себе почетное место и полную свободу в «Nain jaune», издаваемом Аврелианом Шоллем. Отсюда он подвергает жесточайшему обстрелу Французскую Академию. Его «Les quarante mèdaillons de l'Acadèmie Française»[17]17
«Сорок медальонов Французской академии» (франц.).
[Закрыть] – образцовый памфлет, шедевр гнева и злости. Лишь перед трупом в эти дни умершего Альфреда де Виньи он с глубоким почтением склоняет свое копье и относительно щадит Виктора Гюго, Ламартина и Сент-Бева. В 1863 году он ведет бешеную атаку против «La revue des deux mondes», и Бюлоз преследует его судом за диффамацию. Несмотря на то, что Барбэ д'Оревильи защищает Гамбетта, суд тем не менее приговаривает его к штрафу в 2000 франков.
В 1864 и в 1865 годах он издает два лучших своих романа: «Le Chevalier des Touches» – героический эпизод шуанского мятежа, в котором он достигает полного мастерства разработки драматических положений, и «Un prétre mariè»[18]18
«Женатый священник» (франц.).
[Закрыть] – роман, изданный католическим издательством и вслед затем занесенный в Index и изъятый из продажи распоряжением Парижского архиепископа.
Он ведет, как всегда, несправедливые и великолепные кампании против парнасцев, хлещет Золя и Валлеса. В 1870 году, во время осады, он несет службу солдата. В 70-х и 80-х годах он пишет последовательно в «Figaro», в «Gaulois», в «Constitutionnel», в «Жиль Блазе», в «Трибуле».
В 1874 году появляются его «Diaboliques».
Из его последних книг надо отметить «Goethe et Diderot»[19]19
«Гете и Дидро» (франц.).
[Закрыть] (1880), «Une histoire sans nom»[20]20
«Повесть без названия» (франц.).
[Закрыть] (1882), «Les vieilles actrices. Le musèe des antiques»[21]21
«Старые актрисы. Музей древностей» (франц.).
[Закрыть] (1884), «Une page d'histoire»[22]22
«Страница истории» (франц.).
[Закрыть] (1886). Последней книгой, изданной им при жизни, была его юношеская поэма «Amaidèe».
Это последнее тридцатилетие своей жизни он проводит в глубоком уединении в своей убогой квартире, состоявшей из одной комнаты, на улице Русселе. Он «знаменит и неизвестен». Оскорбления, наносимые критиком, мешают отдать справедливость поэту. Католики и легитимисты, за дело которых он борется, относятся к нему с еще большим опасением, чем его враги. Его зовут полушутя, полусерьезно Barbemada de Torquevilly.
Лишь небольшой круг избранных группируется около него в эти годы: Леон Блуа, Пеладан, Бурже, Октав Юзанн, Гюисманс, Конпэ, Рашильд.
Пеладан сохранил в нескольких строках его портрет в старости:
«Он жил на улице Русселе в доме для рабочих. Квартира состояла из одной комнаты, в ней он и умер. Считалось же, что он живет в Valogne, где он проводил пятнадцать дней в году. Дубовый аналой с его гербом был единственным украшением комнаты. Через окно были видны деревья монастыря St. Jean de Dieu. Ему прислуживала консьержа. Этот денди жил, как монах, проводя время в чтении и в размышлениях. Днем он казался стариком, но в сумерках совершалось превращение: старческое все сбегало с него, и час спустя в свете появлялся самый блестящий из кавалеров. В первые мгновения лета еще сказывались в известной окоченелости; но как только разговор загорался, старый лев вновь обретал рыканья своего ума, которые никому не дозволяли противостоять ему. Из года в год, каждый вечер боролся он против старости, как Геракл с Танатос, и каждый вечер вырывал у него собственную молодость – Альцесту».
Он умер в этой же комнате в 1889 году, восьмидесяти одного года от роду, умер так, как мечтал умереть: между священником и сестрой милосердия. Последние слова, написанные его рукой, были:
Неизвестный врач был призван констатировать его смерть. Ощупав остановившийся пульс, он попросил сказать ему по слогам трудное имя покойного и, записав, спросил:
«А его профессия?».
Ни у кого из присутствующих друзей не хватило духу ответить на этот вопрос, свидетельствовавший о том, что «все мы умираем неизвестными – слава солнце мертвых». А Шарль Бюэ, входивший в эту минуту в комнату, кинул ему:
«Он был продавец Славы!»
А на другой день Жюль Леметр писал в некрологе:
«Все мы умираем неизвестными, – говорил Бальзак. – Жюль Барбэ д'Оревильи отдал Богу свою благородную и полнозвучную душу – душу католика, душу шуана, душу денди, душу романтика, душу мушкетера.
Он умер, написав по крайней мере сорок томов, – славный и неизвестный. Он умер непризнанным после полувека пеной кипящих разговоров.
Прежде всего, никто не узнает, каких лет он умер и родился ли он в 1808 или 1811 году. Потом никто никогда не узнает, что делал он в течение двадцати лет жизни с 1830 по 1850 год. Этого он не поведал никому. Некоторые утверждают, что в эту эпоху он держал магазин церковных украшений на улице St. Sulpice. Но доказательства этому отсутствуют. Наконец, никто никогда не узнает, играл ли этот таинственный человек всю свою жизнь лишь роль (весьма благородную и невинную) или он был искренен. И в какой мере игра смешивалась в нем с искренностью, или искренность с игрой. Все эти три тайны он унес с собой».
II. Личность и творчество Барбэ д'Оревильи
Ламартин писал Барбэ д'Оревильи: «Как герцог Гиз – мертвый вы будете казаться больше, чем живой».
В 1908 году второго ноября исполнилось сто лет со дня рождения д'Оревильи. Предсказание Ламартина исполняется. Те, кто с трепетом проникают в великолепный саркофаг его творения, бывают потрясены гигантскими очертаниями мертвой фигуры этого нормандского воина. Но таких слишком немного.
У Жюля Барбэ д'Оревильи старые и запутанные счеты со своим веком. Он отказывался признать XIX век и судил его прозорливо, надменно, гневно и несправедливо. «Вопреки всем позитивизмам, им изобретенным, и всем его притязаниям, с обдуманной дерзостью я называю XIX век – веком абсолютного скептицизма, поверхностной философии, веком крушения всего от одного прикосновения его все трогавших пальцев. Это время, когда душа отлетает от всех явлений, от всех вещей под напором ощущений, под напором надвигающейся материи». Но зато он имел мужество пройти свой век из конца в конец, в течение восьмидесяти лет, следя за извилинами его мысли, и до самого последнего мгновения не выпуская из рук мстительного копья до безумия дерзостных критик, которыми из года в год, изо дня в день метил он и клеймил глупость, пошлость и безверие. Пророк прошлого, хранитель отжившего, страж отвергнутых верований, носитель осмеянных веком идей, он с глубоким сознанием своего назначения держал весы в своей руке, и когда чаши колебались, он, не задумываясь, кидал на одну из них свой победительный меч – меч Бренна.
Это был Дон-Кихот критики. Но Дон-Кихот прекрасно вооруженный, зоркий и меткий. Он сражался с князем века сего, с сатаной, и преследовал беспощадно грех, считая глупость главным его проявлением.
«Св. Фома Аквинский в „Summa totius theologiae“[24]24
„Сумма теологии“ (лат.).
[Закрыть] исследует вопрос: „Глупость есть ли грех?“ и после определений и оговорок, продиктованных ему его богословской осторожностью, отвечает на этот вопрос утвердительно Глупость является грехом оттого, говорит Doctor Angelicus, что ею затемнена духовная сторона. Этот вид глупости создан из ненависти, страха, низости и скуки: ненависти к Богу и к искусству, страха высшей истины, умственного бессилия и скуки жить замурованным без света и надежды. На борьбу с этим четверояким грехом Барбэ д'Оревильи употребил часть своей жизни; для этого он стал журналистом и полемистом. Одного за другим он брал людей своего времени, взвешивал их по частям и писал итоги. На этих листках часто приходится читать: „Глупость – сто на сто общего веса“» (Remy de Gourmont).
Зато и XIX век был не менее жесток и враждебен к Барбэ д'Оревильи, чем он к нему. Из всех уединенных умов он остался, быть может, наименее оцененным. Правда, его звучное нормандское имя, в первых слогах которого чувствуется исполинская земляная сила, в средних – холодный блеск и змеиный свист шпаги, и заключающееся шуршаньем кружев и шелестом шелкового шлейфа, это имя часто звенит на страницах текущей литературы, и пышные имена его героических романов знакомо звучат уху читателей. Но очень мало читавших хоть что-нибудь из его произведений, кроме «Les Diaboliques». «Он более знаменит, чем известен», говорит его биограф Греле. Судьба, между тем, Барбэ д'Оревильи более благоприятствовала, чем другим «подземным классикам» французской литературы. В то время, когда многие и лучшие произведения хотя бы Вилье-де Лиль-Адана или Поля де Сен-Виктора стали библиографической редкостью либо безвозвратно похоронены в глубочайших пластах старых газет и журналов, все строки Барбэ были собраны и собираются его преданными друзьями, которые, вопреки равнодушию публики, продолжают многотомное издание его критических статей «Люди и произведения XIX века» – его Страшный суд над современностью.
При жизни литература его затемнялась личностью. Фигура его была слишком необычайна, торжественна и архаична, чтобы современники могли это простить ему. Если существуют еще люди, которые готовы извинить оригинальность ума и парадоксальность речи, то таких, которые могли бы примириться с оригинальностью костюма, нет совершенно. «Великий Коннетабль французской словесности» пришел в восьмидесятые годы с другого конца столетия в живописном и романтическом костюме безукоризненного денди 30-х годов. Восьмидесятилетним старцем он появлялся на парижских бульварах в широкополой шляпе, подбитой красным бархатом, в романтическом плаще, в сюртуке, узко стягивавшем в талии его по-прежнему юношескую фигуру, и в белых панталонах с серебряными галунами. Это зрелище приводило в неистовство парижан, привыкших к успокоению глаза на однообразном разнообразии форм. И вполне естественно, что необычайность его костюма волновала его современников гораздо больше, чем его вызывающие парадоксы и удары, хлыстом, которым он их стегал по лицу. Поэтому нет ни одного критика, который своей статьи о Барбэ д'Оревильи не начинал с описания сюртука и серебряного галуна на панталонах. «Для поверхностной толпы, – говорит Октав Юзанн, – Барбэ д'Оревильи оставался всегда фигурой карикатурной и эксцентрической, чем-то вроде „Герцога Брунсвика“ литературы, старого денди, затянутого в корсет, набеленного, накрашенного, украшенного бриллиантами и кружевами. Все журнальные писаки, которые совсем не читали его произведений и не могли понять его идей, упражнялись в том, чтобы представить его смешным чудаком, паяцем, чей воинственно ирокезский вид был настолько же фальшив и старомоден, как его костюм. Легенда эта укоренилась и немало повредила славе удивительного писателя».
«Разве можно рассчитывать выиграть процесс, когда вы носите такой костюм», – крикнул ему с негодованием директор «Le Pays» после того, как он проиграл дело, начатое против него Бюлозом за диффамацию.
Но друзья видели его иначе. Вот в каких словах Жозефен Пеладан описывает его наружность:
«Он гордо вздымался на дыбы, вытягивался в дугу, выставлял грудь и выгибался, как геральдический зверь. Грация мужественная и мощная, но в то же время гибкая, тонкая и нежная грация преображала этого корсара в изысканного царедворца. Глядя на его бронзовый бюст в Люксембургском музее, хочется сказать: „Вот голова, созданная для шлема“. Нет! Эта голова сама была шлемом, и это надменное, к устам от чела спускающееся презрение было подобно забралу, скрывающему от мира стыдливость раненой души. Оденьте его в кольчугу, и это будет второй Пандольфо Малатеста, один из кондотьеров диких и утонченных, которые резали без жалости и способны были от восторга плакать над чертежами Леоне Баттиста Альберти».
Обвинение в неискренности висело всю жизнь над Барбэ д'Оревильи; но понятие искренности одно из наименее точно определимых понятий нашего языка, и, обычно, мы делаем ошибку, смешивая его с понятием невинности. Твердо зная, что «невинность как василиск умирает, когда увидит себя в зеркале», свойство это мы бессознательно переносим на искренность, признавая вне подозрений искренними лишь те слова и жесты, которые совершены в самозабвенном порыве. Там же, где слову предшествует мечта о нем, а к жесту примешано созерцание его как исторического явления, там неизбежно является сомнение в искренности человека. Но у людей, живущих мечтой, мыслящих словом и чувствующих именами, корни реальностей чаще растут из фантазии, чем из действительности. В этом случае слова «искренность», «игра» не применимы совершенно. Барбэ д'Оревильи «создал поэму из своей личности».
Он познал конечные и несовместимые противоречия своей природы и принял их и обоготворил их в высшем слиянии, которое не было понятно случайным свидетелям отдельных мигов его бытия. Из глубоких исторических несовместимостей, таившихся у него в крови, он создал цельную и законченную жизнь. Верующий католик, он был непримиримым индивидуалистом, убежденный монархист, он пламенел всю жизнь духом мятежа, ожесточенный ненавистник революции, он обладал темпераментом истинного революционера. «Католицизм – это познание добра и зла. Будем же мощны, широки и щедры, как вечная истина». Таков был его католицизм, и думается, что ни Ницше, ни Бакунин не отказали бы подписаться под такой формулой.
«Нет свободы, – говорит Вилье де Лиль-Адан, – существует только освобождение». Поэтому тот, кто рожден мятежником, всегда бунтует против торжествующей силы, какова бы она ни была. Если имя этой силе – Король, он бунтует против короля, а в эпохи владычества народа он бунтует против народа. В средние века он будет еретиком, а в век материализма станет католиком. Его девиз – «один против всех». Его борьба героична и напрасна. Он не пойдет туда, где он рискует быть увенчанным дешевыми лаврами площадного триумфа.
Таков был Барбэ. Пока его мир был заключен в родительском доме, он был республиканцем, когда же горизонт расширился и он понял, что торжествующая сила – материализм, то он вернулся к вере своих отцов – к королю и к церкви, в них познав истинных мятежников против века. В его груди жило «не сердце пошлого триумфатора с глазами, пламенеющими наглостью, а гордое сердце побежденного, переполненное пеплом печали».
Поэтому на печати своей он написал слова гордые и грустные: «То late» – «Слишком поздно!», поэтому он любил повторять слова Моисея Альфреда де Виньи: «Господи! Ты создал меня сильным и одиноким!».
Лишь в крайнем индивидуализме человек может найти ту точку равновесия своей души, которая примиряет противоречия его природы, не принося в жертву одно другому и не оскопляя своих страстей. Индивидуализм Барбэ д'Оревильи назывался «дендизмом». Парадоксальная и дерзкая книга его юности, посвященная Джорджу Брёммелю, королю дендизма, «qui fut le roi par la grâce de la Grâce», «королю милостью Грации», дает ключ если не ко всей его жизни, то по крайней мере к той «поэме, которую он создал из своей личности», – поэме, так возмущавшей вкусы его современников.
Элегантная дерзость и презрение к общественному мнению – вот что больше всего чарует его в дендизме.
«Люди, которые рассматривают явления лишь с мелочной их стороны, выдумали, что дендизм – это искусство одеваться, удачная и смелая диктатура в области туалета и внешней элегантности. Это в нем есть, безусловно, но кроме того есть еще многое. Дендизм – явление человеческое, социальное и духовное. Это вовсе не платье, существующее как бы само по себе. Напротив, дендизм – это известная манера носить его. Можно быть одетым в лохмотья и оставаться денди… Денди собственным, частным авторитетом ставит свой закон над теми законами, которые Царят в кругах наиболее аристократических, наиболее приверженных традициям». Из последних слов явствует, что если Барбэ д'Оревильи избрал знамена католицизма и монархии, чтобы бороться против торжествующего материализма и демократии, то дендизм привлекал его как мятеж против аристократических косностей.
В какие элегантные парадоксы облекает он свою апологию тщеславия, лежащего в основе дендизма!
«Что такое тщеславие? Любовь это, дружба или гордость?
Любовь говорит любимому существу: „Ты моя вселенная!“.
Дружба: „Ты мне подходишь“, но чаще: „Ты утешаешь меня“.
Гордость же молчалива. Она как король одинокий, праздный и слепой; корона закрывает ему глаза. Тщеславие владеет вселенной менее узкой, чем любовь. То, чего достаточно для дружбы, ее не удовлетворяет. Если гордость – король, то тщеславие – королева; она окружена, деятельна и прозорлива, и корона ее не на глазах, а там, где она красит ее красоту».
У дендизма нет законов. Он весь в индивидуальности, в крайнем утверждении своей личности, на которое способны только англичане. Барбэ д'Оревильи проводит такую параллель между героями французской ж английской элегантности: между Джорджем Брёммелем и графом д'Орсэ:
«Д'Орсэ нравился всем настолько естественно и страстно, что даже мужчины носили медальоны с его портретом. Денди же нравятся только женщинам – нравятся, возбуждая ненависть. Д'Орсэ был королем любезного радушия. Радушие же относится к чувствам, совершенно неведомым денди. Подобно им, он владел искусством туалета, не блестящим, но глубоким, и потому, конечно, верхогляды смотрели на него как на преемника Брёммеля. Но дендизм вовсе не грубое искусство завязывать галстук. Есть денди, которые никогда не носили его. Пример – лорд Байрон, у которого была такая прекрасная шея. Кроме того, д'Орсэ внушал страсть к себе, и долгую. Из них одна осталась исторической. Денди же любимы лишь спазмодически. Женщины, которые ненавидят их, тем не менее отдаются им и за то имеют счастие, которое дороже всего: ненависть свою сжимать в объятиях. Что же касается до очаровательной дуэли д'Орсэ, тарелкой швырнувшего в голову офицера, непочтительно отозвавшегося о св. Деве, и дравшегося за нее, потому что она была женщина, а он не мог допустить, чтобы оскорбляли даму в его присутствии, то что может быть более французского и менее денди?».
Согласно этим идеалам созданы все герои романов Барбэ д'Оревильи, от виконта де Брассара до графа Равила де Равилес, от Кавалера де Туша до аббата Жеоэля де Круа-Жуган.
И не был ли сам Барбэ д'Оревильи вполне достоин своих героев, когда на вызывающие слова Бодлэра: «В своей статье вы осмелились коснуться интимных сторон моей личности. Я поставил бы вас в довольно неловкое положение, если бы послал вам вызов, так как вы как католик, кажется, не признаете дуэли?» – он выпрямился и отвечал: «Страсти мои я ставлю всегда выше моих убеждений. Я к вашим услугам, милостивый государь».
Обладая такими свойствами ума и души, Барбэ д'Оревильи не рискует стать писателем популярным, так как, чтобы полюбить его, надо дойти до той степени сознания, когда начинаешь любить человека лишь за непримиримость противоречий, в нем сочетавшихся, за широту размахов маятника, за величавую отдаленность морозных полюсов его души. Вся красота Барбэ в том, что он не боялся своих противоречий, а спокойно носил их в себе, зная, что между двумя противоположными остриями вспыхивают наиболее яркие молнии сознания.
Анатоль Франс едко замечает, что он был непримиримым католиком, но веру свою исповедовал предпочтительно в богохульствах. Но не надо забывать, что католицизм был для него «познанием добра и зла», что уже само по себе отчасти богохульство. И потом ведь «если он мыслил как католик, то воображение его всегда оставалось языческим» (Греле).
Он сказал Анатолю Франсу: «Для Господа нашего Иисуса Христа было большим счастием, что он был Богом. Как человеку ему не хватало характера». Одному другу, который, встретив его однажды утром перетянутого, с вытянутой талией, сказал ему: «Черт побери, д'Оревильи, вы однако ловко затянуты в этот сюртук!», он отвечал: «Если бы я в настоящую минуту причастился святых тайн, я бы лопнул». В таких словах нет богохульства, а есть известная фамильярность с Богом, свойственная умам гордым и верующим. С полным правом в ответ на эти обвинения Барбэ д'Оревильи мог бы повторить слова, которые он влагает в уста одного своего героя, аббата Перси: «Разве недостаточно много сражался я за честь Господа и его святой церкви, чтобы он милостиво простил мне дурные привычки, приобретенные на его службе, и не придирался к формальностям. Когда после сражения при Мальплакэ Людовик XIV воскликнул: „Кажется я оказал Богу достаточно услуг, чтобы иметь право рассчитывать на лучшее отношение ко мне“, то, конечно, он никогда не был лучшим христианином, как в это мгновение. Искренняя вера часто позволяет себе эти фамилиарности с Богом, которые глупцы принимают за смешные непочтительности, а лакейские души и философы за гордость. Предоставим же болтать этим господам. Для нас же, которым уважение к королю никогда не мешало свободному обращению с ним, – это совсем иное».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.