Текст книги "Путник по вселенным"
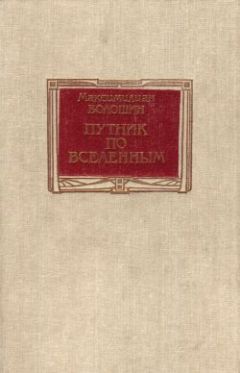
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
«Софья Андреевна{9}, – говорил он, – заставляла Льва в обруч скакать – бумагу прорывать. Не любил я бывать у них из-за нее. Прихожу раз: Лев Николаевич сидит, у него на руках шерсть, а она мотает. И довольна: вот что у меня, мол, Лев Толстой делает. Противно мне стало – больше не стал к ним ходить».
Про разрыв Сурикова с Толстым я слыхал такой рассказ от И. Э. Грабаря:
«А он вам никогда не рассказывал, как он Толстого из дому выгнал? А очень характерно для него. Жена его помирала в то время. А Толстой повадился к ним каждый день ходить, с ней о душе разговоры вел да о смерти. Так напугает ее, что она после целый день плачет, просит: «Не пускай ты этого старика пугать меня». Так Василий Иванович в следующий раз, как пришел Толстой, с верху лестницы на него.
– Пошел вон, злой старик, чтобы тут больше духу твоего не было.
Это Льва Толстого-то… Так из дому и выгнал».
Последним публичным актом Сурикова было письмо в «Русских ведомостях», написанное по поводу травли, поднятой в это время против Грабаря из-за перевески картин в Третьяковской галерее{10}.
«Волна всевозможных толков и споров, поднявшихся вокруг Третьяковской галереи, не может оставить меня безучастным и не высказавшим своего мнения. Я вполне согласен с настоящей развеской картин, которая дает в надлежащем свете и расстоянии возможность зрителю видеть все картины, что достигнуто с большой затратой энергии, труда и высокого вкуса. Раздавшийся лозунг «быть по-старому» не нов и слышался всегда во многих отраслях нашей общественной жизни.
Вкусивший света не захочет тьмы».
Письмо это было написано Суриковым за несколько дней до смерти.
Умер он 6 марта 1916 года.
Обычно судьба, когда ей надо выплавить из человека большого художника, поступает так: она рождает его наделенным такими жизненными и действенными возможностями, что ему их не изжить и в десяток жизней. А затем она старательно запирает вокруг него все выходы к действию, оставляя свободной только узкую щель мечты, и, сложив руки, спокойно ожидает, что будет.
Поэтому источник всякого творчества лежит в смертельном напряжении, в изломе, в надрыве души, в искажении нормально-логического течения жизни, в прохождении верблюда сквозь игольное ушко. В самых гармонических натурах художников мы найдем этот момент. Иначе и быть не может Иначе им незачем было и творить, они бы просто широко и блестяще прожили свою жизнь.
Судьба слепила Сурикова для того, чтобы он бунтовал против или вместе с Петром, делал Суворовские переходы, завоевывал новые Сибири и грабил персидские царства, щедро оделила его всеми нужными для этого качествами, но, попридержав на два века, дала ему в руки кисть вместо казацкой шашки, карандаш вместо копья и сказала: «Ну, а теперь вывертывайся!»
И теперь, когда последний экзамен его жизни сдан, мы можем засвидетельствовать, что он вышел из своего трудного положения блестяще, осуществил в мечте все, чего не мог пережить в жизни, и ни разу в чуждом веке, в чуждом круге людей, с непривычным оружием в руке не изменил ни самому себе, ни своей древней родовой мудрости.
Илья Эренбург
Париж в первую зиму войны.
Вы поднимаетесь по высокой, узкой, прямой, без площадок, лестнице-коридору, на верхней ступени которой коптит лампа. Большая мастерская переполнена народом. По углам продавленные сомье, пыльные склады подрамков, несколько трехногих стульев и колченогих столов.
Высоко по стенам криво и густо развешены холсты с тонкими кривыми, зелеными и багровыми, распиленными на куски деревянными людьми, раскинувшими свои кегельные руки и ноги в катастрофическом запустении кубически-вздутых пейзажей.
Ковер из проклеенного войлока с рельефными коричневыми разводами.
На вопрос «что это?» вам отвечают:
– Это делают в Новой Зеландии из сгустков человеческой крови. А вы посмотрите там в углу африканских идолов.
В густом табачном воздухе толпа гудит по-английски, по-русски, по-шведски, по-норвежски, по-испански, реже всего слышны французские слова.
В одном углу играют на пианино, в другом пьют плохое вино. Все говорят, но никто друг друга не слушает. Все друг друга знают, но мало кто с кем знаком. Многие кажутся опьяневшими, но иным опьянением, чем от алкоголя: в них работает кокаин, гашиш, морфий.
Каждый одержим по-своему и никто не обращает внимания на других.
Юноша с лицом черепа и длинными прямыми волосами ловит пальцами воздух и бормочет: «Дух веет всюду»…
Толстый человек с шевелюрой Зевса, держа за пуговицу незнакомого ему господина, толкует ему: «Мне двадцать пять лет, и я еще невинен».
Другой, с бритым, передергивающимся лицом и с неожиданными вскриками ночной птицы, носится среди толпы с большой книгой, раскрывает ее перед носом и тыкает пальцем в пророчества Нострадамуса{1}.
Маскарад или сумасшедший дом?
Маскарады, музыка, танцы запрещены в Париже на время войны.
Это художественная «кантина» на Монпарнасе.
Так во время войны стали называться дешевые рестораны, устроенные в некоторых мастерских художников.
После обеда, так как кафе запираются в девять, художники остаются здесь, чтобы провести вечер.
В каждом городе есть свои солнечные сплетения и нервные узлы. Положивши руку на них, чувствуешь напряженное биение духовной жизни и пульсацию токов, из них лучащихся. Париж богат такими средоточьями. Его творческие вихри затягивают чужестранца, причащая его своему рабочему ритму. Эти сплетенья можно почувствовать и в Национальной библиотеке, и в Лувре, и в «College de France», и в библиотеках Латинского квартала, и в академиях Монпарнаса.
Одним из самых страшных симптомов, говоривших о духовном опустошении, произведенном войной, было то, что жизнь этих «солнечных сплетений» иссякла.
Внешне это не бросалось в глаза, но душа не чувствовала пульса, горячей волны крови. Она испытывала жуткое головокружение, встречая неожиданную пустоту именно там, где привыкла находить опору и оправдание. Эта пустота говорила о полном отливе крови от мозга, о духовном обмороке страны. <…>
Но ни один из кварталов Парижа не производит во время войны впечатлений большего душевного запустения, чем Монпарнас. Внешне он изменился, быть может, меньше других: он оживлен, он люден. «Академии» переполнены. Но нигде больше, чем на этом перекрестке бульваров Монпарнаса и Распайля, не чувствуется запустения великого города, нигде отлив духа не обнажил более трагически затягивающего ила на дне каналов. На этих улицах кипело и вырастало то поколение французского искусства, которое теперь истреблено войной, и видимость жизни, сообщаемая этому кварталу присутствием иностранцев, зияет всей огромной пустотой, оставленной по себе этим поколением, хирургически изъятым из европейской жизни.
Последние книги поэта Ильи Эренбурга – «Стихи о Канунах»{2}, «Повесть о жизни некоей Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей», «Избранные переводы Франсуа Вийона» – возникли в этом запустении Монпарнаса, в духовном обнажении Парижа времен Великой войны. Даже переводы <из> Франсуа Вийона (Виллона), прекрасные в своей субъективности, не менее, чем оригинальные стихи Эренбурга, говорят об эпохе, в которую они были сделаны.
Исступленные и мучительные книги, местами темные до полной непонятности, местами судорожно-искаженные болью и жалостью, местами подымающиеся до пророческих прозрений и глубоко человечной простоты. Книги, изуродованные цензурными ножницами и пестрящие многоточиями. Книги большой веры и большого кощунства. К ним почти невозможно относиться как к произведениям искусства, хотя в них есть и высокие поэтические достижения. Это – лирический документ. И их надо принимать, как таковой. В них меньше, чем надо, литературы, в них больше исповеди, чем возможно принять от поэта…
Я не могу себе представить Монпарнас времен войны без фигуры Эренбурга. Его внешний облик как нельзя более подходит к общему характеру духовного запустения. С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелелыми семитическими губами, с очень длинными и очень прямыми полосами, свисающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом, имеющий вид человека, «которым только что вымыли пол», Эренбург настолько «левобережен» и «монпарнасен», что одно его появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих.
Такое впечатление должны были производить древние цинические философы на улицах Афин и христианские отшельники на улицах Александрии. В нем есть, конечно, и то, и другое.
Прихотливой и нелепой, чисто русской судьбой кинутый почти ребенком, как политический эмигрант, на многодорожье мирового города, он, несмотря на свою мо<ло>дость, прошел уже сложный поэтический путь{3}. За ним уже целый ряд книг, из которых каждая по-своему интересна и каждая, как лирическое устремление, отрицает все предыдущие. Его путь идет резкими зигзагами, неожиданными скачками, и за него нельзя поручиться, что он на следующем повороте не прорвет орбиту поэзии и не провалится в мир религиозных падений и взлетов, для судорог, уже молчаливых.
Он выступил в 1910 году, как крайний эстет, книжкой стихов, сразу искусных, но безвкусных и с явным уклоном в сторону эстетического кощунства. Книга имела несомненный успех у критики. В следующих сборниках стихов: «Я живу», «Одуванчики» «Будни»{4} – Эренбург делал зигзаги между эстетством, лирической идиллией и натуралистическим цинизмом. Определяющими моментами этих книг была ненависть к Парижу и мечта об Италии.
Очень большое и творчески благотворное влияние имел на него Франсис Жамм{5}.
Книга «Детское», отмеченная его знаком, является самой гармоничной и трогательной из книг Эренбурга. Кроме того, Эренбург перевел книгу стихов Жамма и составил хрестоматию французских поэтов за последние сорок лет, в своих переводах, не считая еще не опубликованных им переводов поэтов «Плеяды» и XVIII века, что указывает, как творчески переживает он культуру Франции и как подробно любит ее, ненавидя.
«Стихи о Канунах» открываются словами из Апокалипсиса…<…> Основная идея Эренбурга, проходящая через всю книгу, это то, что земная жизнь и есть настоящий, подлинный ад и что «всякий, кто жизнь отработал, – в раю». Проникнутый христианскими символами и образами, он в каждой строке остается исполненным глубоко иудейского, непримиренного духа. Богоборчество – один из основных родников его поэзии. Он не может принять изначальной божественной несправедливости, вышнего каприза, который формулируется для него в библейских словах: «Иакова я возлюбил, Исава возненавидел». <…> И стихи Эренбурга, проникнутые духом «Плача Иеремии»{6}, могут служить психологическим свидетельством великого духовного запустения Парижа первых лет европейской катастрофы.
Александр Бенуа
Изо всех автопортретов художников – один неотступнее других остается в глазах: это портрет Шардена{1}, на котором он написал себя в очках, с головой, повязанной платком, и с козырьком зеленой саржи над глазами.
В нем останавливает внимание не столько это причудливое и остроумно-практичное снаряжение для живописной работы (недаром Сезанн говаривал об этом козырьке: «О, он был себе на уме – Шарден»), сколько испытующий, пристальный взгляд, которым художник вглядывается в стоящую перед ним натуру – в данном случае в самого себя.
Это один из самых зеркальных автопортретов, уводящий по анфиладам взаимоотражений в самую глубину творческой лаборатории и дающий истинный образ живописного вдохновения.
Глядя на этого некрасивого старика в явно смешном наряде, не можешь не сказать себе: «Он прекрасен», настолько каждая деталь его костюма и наружности связана с его ремеслом.
Не могу себе дать отчета, в силу каких сложных сопоставлений этот портрет выплывает перед глазами, когда я вспоминаю встречи с Александром Николаевичем Бенуа в Версале.
Быть может потому, что только здесь я встречал А. Н. Бенуа не как критика, не как собеседника, наконец, не как петербуржца, а только как живописца, и притом в самые острые моменты его творческого вглядыванья в натуру.
Сильно горбясь, в старом пиджаке, перепачканном краской, с мольбертом и холстами под мышкой, с ящиком в руке проходил он сквозь ворота «Резервуаров», направляясь в один из уединенных боскетов в том состоянии внимательного и подробного экстаза перед окружающим, когда взгляд художника, боясь пропустить хотя бы малую черту видимости, как бы выпивает все собственное обличье человека, заставляя забывать о своих жестах, одежде, словах, обо всей обычной эпидерме внешности, с которой всегда более или менее связано его сознание.
При этом он мог только повторять: «Нет, мое сердце не вынесет столько красоты!»
И не случайно, когда кн<язь> Шервашидзе зарисовывал его портрет для «Золотого Руна», А. Бенуа выбрал сам для него именно это версальское свое обличье, как самый ценный из своих ликов{2}.
Встречаясь с Бенуа в Версале, я понял, насколько кисть и краски служат для него инструментами познания: это его циркуль и отвес; он не только творит – он исследует и проверяет.
Критик и художник в нем слиты органически.
Чувствуется, что он не может судить о художественной эпохе, предварительно не выверив ее собственной кистью, и что он не подойдет к природе, не сделав справки о том, как она до сих пор принималась и трактовалась глазом живописцев иных времен.
За спиной Бенуа-живописца всегда стоит художественный критик, дающий каждому движению его кисти историческую обоснованность, а перо Бенуа-критика направляет художник и неволит его к неожиданным скачкам, капризным пристрастиям и антипатиям, не оправдываемым исторической логикой, но эстетически всегда правым.
Каждый рисунок, каждую картину Бенуа можно логически доказать, каждую статью нужно почувствовать живописным чутьем.
Даже в этюдах с натуры Бенуа почти всегда остается графиком: рисунок четкий, крепкий, тяжеловатый, продуманный, стоит всегда в его работе на первом плане.
Акварель и гуаши более отвечают его намерениям, чем масло. Но ими он пишет густо, с чернотой, всегда монументально.
Он как бы чеканит кистью – отчетливо и глубоко: бретонские ли скалы, террасы, лестницы и стриженые буксусы Версаля, горы северной Италии или холмы Судака{3}.
В каждом его пейзаже по четкости и глубине контуров, по разработке пятен и распределению светотени есть элемент гравюры.
Он подходит к природе как строитель: он внимательно изучает, как все построено, куда перенесена тяжесть, что к чему притерто: ему важен архитектурный чертеж местности, геометрия планов и устойчивость предметов.
Его лиризм никогда не выливается целиком в едином произведении: он разливается по сериям и по циклам.
Рисунок, как орудие анализа и логики, в нем преобладает, потому что рисунок служит звеном между живописью и литературой.
Было бы большой несправедливостью разделять в Бенуа художника и критика: в этом сплаве сила и ценность его для русского искусства. Им объясняется то особое положение, которое занимает Бенуа среди современных художников.
Кто Бенуа в современном русском искусстве?
Бенуа – это наша Академия.
Академия – это необходимое средоточье художественного организма страны; это школа ремесла, живое хранилище традиций, лаборатория индивидуальностей, ковчег идей.
Правда, исторические Академии никогда не удовлетворяли этим требованиям: их официальное положение во всех странах обрекало их на старческий склероз.
Но это не мешало живучему организму искусства рядом с окостеневшими органами создавать новые нервные узлы, которые и становились живыми солнечными сплетениями данной эпохи: когда Академия не делала своего дела – возникали «сенакли», принимавшие на себя ее отправления.
Так, Малларме был в точном смысле Академией символистов: сквозь дисциплину его бесед прошло целое поколение поэтов, из которых ни один не был учеником его личного творчества. Каждый открывал в его беседах свою собственную индивидуальность и уходил своей дорогой, но насыщенный великим историческим опытом творчества, ему сообщенным.
В этом разница между «Академией» и «Учителем». Учитель-мастер создает школу, т. е. учеников, Академия же создает мастеров.
Так, Одилон Редон создал своим идейным влиянием ряд мастеров, среди которых мы знаем Вюийяра, Мориса Дени, Боннара{4}, Серюзье, и ни один из них не пошел дорогой редоновского искусства. А рядом Сезанн посмертно породил не мастеров, а ряд учеников и подражателей, продолжающих его приемы.
Поэтому мы вправе говорить об Академиях Малларме и Редона и о школе Сезанна.
В развитии русского искусства мы видели за последнее время ряд лиц, своеобразно исполнявших функции Академии: не был ли таковой Савва Иванович Мамонтов, из рук которого вышли и Врубель, и Шаляпин, и Русская опера? В литературе князь Александр Иванович Урусов своей многолетней пропагандой Бодлера и Флобера, французской формы и строгого вкуса играл ту же роль – и каждый из писателей последнего поколения чем-нибудь ему да обязан.
Но, конечно, группа «Мира искусства» в гораздо большей полноте осуществила задачи Академии, чем это могли сделать отдельные лица.
Они пришли во время безнадежного развала русского искусства и официальной Академии для того, чтобы собрать растерянные знания, связать порванные нити, не дать рассыпаться преемственной связи русского искусства с западными корнями, которую официальная Академия утратила в конце века.
У этой группы редких и замкнутых в своем искусстве художников, тесно спаянных и вкусами и задачами, оказался свой необычной широты организатор – Дягилев и свой теоретик-вдохновитель – Бенуа.
Бенуа – сердце «Мира искусства». Все качества таланта предназначили его для этой роли: и его свойство как художественного критика, который, не ограничиваясь ролью теоретика своего поколения, с самого начала имел намеренье стать архитектором «Всеобщей истории живописи», и эклектизм его художественных вкусов, и редкая терпимость к крайним течениям, которая, лучась из него, все поколение «Мира искусства» сделала исключением среди русских художественных нравов, и наконец, многообразие его знаний, и применение их не только в живописи, но и в театре, и в балете, и в архитектуре – энциклопедизм его ремесла.
Таким образом, как духовное средоточие «Мира искусства», Александр Бенуа представляется нам как действительное воплощение идеальной Академии современного русского искусства, а та особая неприязнь, которую питает к нему официальная Академия – с одной стороны, и «левые» – с другой, является молчаливым признанием этой его роли. <…>
Воспоминания
Вся наука человечества, все его знания должны стать субъективными – превратиться в воспоминания. Человек должен суметь развернуть свиток своих мозговых извилин, в которых записано все, и прочесть всю свою историю изнутри.
Область воспоминания – область тайная и интимная. Сюда нельзя вводить всякого…
Художник, идущий к моим воспоминаниям, ищет в них не пережитой действительности, а себя самого в настоящем, вне времени.
М. Волошин. « История моей души»
Рассказ об И. Ф. Анненском
Я познакомился с Иннокентием Федоровичем очень поздно – в год его смерти, позднею весною{1}.
Когда я вспоминаю теперь его фигуру – у меня всегда возникает чувство какой-то обиды; вспоминаются слова Бальзака: «La gloire c'est le soleil des morts, nous mourrons tous inconnus»[59]59
Слава – солнце мертвых, все мы умираем неизвестными (фр.).
[Закрыть].
Как раз в 1909 г. возник вопрос об основании журнала «Аполлон», в котором и я также участвовал с первого года его издания, хотя и не любил этого журнала. Видеть же Иннокентия Федоровича в редакции «Аполлона» было тем более обидно и несправедливо, в особенности для последнего года его жизни. Это было какое-то полупризнание. Ему больше подобало уйти из жизни совсем непризнанным.
Приглашение Иннокентия Федоровича состоялось таким образом. Вставал вопрос – кого можно противопоставить Вячеславу Иванову и А. Л. Волынскому в качестве теоретика аполлинизма? Тут вспомнили об Анненском{2}. Ни я, ни С. К. Маковский не имели об Анненском ясного представления. О нем тогда часто говорили Н. С. Гумилев и А. А. Кондратьев{3} – его ученики по царскосельской гимназии. Но Гумилев был в то время начинающим поэтом, и его слова не могли иметь того авторитета, какой они имели впоследствии.
Сопровождать С. К. Маковского в Царское Село для приглашения Иннокентия Федоровича пришлось как раз мне. Как сейчас помню царскосельский адрес Иннокентия Федоровича: Захаржевская, дом Панпушко, № 6. Нас провели в высокую комнату, заставленную книжными шкафами с гипсами на них; среди этих гипсов был большой бюст Еврипида. Несколько чопорная мебель, чопорный хозяин… Помню его поджатый, образующий складки подбородок… В Иннокентии Федоровиче чувствовалась большая петербургская солидность.
Оказалось, что я многое знал об Анненском со стороны его различных литературных выступлений. В моем сознании соединилось много «Анненских», которых я раньше не соединял в одном лице. Тут был и участник странного журнала «Белый Камень» (редактировавшегося Анатолием Бурнакиным{4}) и других журналов того времени. А мы ехали к нему только как к переводчику Еврипида! Все соединялось в этом чопорном человеке, в котором чувствовался чиновник Министерства народного просвещения. До чего было в нем все раздергано на разные лоскуты!
Очень запомнилось первое чтение стихов. Я слышал их в первый раз; я не знал, что автор «Тихих песен» – он же. Выслушав нашу просьбу – прочесть стихи, Иннокентий Федорович прежде всего обратился к Валентину Иннокентиевичу{5} и велел ему принести кипарисовый ларец. «Кипарисовый ларец», как теперь все знают, действительно существует – это шкатулка, в которой Анненский хранил свои рукописи. Иннокентий Федорович достал большие листы бумаги, на которых были написаны его стихи. Затем он торжественно, очень чопорно поднялся с места (стихи он всегда читал стоя). При такой позе надо было бы читать скандируя и нараспев. Но манера чтения стихов оказалась неожиданно жизненной и реалистической. Иннокентий Федорович не пел стихи и не скандировал их. Он читал их очень логично, делая логические остановки даже иногда посредине строки, но делал иногда и неожиданные ударения (например, как-то по-особенному тянул союз «и»). Голос у Иннокентия Федоровича был густой и не очень гибкий, но громкий и всегда торжественный. При чтении сохранялась полная неподвижность шеи и всего стана. Чтение Иннокентия Федоровича приближалось к типу актерского чтения. Манера чтения была старинная и очень субъективная (говорил Иннокентий Федорович всегда как бы от своего имени); вместе с тем его чтение воспринималось в порядке и г р ы, но не в порядке отрешенного чтения, как у Блока. Чтение сохраняло бытовой характер; Иннокентий Федорович, например, всегда звукоподражал там, где это было нужно (крики торговцев в стихотворении «Шарики детские»). Окончив стихотворение, Иннокентий Федорович всякий раз выпускал листы из рук на воздух (не ронял, а именно выпускал), и они падали на пол у его ног, образуя целую кучу.
В стихах И. Ф. Анненского чувствовалась интимность в соединении со строгою классикой и с salto mortale á la Лафорг. Происхождение названия книги «Кипарисовый ларец» могло зависеть еще и от названия книги Шарля Кроса{6} «Le coffret de santal»[60]60
«Сандаловый ларец» (фр.).
[Закрыть] (1873). Иннокентий Федорович очень ценил этого поэта и даже считал себя его учеником, но он смешивал его с его сыном Гюи-Шарлем Кросом, цикл эротических стихотворений которого как раз был помещен в начальных номерах «Mercure de France» за 1909 г. Стихи эти были действительно очень хороши, и особенно И. Ф. Анненский восторгался местом, где говорится о «теле, которое горячее, чем под крылом у птицы».
С осени 1909 г. началось издание «Аполлона». Здесь было много уколов самолюбию Анненского. Иннокентий Федорович, кажется, придал большее значение предложению С. К. Маковского, чем оно того, может быть, заслуживало. В редакционной жизни «Аполлона» очень неприятно действовала ускользающая политика С. К. Маковского и эстетская интригующая обстановка. Создавался ряд недоразумений, на которые жалко было смотреть{7}.
Я не помню точно последнего свидания с Иннокентием Федоровичем, но кажется, последняя наша встреча относится к ноябрю 1909 г. Это было в Петербурге, в Мариинском театре, собственно на его чердаке, обнимавшем собою все место, которое занимает плафон Мариинского театра с местами. Там работал Головин над декорациями к «Орфею», готовившемуся тогда к постановке. У Головина в тот день собралось человек 8–10; шел «Фауст» с Шаляпиным. И тут произошло столкновение двух лиц, и одно из них нанесло оскорбление другому. Мне хорошо запомнилась фигура Иннокентия Федоровича, присутствовавшего при этом, и фраза, которую он произнес: «Да, я убедился в том, что Достоевский прав: звук пощечины, действительно, мокрый». Это была последняя фраза, которую я от него слышал.
Вскоре Иннокентий Федорович умер{8}. Известие о его смерти на Царскосельском вокзале я впервые прочел равнодушно, думая, что оно относится к Николаю Федоровичу Анненскому; точные сведения я получил только через некоторое время.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































