Текст книги "Путник по вселенным"
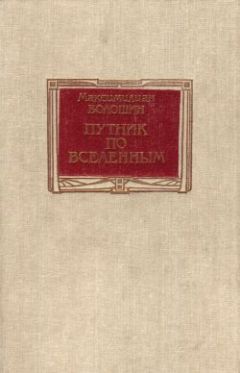
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Вернисаж Салона Независимых
Этот день открытия Салона Независимых{1}, ранний весенний день, всегда немного мокрый, немного солнечный день, в который листья еще не распустились, но почки уже налились, является всегда гранью, датой в артистическом мире Парижа.
Здесь бывает весь Париж. Не тот «весь Париж», о котором пишут в кавычках, Париж модный и блестящий, Париж салонов, снобов, эстетов-любителей, но настоящий весь артистический Париж, тот Париж, который ютится по мастерским и мансардам, который ищет, работает, учится, который презирает правительственное покровительство больших салонов, который пишет своим девизом «Pas de jury, pas des recompenses!»[26]26
Ни жюри, ни наград (фр.).
[Закрыть].
Здесь выставляют все: и те, кто совсем не умеет рисовать, и те, кто учится рисовать, и те, которые ушли слишком далеко для того, чтобы быть принятыми академическими жюри больших салонов.
В этот день встречаешь всех своих знакомых, встречаешь те лица, которые можно видеть при дневном свете только в этот день. Фигуры длинноволосые, длинно-бородатые, в необъятных бархатных шароварах, с широкими черными бортами, в остроконечных широкополых шляпах, вылезают в этот день из своих монмартрских и монпарнасских берлог, в которых еще длится мгновение романтизма тридцатых годов, как в некоторых, крепко замкнутых, отелях Rue de Bourgogne еще не кончилось царствование Людовика XVI.
И среди этой толпы, с трудом движущейся в пыльном воздухе стеклянных оранжерей, в которых Независимые устраивают свою выставку, под безжалостным ослепительным светом, обличающим каждую черноту в картине, мелькают иногда лица знаменитостей, законченные и отлитые в глазу, как сталактитовые кристаллы, десятками виденных портретов и фотографических карточек.
Октав Мирбо{2} со своим грубым и сильным лицом, точно вырезанным из корня старого дерева, со своим тяжелым и неприятным взглядом, – лицом, на котором написано усталое и презрительное знание всех позорных тайн жизни. От его фигуры веет силой, но в глазах написана поблеклость старости. Его волосы редки и приглажены набок. Пальцы его мускулисты и грубы. Такими пальцами можно задушить человека, это пальцы «честного палача». Насколько наружность Мирбо соответствует его литературному облику, настолько же лицо Метерлинка{3} не похоже на его произведения.
Это – высокий человек с гладким и невинным лицом московского купчика. Именно у московских купеческих сыновей, сильно покучивающих, есть то соединение помятости и чего-то телячьего в глазах. Лицо у него моложавое и сероватость в волосах. Вся фигура немного в стиле С. П. Дягилева{4}.
Приземистая, мускулистая фигура Родена{5} с белоснежной бородой патриарха и упрямым, закручивающимся лбом микеланджеловского Моисея производит такое впечатление мощи и энергии, что кажется, что он сам себя высек из камня. По крайней мере, никто из современных скульпторов не мог бы создать подобную фигуру.
Иногда там можно встретить и Верхарна, никогда и нигде не показывающегося в Париже. Он скромно и робко бродит между толпой, редко кем узнанный, в своем потертом, длинном, гороховом пальто, вглядываясь в картины голубыми, выцветшими, старческими глазами. Его длинный нос, мягкий и длинный висячий ус, трагическая морщина на лбу, имеющая форму распростертых крыльев летящей чайки, его длинные, тонкие, сухие и очень белые руки производят впечатление чего-то очень интимного, совсем не парижского. Такие бывают в больших семьях старые родственники, одинокие и добрые, которые привозят детям много игрушек.
Одилон Редон{6}, с приплюснутой большой головой седой камбалы, ходит по выставке маленькими и неуверенными шагами человека, редко выходящего из своей комнаты, пожимает руки своим друзьям и, останавливаясь перед самыми невозможными картинами, добродушно твердит: «Все хорошо… Все хорошо… Это мой любимый день в году».
Его окружают Вюйар, с благородным лысым черепом, тонкими ноздрями и волнистой бородой; Серюзье и дорожном плаще, с загорелым лицом, обвеянным морскими ветрами и обожженным весенним солнцем; Морис Дени, маленький, строго очерченный, с точно обрубленной прической и бородой; Лакост{7} – смуглый и курчавый южанин.
Из поэтов выделяется тонкая и стройная фигура Анри де Ренье{8}, парижанина с головы до ног, с бледным аристократическим лицом, с моноклем, русыми усами, безукоризненным цилиндром и свободно спадающим модном пальто.
Поль Фор{9} – нервный, с черными усами, похожий на испанца, порывистой манерой говорить, точно выбрасывая слова, напоминающий Бальмонта.
И, наконец, Англада{10}, с благодушной и величественной головой молодого Зевса.
Вся эта толпа, целый музей поразительных лиц и силуэтов, от 3 до 6 бродит по накаленным солнцем оранжереям, пожимают друг другу руки, обмениваются приветствиями. Но картины в этот день не смотрят. Это день встреч и свиданий.
Письмо из Парижа
Анни Безант{1} и «Русская школа»{2}…
Эти два впечатления соединились в мозгу в течение одного вечера на расстоянии десяти минут одно от другого.
Будучи проездом в Париже, Анни Безант читала публичную лекцию в зале Географического общества. Лекция была популярна, т. к. предназначалась для большой парижской публики.
Публика была смешанная и необычная. Чувствовалось, что в зале есть такие центры, такие завязи, для которых это не просто лекция, а событие мистического и великого значения, что здесь есть те, которые ждут явления пророка. Это висело в воздухе и делало настроение таинственным и торжественным.
У Анни Безант не то лицо, которым обычно наделяют пророков в своем воображении. Это лицо некрасивое, неправильное, скорее полное, чем худое, очень законченное в своих линиях, очень бледное.
Оно поражает четкостью и реалистичностью своих деталей, точно оно написано кем-то из старых голландцев. Только глаза, страшно яркие, большие, подвижные и темные, на этом толстом морщинистом лице, почти таком же белом, как ее седые короткие волосы, горят пламенем воли, как языки Святого Духа.
Она стояла на эстраде вся в белом, с белыми волосами, в горячей человеческой полумгле этой тусклой залы, стены которой закрыты поучительно знакомыми, неумолимо определенными очертаниями земных материков, начертанных в исполинских размерах.
Ее французская речь, отчеканенная и ясная, с легким английским акцентом, падала сверху. Голос слабый и матовый, точно подернутый бархатным инеем, отчетливый, собранный в комок ровным усилием воли.
«Мы спрашиваем себя – почему мы несчастны? Но отчего же, когда мы счастливы, нам никогда не приходит в голову спросить себя – откуда истекает наше счастье?..
Смерть это переход…
Этот переход можно совершить и свободно, не проходя сквозь врата смерти… Я это знаю потому, что я это испытала…
…Кто подготовлен к этому, тот за гранью найдет естественное продолжение своих интересов. Для тех, кто привязан к земным формам и вещам, – этот переход связан с долгими периодами потерянности и скорби…
Чуда нет в мире. Нет случая! – все связано одно с другим, все имеет смысл…
Не удивляйтесь, если человек высокого и прекрасного духа совершает поступки низкие, недостойные его: дух часто далеко опережает наше материальное существо… Никогда не судите по поступкам… Факты ничего не говорят о человеке… Судить можно только по намерениям… Поступки – это предохранительные клапаны… Действием мы часто только освобождаемся от чужих нам желаний, живущих в нас…
Великая роль принадлежит славянской расе… В ней сосредоточены все силы и токи… Уже рождаются дети, которым суждено составить то поколение…»
В тот же вечер было официальное закрытие «Русской школы социальных наук». В толпе русских студентов, живущих в Париже, больше чем где-либо удивителен этот слепой мозг, подернутый непрозрачной плевой русских будней, который русская молодежь приносит с собой за границу. Долгие годы они могут жить в самом яром огне плавильного горна европейской мысли и не чувствовать его кипения и видеть только все те же серые силуэты призраков и наваждений петербургского периода, с детства отпечатавшиеся на ретине их глаза, всюду приносит с собой тусклую скуку либеральных интеллигентов, сосланных в глухую русскую провинцию.
Профессор Трачевский{3}, с седой головой и лицом византийского страстотерпца, читал заключительную лекцию о Великой революции.
«…Храбрый босоножка прошел по всей Европе в своем капотике с трехцветкой в руках. Но под синей шинелью скрывалась драгоценность – его огненное сердце. Когда он приходил в новый город, он сейчас же сажал посреди площади маленькое деревцо и вешал на него фригийский колпак. Это называлось «деревом свободы»…»
Эти страницы французской революции, приноровленные для понимания десятилетних девиц, где «санкюлоты» переводились «босоножками», произносились в нескольких шагах от того места, где помещался когда-то клуб якобинцев, среди камней, пропитанных жертвенной кровью народов, на которых еще горят прикосновения горячих пальцев, хватавшихся за них.
В заключение он сказал несколько слов о «чуде» гражданского обновления России. Прислушиваясь дальше к речам, произносившимся с этой кафедры позитивной мысли, меня удивило частое повторение слова «чуда». Оно приходило на язык говорившим случайно, его употребляли между прочим, не придавая ему слишком большого значения. Но тем большее значение приобретало оно, сопоставленное со словом Анни Безант, сознательно и гордо отрицавшей возможность чуда в мироздании.
«Нет чуда! нет случайностей! Все имеет тайную связь, и ее надо найти…»
Европейская мысль никогда не могла отказаться от сладостной веры в чудо и сквозь мертвые хрустали позитивизма остановилась перед тем же чудом в его мещанской разновидности случая.
Может быть, вся разница между позитивизмом и идеализмом… символизмом… словом, тем миросозерцанием, которое теперь любой назовет новым, но которое на самом деле является самым старым на земле, – и заключается в том, что позитивизм в глубине души признает чудо, оставляя для него широкое место в своем миросозерцании, а символизм, допуская для краткости это имя, – отрицает его…
Литературные банкеты «La Plume»[27]27
«Перо» (фр.)
[Закрыть]
Банкеты журнала «La Plume»{1} в настоящее время представляют из себя историческую традицию. За ними почти двадцатилетняя давность.
Они тесно связаны с литературной историей двух последних десятилетий французской литературы.
Леон Дешан{2}, основатель «La Plume», семнадцать лет тому назад в пяти энергичных параграфах формулировал свою боевую программу:
1) Создать для общей пользы художников, граверов, скульпторов, литераторов орудие для борьбы, инструменты для пропаганды между артистами – до остальных нам нет дела. (Журнал «La Plume».)
2) Воодушевить борцов, дав им возможность лично и непосредственно обращаться к избранной аудитории. (Субботы «La Plume».)
3) Создать антологию избранных произведений новых писателей, иллюстрированную избранными артистами, еще неизвестными публике: Ропсом{3}, Редоном, Люсом{4}, Десбутэном{5}.
4) Уничтожить несправедливость и пристрастность в литературных и артистических спорах; произвести полный переворот в отношениях между признанными мастерами и молодыми – только приходящими: по отношению к старшим заменить презрительную насмешку почтенным уважением. (Банкеты «La Plume».)
5) Пробудить у нас культмастеров, разбивая враждебное безразличие и партийный дух. (Подписка в пользу Верлена{6}, памятник Бодлера{7}.)
На этой программе сохранилось горячее дыхание первых борцов за символизм… «La Plume» должен был стать не журналом, а эстетическим парламентом. Дешан обладал редкою способностью собирать вокруг себя людей. Все эти бесшабашные и талантливые юноши, про которых в Париже ходили чудовищные легенды, которых «Фигаро» называл «мертвецами из пивных, Гелиогабалами{8} публичных домов», ютившиеся в своем излюбленном кафе «Francois I», куда приходил потихоньку Макс Нордау{9} собирать материалы для своего «Вырождения» и где для него устраивались мальчишеские бляги и его дурачили невероятными рассказами о своих извращениях и чудовищных вкусах, – все они переселились в погребок на площади St.-Michel на субботние собрания «La Plume».
На торжественных банкетах устраивались мирные встречи старшего поколения, метавшего на газетных столбцах гром и молнию против символистов, и этих молодых людоедов. Банкеты происходили всегда под председательством кого-нибудь из «стариков».
Пювис де Шаван{10}, Леконт де Лиль{11}, Маллармэ{12}, Верлен, Эрредиа{13}, Золя, Кларти{14}… по очереди занимали председательское кресло. Одни из них спускались в Латинский квартал как к своим детям и наследникам, другие с робостью, как в вертеп своих литературных и политических врагов.
«La Plume» было всегда знаменем, в складках которого трепетали все ветры и порывы дня… Наряду с эстетическими и философскими движениями там процветал социализм и анархизм, особенно анархизм, который всегда шел об руку с символизмом.
Во времена Дешана «La Plume» было скорее не журналом, а полем для литературных турниров…
В то время как другие журналы становились степеннее, росли, изменялись, «La Plume» как-то всегда оставался в руках молодежи.
Свежего ветра не было – складки знамени беспомощно опускались, бессильные и сморщенные, но при новом порыве орифламма распускалась снова…
В течение года «La Plume» умирал… Он перестал уже выходить… И вот теперь он снова обновился, очутившись опять в руках каких-то совсем молодых и совсем еще неизвестных литературному Парижу поэтов.
Недавно снова был годичный банкет «La Plume» под председательством Альбера Бэнара{15}.
«Стариками» на нем оказались те самые, кто семнадцать лет тому назад выступали в качестве молодежи: Поль Адан, Метерлинк, Элемир Бурж{16}…
В обычной зале на Rue de la Serpente новые хозяева «La Plume» принимали гостей.
Риччиото Кануло{17}, молодой человек с красными веками и ласковыми развратными глазами, и Альбер Тротро{18} – другой редактор – музыкальный критик и притом абсолютно глухой.
– В этом нет ничего удивительного… В Брюсселе я знал одного определителя картин – слепого, и он никогда не ошибался, – пояснил сведущий человек из редакции…
Альбер Бэнар – монументальный, громадный в своем черном сюртуке, сидящем на нем, как вороненые стальные латы, расчесанный, с приглаженными волосами, с широким сияющим лицом сидел на председательском месте рядом со своей величественной супругой, силуэт которой так хорошо знаком по портретам ее мужа.
Все речи приурочены к его «Аполлону» – плафону для Большой Оперы, выставленному в этом году в Национальном салоне…
… – В первый раз мысль о смерти пришла мне в детстве, когда я в наказание переписывал семь раз басню Лафонтена{19} «Дуб и тростник»… Помните ее великолепные заключительные слова: «Тот, чья голова была близка к небу, а корни касались царства мертвых…
Будемте благодетельными гениями для тех поколений, которые следуют за нами…
Будем хранить память о великих мертвецах…»
Это говорит Бэнар…
Потом его приветствуют Карьер{20}, m<ada>me Северин{21}, Карл Боэс{22}, Поль Адаи…
Когда голоса требуют речи от г<оспо>жи Северин, она встает со своими седыми волосами маркизы XVIII века и с нервным изменчивым лицом, желтым, морщинистым, с огненными черными глазами, похожая на Марата, переодетого в женское платье.
– Я думаю: вот будет, наконец, банкет, на котором мне можно будет ничего не говорить…
Cher Maître, вы прославили Аполлона, позвольте же мне прославить Марсиаса. Если надо выбирать между солнечным богом и несчастным существом – получеловеком, полуживотным, – то во всем, что касается политики и искусства, я становлюсь на сторону Марсиаса; я могла бы быть бабушкой «La Plume»…
Я не верю ни в богов, ни в большинство… Народ?.. О, да! Толпа?.. О, нет!..
Она ссылается на книгу Поль Адана… Поль Адан, только что вернувшийся из Америки, очень шикарный, с большой черной бородой, которую он отпустил себе недавно, – немного конфузясь и очень польщенный словами госпожи Северин, рассказывает о том, как он стоял на выставке в С.-Луи, против панно Бэнара с несколькими очень красивыми американками.
«Красота Америки любовалась красой Франции».
Несколько десятков молодых людей, с любопытством рассматривая этих знаменитостей, стараются их faire chanter[28]28
Заставить петь (фр.)
[Закрыть] по очереди.
Когда доходит очередь до Метерлинка, он испуганно озирается, робко поднимает глаза, конфузится, как маленький мальчик, что очень идет к его атлетической и простой фигуре. Он отмалчивается, отрицательно качает головой. Потом он начинает с интересом подробно расспрашивать о Бальмонте и его путешествии в Мексику.
Элемир Бурж, который редко выползает из своего угла, с длинными небрежно зачесанными волосами, с звериной челюстью и кроткими глазами, сгорбленный, в какой-то полудамской кофте, застегнутой на одну пуговицу, в ответ на усиленные вызовы молодежи говорит:
– Мне понадобилось двадцать лет для того, чтобы написать три книги… Как же вы хотите, чтобы я сымпровизировал целую речь в несколько минут?
Потом говорит рябой и стремительный Майар{23}, главный помощник Дешана, вся жизнь которого прошла около «La Plume».
В нем горят старая бесшабашность и порыв первых схваток за символизм.
Карл Боэс – бывший редактор «La Plume», заморозивший его порядком в скучные времена своего директорства, усыпляет длинной и тягучей речью.
Душа Фрица Тауло{24} не выносит этого многоглаголанья. Он поднимается с другого конца стола во всю высоту своей величественной фигуры семидесятилетнего патриарха, с головой, овеянной тонкими седыми волосами, мягкими и рассыпчатыми, как иней, с глазами, затянутыми тусклой дымкой старости, и внушительным голосом, в котором иногда проскальзывают ребячливые ноты, говорит:
– Слишком много вы говорите, господа… Художникам рисовать нужно, писателям писать… Что же тут много разговаривать… А много слов говорить очень вредно.
После конца обеда «знаменитости» торопятся улизнуть. . Г<оспо>жа Северин, уходя, жмет мне руку и говорит:
– Вы ведь русский?.. Я очень люблю вашу родину и много для нее делала… Теперь вы переживаете тяжелый период… Но вот погодите… Я теперь занята, но через месяц… я уже готовлю статью… Вы можете не беспокоиться… Через месяц я снова займусь Россией.
Национальный праздник 14 июля в Париже
Когда Бастилия была взята и разрушена, то на ее месте была устроена ровная площадка, поставлен столб и к столбу прибита надпись:
С тех пор Национальный праздник разделяется на две части: военную – большой смотр, который происходит утром, и танцевальную, которая происходит вечером, всю ночь и не прекращается еще несколько дней.
Шесть часов утра. Парижане едут в Лоншан{1}
От Pont Royal[30]30
Королевский мост (фр.).
[Закрыть] отходят пароходы.
Внизу, около старых сводов моста, постройки Короля Солнце, серых и несимметричных, в тени [огромных][31]31
В [ ] скобках текст, зачеркнутый М. Волошиным в гранках.
[Закрыть] старых тополей, заслоняющих «Pavillon de Flore»{2} со стороны Сены, публика жмется в железных загородках. Черный змей свернулся несколько раз и теснится к горлу пристани. Сзади к хвосту бегом бегут прибывающие, быстро шелестя по крутым каменным сходням, спускающимся к Сене.
Белые пароходы [быстро] уходят один за другим. На Сене еще утренний холодок, но день будет жарким [очень жарким].
Город бежит по берегам – светлый, серебристый, четкий. Пароход мерно разбивает идущие навстречу волны. Берега опрокидываются в воде и расщепляются на тонкие разноцветные иглы и замкнутые глазки. Каждый глазок обведен голубой полоской неба, а внутри его инкрустированы отражения прибрежных тополей.
– Mais c'est bean cela – le matin?[32]32
Такая красота только утром? (фр.)
[Закрыть]
– Seine peut se payer les pareilles petites attracti – ons![33]33
Сена может позволить себе такие маленькие развлечения! (фр.)
[Закрыть]
– Она делает конкуренцию Луи Фуллер!{3}
– А жаркий будет день сегодня…
По небу веером развернулись перистые облака. [Точно] жемчужные короны на голубом фоне.
Высоты Медона и Сен-Клу обременены садами и купами деревьев, которые стекают с гор вплоть до реки и тяжело склоняются над водой.
Пароход поворачивает по петлям реки к Сюреню и, не дойдя, причаливает к пристани Лоншан в виду высот Mont Valerian.
У решеток Лоншанских трибун опять публика «делает хвосты».
Внутри загородки, у подножия трибун, толпа с боя берет деревянные стулья. Вдоль барьера [уже] выросла непроницаемая стена черных спин. Все стоят на своих стульях.
[Ставят стулья на стулья. Балансируют на спинках стульев.]
Из-за сплошного желтого панциря соломенных шляп виден кусочек зеленого поля и зубчатая стена леса. Солнце бьет в глаза. За солнцем лес кажется лиловым, мутным и [очень] высоким. Далеко, по тому клочку зеленого поля, который виден в пролет между красной щекой, ухом и белым зонтиком, движутся [какие-то] живые геометрические массы и поминутно вспыхивают искорки. Видно, что сверху эти массы сплошные, а снизу шевелятся тонкие, гибкие стебли – ноги лошадей.
– Зонтики! зонтики! Эй, уберите зонтики!..
Зонтики клубятся над толпой как водяные пузыри – белые, красные, голубые.
– Зонтики!
Но зонтики не двигаются.
На трибунах движение. Перевешиваются через барьеры.
Долетает далекий плеск аплодисментов.
– Это m<onsie>r Лубэ{4} и бей…
Толстая дама наклоняется с высоты двойного нагромождения стульев: – Филипп! Филипп!
– Я знаю m<onsie>r Лубэ уже двадцать лет. Очень мне интересно!..
Он вытирает мокрый лоб и кладет газету на голову.
Почти у всех мужчин под шляпой надеты белые носовые платки.
– Это сен-сирцы{5} идут.
– Генерал Андре{6}? Это вон тот на белой лошади…
Сверкают каски… Правильным движением ножниц смыкаются и размыкаются ряды ног.
За лесом виден кончик Эйфелевой башни – совсем голубой.
В голубом зное тает далекое кучевое облако.
На крупный серый гравий падают синие переплеты теней от стульев, зонтиков и шляп.
Совсем близко, сейчас за головами, черной густой массой движутся тонкие штрихи штыков, но солдат не видно.
Доносится дальний треск барабанов.
Когда оборачиваешься назад, то видишь только напряженные линии приподнятых подбородков, полураскрытые рты и белые полоски зубов.
Сейчас за оградой трибун полная тишина.
Ряды красных и серых автомобилей и колясок.
Еще несколько шагов – зеленые берега зацветшего озера. Звезды белых кувшинок. Пахнет сыростью и стоячей водой.
Глубокие зеленые тени. Несколько спящих фигур по зеленым бархатистым берегам.
Дальше по аллеям, окружающим Лоншанское поле, около старой мельницы, обвитой плющем, по пыльным краям дороги, на вытоптанной траве – тысячи и тысячи людей, не попавших в ограду трибун.
Везде в лесу балаганы – стойки с сидром, с пивом, с мороженым, холодным бульоном.
Везде амбулаторные палатки с приготовленными носилками для пострадавших от солнечного удара.
Стоят плечом к плечу, тесной горячей массой. Чтобы пробраться на другую сторону леса, надо погрузиться в эту жидкую и вязкую толпу. Чувствуешь прикосновение ситца, холодноватого полотна, шероховатого сукна, иногда горячего и влажного тела.
Из-за голов временами видно далекое поле, клубы пыли, скачущие эскадроны и далекие ряды трибун, как разноцветным гравием посыпанные народом.
Чем дальше по аллеям, тем толпа все реже, а около [больших] озер почти пусто.
Париж теперь тоже пуст и раскален. Белый зной.
Place de la Concorde[34]34
Площадь Согласия (фр).
[Закрыть] погружена в африканскую пустынность. Она вся в желтоватых и сер[оват]ых тонах – выцветших от солнца. Обелиск светлеет в синем небе пустынным, изъеденным зубцом.
Асфальтовые тротуары становятся мягкими и ароматичными.
Статуя города Страсбурга{7} убрана новыми верками.
У театров длинные «хвосты» в ожидании даровых представлений.
Так до вечера.
Перед вечером.
Поперек улицы от домов падают вечерние прозрачные тени.
Только верхние части домов освещены и золотятся. На перекрестках стоят наскоро сколоченные павильоны для музыкантов.
Они обвиты пестрыми лентами и зелеными ветвями. Но листья на ветвях уже свернулись и почернели.
Две женщины, держа друг друга за талию, без музыки кружатся по пыльной мостовой.
Изо всех лавочек вынесены столы на улицу и обедают под открытым небом. Зеленые бутылки, грязные тарелки, оловянные ложки, на которых застыло желтое сало. Дети. Собаки.
Я погружаюсь в узкие переулки старого Парижа.
Перекресток Rue de Galande. Из-за черных стрельчатых камней St. Severin{8} вырываются струи и каскады свежей земли.
В устьях темных ущелий, впадающих на перекресток, – ряды деревянных столов. Над перекрестком устроен воздушный балдахин из стеклянных плошек. Огни еще не зажжены, и прозрачные стаканчики висят тонкими нитями, точно гигантская седая люстра.
На Rue de Galande старые дома вытягивают свои животы и смотрят десятками маленьких окон. В соседнем переулке сквозь деревянную калитку виден в глубине двора фасад, вросший в землю, самой старой церкви Парижа – St. Julien la Pauvre{9}. [Она построена в XIII веке. Она была домовой церковью старого Hotel-Dieu, когда тот одним крылом перекидывался на левую сторону Сены. Теперь в ней совершается православное богослужение по коптскому обряду. В ней есть могила барона Монтиона{10} – знаменитого основателя премии за добродетель. В ней несколько лет тому назад служил обыкновенно известный московский священник Толстой, перешедший в католичество.]
Улицы, идущие ниже к Сене, полны запаха пыли и грязных лохмотьев. В них острый вкус нищеты. Это кварталы старьевщиков, нищих – последние остатки трущоб, расстилавшихся за площадью Мобер. Теперь эти улицы сплошь увешаны флагами, грязными, пыльными, висящими поперек улицы на длинных веревках, точно купальные костюмы.
В глубине, за Сеной, серыми кристаллическими глыбами поднимаются стены Notre Dame. На ее башнях нагло и карикатурно торчат букеты трехцветных флагов.
Сена пустынна. Движение пароходов, как и движение омнибусов и конок, сегодня прекращается с семи часов.
По небу перистые облака, смазанные и дымчатые, точно мазки кисти. От Jie St. Louis по воде бегут первые струйки вечерних огней.
Площадь Hôtel de Ville {11} готовится к иллюминации. Она еще пустынна. Небо над домами зеленовато-оливковое. Один ряд домов уже освещен двумя непрерывными линиями газовых рожков. Они ярко освещают тротуары, но дома остаются мрачными, черно-коричневыми
За Hôtel de Ville'ем начинаются лабиринты самых старых переулков Парижа, примыкающие к кварталу Марэ. Здесь переулки сохраняют еще характер XVI и XVII столетий; это настоящий дореволюционный Париж. Это кварталы самых глухих трущоб старого и нового Парижа.
Севастопольский бульвар, пробитый в шестидесятых годах, был просекой, разрезавшей самые дремучие дебри Парижа.
Две старые артерии, шедшие параллельно: Rue St. Denis и Rue St. Martin, утратили свое значение. От них во все стороны пошли новые просеки, беспощадно вырубая старые дома.
Место старого Cour des Miracles[35]35
Двор чудес (фр.).
[Закрыть] теперь пришлось на заднем дворе grand magasin Reomur. Из лабиринта улиц, ведших к нему, сохранился только один завиток Rue de Nil, идущая странной петлей.
Но наилучше сохранившийся клочок старого Парижа лежит около церкви St. Merry{12}, совсем вблизи от Hôtel de Ville.
В ограде St. Merry вспыхнуло восстание 1834 года, описанное в «Les Miserables»[36]36
«Отверженные» (фр.).
[Закрыть] Гюго. И сохранились именно те завитки переулков, которые описаны в этом романе.
Это улицы Бризмиш, де Вениз, Бобур… Улицы старинных публичных домов Парижа, квартал, для которого еще при Людовике XI была учреждена особая полиция, который на ночь запирался особыми цепями.
Rue de Venise[37]37
Улица Венеции (фр.).
[Закрыть] сохранила весь характер улицы XV века. Раньше она носила имя Rue de la Baudroire. Здесь бушевала ажиотажная горячка в эпоху регентства, здесь был тот кабачок «De I'Epèe de Bois»[38]38
«Шпага леса» (фр).
[Закрыть], в котором собирались Расин и Мариво{13}, где среди белого дня граф Горн{14}, позже колесованный на Гревской площади, заколол банкира Лакруа.
Теперь эти улицы носят характер узких каменных коридоров Венеции. В них уютно, грязно, душно и темно. Белые вывески и фонари отелей-притонов висят поперек улицы. Кое-где освещены окна и двери кабаков, из которых вырывается гам и звон. Кое-где видны коридоры, освещенные в глубине коптящей керосиновой лампой. Нижние этажи иногда представляют крытые дворы-сараи, в которых свалены дрова, стоят повозки и разные тележки, а в глубине подымаются лестницы. Улицы так узки, что извозчик проехать не может, но по краям ступеньками все-таки обозначены тротуары в пять вершков ширины. Вдоль тротуаров бегут струйки зловонной жидкости. Здесь, внутри этих улиц, похожих на сточные трубы, Национальный праздник не сказывается ничем.
Но рядом, на клинообразной площадке улицы Бобур, огни и музыка.
Теперь уже совсем стемнело.
Быстро вертится карусель, и играет орган. Карусель маленькая, из велосипедов. На них сидят верхом девицы с прическами a la chien[39]39
по-собачьи (фр.).
[Закрыть], макро{15} в каскетках, дети… Все они с увлечением работают ногами и трясут расставленными локтями. Тут же рядом по тротуарам идут танцы – настоящие танцы парижских «апашей»{16}, с выкидыванием ног, подкидыванием дам в воздух. Парень в фуфайке, в каскетке, надвинутой набекрень, с тонким горбатым носом, острым подбородком и хищными скулами, держит за талию «жиголетку»{17}, волосы которой, завязанные узлом на затылке, прямыми рыжими прядями падают ей на лицо, образуя настоящую casque d'or[40]40
золотой шлем (фр.)
[Закрыть]. Они сперва долго и широко раскачиваются, потом он начинает крутить с такой силой, что ноги ее отделяются от земли.
Сзади зажигают бенгальский огонь, и фигуры становятся мутными и прозрачными, точно вырезанными из розового хрусталя.
На другой стороне площадки танцуют дети. Толстые женщины, наклонившись, танцуют с маленькими девочками. Кажется, точно они трамбуют землю маленькими трамбовками. Крошечный трехлетний мальчуган один танцует кэк-уок{18}, отчетливо и грациозно махая в воздухе тонкими грязными пальцами.
Из ущелий маленьких улиц я снова выхожу на площадь Hôtel de Ville. Я вижу ее немного сверху. Она вся затоплена черной толпой, над которой поднимается накаленный малиновый пар, оранжевые клубы пыли и висят два прозрачных огненных шатра. В перспективе улицы Риволи – башня St. Jacques{19}. Ее длинные готические окна слабо мерцают внутренним светом.
Вершины домов темны и равнодушны к тому свету и зною, что поднимается снизу. Небо лилово-синее, точно непрозрачный матовый камень. Газовые языки оттеняют огненным пурпуром крупные архитектурные линии здания Hôtel de Ville. Крыша поднимается скачистыми зубцами, чуть светлее неба. На асфальтовой площади светло, пыльно и знойно. Лотки с кокосовыми орехами, с апельсинами, с лимонадом в стеклянных бочонках; куски льда с матовыми пузырьками воздуха внутри.
Avenue Victoria…
Круглые оранжевые бумажные фонари, как апельсины. Их тысячи, десятки тысяч в перспективе, развешанных в беспорядке по ветвям деревьев. Небо синее. Деревья глубоко-зеленые. Каждый оранжевый кружок горит четко и отдельно. Они висят огненными виноградными гроздьями, выгнутыми ожерельями, спелыми плодами, длинными гирляндами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































