Текст книги "Мистические истории. Фантом озера"
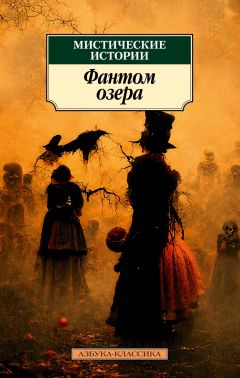
Автор книги: Марк Твен
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сильное душевное расстройство, вызванное кошмарным видением, на несколько дней приковало меня к постели и задержало наш отъезд из Вены. Я содрогался от ужаса при воспоминании об этой сцене – а она постоянно приходила мне на ум во всех своих самых мелких деталях, которые намертво врезались в мое сознание. И все же – так безумно человеческое сердце во власти сиюминутных страстей! – я испытывал дикую радость при мысли, что Берта будет моей. Ибо моя способность предвидения, уже получившая подтверждение во время первой встречи с Бертой, не позволяла мне считать последнее страшное видение будущего просто игрой расстроенного воображения, не имевшей никакой связи с реальной жизнью. Только одно могло поколебать мою ужасную уверенность – доказательство того, что мое видение Праги не имеет никакого отношения к действительности. А Прага была следующим городом на нашем пути.
Тем временем, едва вернувшись в общество Берты, я полностью оказался во власти ее обаяния. Что с того, что мне открылась душа Берты – зрелой женщины, моей супруги? Девушка Берта по-прежнему оставалась для меня пленительной загадкой. Я трепетал от ее прикосновений, находился в плену ее чар и страстно желал убедиться в ее любви. Боязнь отравиться не может остановить измученного жаждой человека. Однако я продолжал испытывать ревность к своему брату и страшно досадовал на его пренебрежительно-покровительственное отношение ко мне. Ибо моя гордость и нездоровая впечатлительность оставались прежними и отзывались на каждую обиду так болезненно и неизбежно, как реагирует глаз на попавшую в него соринку. Будущее, даже открывшееся сознанию через столь жуткое видение, все равно представлялось мне некой отвлеченной идеей, несравнимой по силе воздействия на мой ум с владевшими мной тогда чувствами – любовью к Берте и ненавистью и ревностью к брату.
Эта история стара как мир: человек продает душу дьяволу и пишет расписку кровью только потому, что час расплаты очень далек, а потом с такой же мучительной страстью стремится жаждущей душой к светлому источнику, ибо черная тень неотступно следует за ним. Не существует на свете проторенного пути, некой кратчайшей дороги к мудрости. После многих веков цивилизации путь человеческой души пролегает через тернистые пустоши, которые, как и в глубокой древности, нужно проходить в одиночестве, сбивая в кровь ноги и с плачем взывая о помощи.
Я напряженно размышлял о том, каким образом удастся мне стать счастливым соперником брата, ибо в своей неосведомленности о подлинных чувствах Берты я по-прежнему робел и не осмеливался предпринять никаких шагов к тому, чтобы добиться ее признания в любви. Я надеялся обрести уверенность для решительных действий после того, как подтвердится достоверность моего видения Праги. И все же как боялся я получить это подтверждение! Рядом со стройной девушкой Бертой, чьи слова и взгляды я жадно ловил, в чьих прикосновениях находил высшее блаженство, мне постоянно виделась другая Берта, с более пышными формами, более тяжелым взглядом и более жестким ртом, – женщина с открытой моему взгляду пустынной эгоистичной душой; уже не пленительная тайна, но очевидный факт, помимо моей воли постоянно пребывавший в моем уме. Неужели вы, читающие эти строки, не проникнетесь состраданием ко мне? Можете ли вы представить себе эту работу раздвоенного сознания, при которой совершенно противоположные мысли текут параллельно друг другу и никогда не сливаются в единый поток? Вы, должно быть, имеете представление о характере предчувствия, порожденного интуицией в мгновения отчаянной борьбы со страстью. А все мои видения были лишь усиленными до последнего страшного предела предчувствиями. Вам наверняка знакомо бессилие рассудка перед душевным порывом. А мои видения, уходя в прошлое, превращались просто в отвлеченные понятия – в некие бледные тени, которые тщетно взывали ко мне, пока живое и любимое существо держало меня за руку.
Впоследствии я горько сожалел о том, что не предвидел другого – или большего. Ведь если бы вместо кошмарного видения, отравившего – если не уничтожившего – мою страсть, мне открылся бы тот момент будущего, когда я в последний раз глядел в лицо брата, то мое отношение к Альфреду несколько смягчилось бы: уязвленная гордость и ненависть превратились бы в жалость, способную простить многие скрытые пороки. Но это – одна из тех запоздалых мыслей, которыми привыкли обольщаться люди. Мы стараемся убедить себя, что наш эгоизм случаен и легко проходит, что только наша неосведомленность не позволяла нам в полной мере проявить великодушие, милосердие и добродетельность и скрыть таким образом холодное равнодушие к чувствам и мыслям близких людей. Наша отзывчивость и способность к самоотречению возрастают в наших собственных глазах, когда эгоистичные поступки остаются далеко в прошлом – когда после жалкой борьбы, которая должна закончиться для соперника тяжелой потерей, судьба дарует нам победу и мы внезапно содрогаемся, поскольку ее протягивает нам холодная рука смерти.
Мы прибыли в Прагу ночью, и это обстоятельство обрадовало меня, ибо возможность несколько часов находиться в городе, не видя его, была равносильна возможности отсрочить страшный решающий момент. Мы намеревались остановиться в Праге совсем ненадолго и вскоре отправиться в Дрезден и поэтому планировали на следующее утро бегло осмотреть город и особо интересные достопримечательности, прежде чем жара станет невыносимой: дело было в августе, и лето стояло сухое и жаркое.
Но случилось так, что леди задержались за утренним туалетом, и, к вежливо-сдержанному, но заметному раздражению моего отца, мы разместились в коляске, когда солнце было уже довольно высоко. По въезде в еврейский квартал, где мы собирались посетить старую синагогу, я с чувством облегчения подумал, что мы устанем и перегреемся на солнце раньше, чем закончим осмотр этой плоской, тесно застроенной части города, и вернемся домой, не успев изучить ничего, кроме уже виденных сегодня улиц. Это даст мне еще один день неопределенности – единственного состояния, в котором испуганная душа может утешиться надеждой. Но когда я стоял под почерневшими крестовыми сводами старой синагоги, слабо освещенной семью тонкими свечами священной лампады, и внимал голосу нашего проводника-еврея, читавшего на древнем языке Книгу Закона, меня вдруг привела в трепет мысль, что это странное сумрачное здание, этот чудом уцелевший обломок средневекового иудаизма по своему духу вполне отвечает моему видению. Те потемневшие и запыленные христианские святые, стоявшие под более высокими сводами и при свете более толстых свечей, должны были утешаться тем, что могут с презрительной усмешкой указать на смерть-в-жизни, еще более иссушенную и источенную временем, чем их собственная.
Как я и ожидал, после осмотра синагоги старшие выразили желание вернуться в отель. Но теперь вместо того, чтобы с радостью присоединиться к ним, я вдруг почувствовал страстное желание немедленно отправиться на мост и положить конец состоянию неопределенности, которое совсем недавно мне хотелось продлить. С необычной для меня решительностью я объявил о своем намерении выйти из коляски и пойти пешком. Спутники могут вернуться без меня. Мой отец посчитал подобный каприз очередным романтическим вздором и строго заметил, что я только перегреюсь, гуляя по такой жаре. Но, увидев мою настойчивость, он сердито сказал, что я волен идти куда глаза глядят, но только в компании Шмидта (нашего проводника). Я согласился и вместе с ним направился к мосту. Едва выйдя из-под арки огромных старинных ворот, я задрожал всем телом и похолодел под лучами палящего солнца. Но продолжал идти вперед. Я искал одну деталь – маленькую деталь видения, которую помнил особенно отчетливо, – и наконец увидел ее: радужный блеск на булыжной мостовой от разноцветного фонаря в форме звезды.
2Задолго до конца осени, когда вязы в нашем парке еще стояли под густым покровом коричневой листвы, мой брат обручился с Бертой, и стало ясно, что свадьба состоится ранней весной. С того незабываемого момента на мосту в Праге я чувствовал уверенность, что однажды Берта станет моей женой, но мучительно цепенел от прирожденной застенчивости и робости, и все заранее придуманные слова признания замирали у меня на губах. Прежнее противоречивое чувство владело мной: страстное желание получить из уст Берты подтверждение любви и страх услышать презрительные слова отказа, подобные разъедающей душу кислоте. Что значила для меня неизбежность отдаленного будущего? Я трепетал под сегодняшними взглядами возлюбленной, искал сегодняшней радости и холодел от сегодняшнего страха. Так текли дни. Я присутствовал на помолвке Берты и слушал разговоры о предстоявшей свадьбе, воспринимая все это как кошмарный сон; я знал, что он кончится, но не мог вырваться из его душного плена.
В отсутствие Берты – а она проводила со мной очень много времени, как и прежде осуществляя свою шутливую опеку, которая не вызывала никакой ревности брата, – я целыми днями гулял, катался верхом до самого захода солнца, а вечерами закрывался в своей комнате, полной непрочитанных книг. Книги перестали интересовать меня. Застенчивость моя развилась до той степени, когда наша внутренняя жизнь превращается в драму и настойчиво занимает все наше воображение и мы начинаем рыдать не столько от действительных душевных мук, сколько от одной лишь мысли о них. Мой печальный жребий вызывал у меня острое чувство жалости к себе: печальный жребий существа, от природы в высшей степени предрасположенного к страданию и лишенного тех фибров души, которые способны реагировать на радость. Для подобных людей мысль о будущем несчастье отравляет всю радость настоящего момента, и мысль о будущем счастье не в силах прогнать тоску и страх, испытываемые сейчас. В молчании проходил я через эту стадию страданий, на которой истинный поэт испытывает восхитительные муки творчества и превращает свои печали в возвышенные образы.
Окружающие совершенно оставили меня в покое, не протестуя против моего мечтательного и бесцельного существования. Я знал мнение отца о себе: этот парень никогда ни в чем не преуспеет в жизни. Пусть живет себе потихоньку на доходы с причитающегося ему капитала. Не стоит беспокоиться о его карьере.
Однажды погожим утром в начале сентября я стоял у галереи дома, лениво поглаживая Цезаря, старого полуслепого ньюфаундленда, единственную собаку, которая когда-либо питала ко мне привязанность, – ибо даже собаки избегали меня и ласкались к более счастливым людям. В это время грум подвел к дому коня, на котором брат собирался ехать на охоту, и сам Альфред появился в дверях – румяный, широкоплечий и самодовольный; упоенный собственным великодушием, не позволявшим ему относиться свысока к окружающим, несмотря на его несомненное превосходство над всеми.
– Лэтимер, дружище! – сказал он сочувственным и сердечным тоном. – Как жаль, что ты изредка не охотишься с собаками. Охота – лучшее в мире средство от плохого настроения!
«Плохое настроение, – ожесточенно подумал я, глядя вслед отъезжавшему брату. – Этими словами грубые и ограниченные люди вроде тебя определяют состояние души, о котором ты можешь знать не больше, чем твоя лошадь. Именно таким, как ты, достаются все блага этого мира: неприкрытая тупость и жизнерадостный эгоизм, благодушное тщеславие – вот подлинные ключи к счастью».
Тут у меня мелькнула мысль, что мой эгоизм даже глубже, – только это эгоизм страдальца, а не довольного собой человека. Но затем моему раздраженному сознанию вновь представилась самоуспокоенная душа Альфреда, свободная от всех сомнений и страхов, неудовлетворенных страстей и утонченных мук чувствительности, которые составляли самую суть моей жизни, – и я вновь потерял способность понимать брата. Этот человек не нуждался ни в жалости, ни в любви. Подобные тонкие чувства остались бы для него незаметными, словно нежные прикосновения легкого белого тумана для холодной скалы. Ему будущее не сулило никаких несчастий: если он и не женится на Берте, то только потому, что найдет более выгодную партию.
Особняк Филморов находился в полумиле от наших ворот, и всякий раз, когда брат уезжал в каком-нибудь другом направлении, я шел туда в надежде застать Берту дома. Позже днем я отправился туда. Вопреки обыкновению, девушка оказалась дома одна, и мы вместе направились в сад (как правило, она предпочитала прохаживаться по аккуратно посыпанным гравием аллеям). Помню, Берта казалась мне тогда прекрасной сильфидой: низкое ноябрьское солнце золотило ее белокурые волосы, и она легко и быстро шагала рядом, как всегда поддразнивая меня добродушной болтовней, которой я внимал обычно с любовью и грустью, – ведь только таким образом проявлялась таинственная сущность ее души. Возможно, в тот день чувство грусти преобладало во мне, ибо я еще не вполне пришел в себя после приступа ревности и ненависти, вызванного покровительственным обращением брата со мной. Внезапно я прервал девушку и ошеломил, спросив почти яростно:
– Берта, как вы можете любить Альфреда?
Несколько мгновений она удивленно смотрела на меня, потом вновь беззаботно улыбнулась и насмешливо ответила:
– С чего вы взяли, что я его люблю?
– Как вы можете задавать такие вопросы, Берта?
– Что? Неужели наш многомудрый полагает, что я должна любить человека, за которого собираюсь выйти замуж? Но ведь это самая ужасная вещь на свете. Я буду постоянно ссориться с ним, ревновать его. В нашем доме воцарится атмосфера грубости и неучтивости. Легкое тихое презрение весьма способствует утонченности отношений.
– Берта, вы не можете так думать на самом деле! Что за удовольствие пытаться обмануть меня, измышляя такие циничные ответы?
– Мне никогда не приходится ничего измышлять, мой маленький Тассо. (Так она в шутку называла меня.) Самый простой способ обмануть поэта – это сказать ему правду!
Она довольно смело испытывала на мне силу своих афоризмов – и на мгновение тень ужасного видения, видения Берты с открытой моему внутреннему взору душой, промелькнула между мной и светлой девушкой, шаловливой сильфидой, чьи чувства оставались для меня чарующей загадкой. Вероятно, я содрогнулся или еще как-нибудь обнаружил мгновенно охвативший меня ужас.
– Тассо! – Берта схватила меня за руку и заглянула в мои глаза. – Неужели вы действительно считаете меня такой бессердечной? Что ж, вы и вполовину не тот поэт, каким я вас представляла. Я думала, вы и в самом деле знаете правду обо мне.
Тень сомнения, промелькнувшая между нами, растаяла и больше не возвращалась. Девушка, которая держала меня за руку тонкими пальцами и обращала ко мне прелестное личико феи, похоже, наконец-то выдала то, что так долго скрывала, – что она неравнодушна ко мне. Это живое теплое создание опять завладело моими мыслями и чувствами: так ласкает слух вновь услышанное пение сирен, которое было на миг заглушено ревом грозных волн. Я забыл обо всем на свете, кроме своей страсти, и спросил, еле сдерживая подступившие к глазам слезы:
– Берта, будете ли вы любить меня, когда мы поженимся? Я не возражаю, если вы будете любить меня только очень короткое время!
С выражением крайнего изумления на лице девушка мгновенно выдернула свою руку из моей и отпрянула в сторону – и я осознал свою странную, преступную неосторожность.
– Извините меня, – поспешно проговорил я, едва обрел дар речи. – Я не знаю, что такое болтаю.
– Ах, вижу, приступ безумия у Тассо миновал, – спокойно произнесла девушка, которая опомнилась быстрей меня. – Ему надо идти домой и успокоиться как следует. И мне пора возвращаться, солнце уже садится.
Я отправился домой, кляня себя на чем свет. С моего языка сорвались слова, которые могли вызвать у Берты (если бы она задумалась над ними) сомнение в том, что я нахожусь в здравом уме, – сомнение, страшившее меня больше всего на свете. Кроме того, я стыдился собственной низости, вынудившей меня сказать эти слова невесте брата. Я медленно брел домой и вошел в парк не через главные ворота, а через калитку. Приблизившись к дому, я увидел, как из конюшни выбежал человек и сломя голову бросился через парк. Неужели что-то случилось дома? Нет, вероятно, подобная спешка вызвана каким-нибудь очередным категорическим приказом отца.
Тем не менее я безотчетно ускорил шаги и скоро оказался дома. Не буду подробно останавливаться на сцене, которую я застал там. Мой брат был мертв: он упал с лошади и скончался на месте от кровоизлияния в мозг.
Я поднялся в комнату, где лежал покойный и сидел окаменевший от горя отец. Со времени нашего возвращения домой я больше, чем когда-либо, избегал отца, ибо полная противоположность наших характеров делала мое проникновение в его внутренний мир источником постоянной печали для меня. Но сейчас, в скорбном молчании став подле него, я почувствовал, что некие новые узы соединили наши души. Мой отец был одним из самых удачливых представителей делового мира: он не знал ни сентиментальных страданий, ни болезней. Самым тяжелым горем для него была смерть первой жены. Однако вскоре он женился на моей матери и через неделю после ее смерти предстал моему наблюдательному детскому взгляду точно таким, как прежде. Но теперь глубокая скорбь объяла его душу – скорбь старости, которая тем тяжелее переживает крушение надежд, чем ограниченнее и суетнее они были. Сын его собирался скоро жениться – возможно, рассчитывал выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Существование сына самым лучшим образом оправдывало необходимость ежегодной покупки все новых земель для расширения границ поместья. Ужасно жить на свете, из года в год делая одно и то же и не понимая цели своего существования. Возможно, трагедия разочарованной юности меньше достойна сострадания, нежели трагедия разочарованной старости и погруженности в бренные земные заботы.
И, увидев всю опустошенность родительского сердца, я испытал глубокую жалость, которая стала началом моей новой любви к отцу, – и любовь эта росла и усиливалась с течением времени, несмотря на его странную неприязнь ко мне, особенно заметную в первые месяц-два со смерти брата. Когда бы мою душу не смягчило сострадание – первое в моей жизни глубокое сострадание к близкому, – я страшно мучился бы от сознания, что отец передал мне состояние Альфреда с горьким смирением человека, обреченного судьбой на необходимость заботиться обо мне как о существе важном и значительном. Против своей воли он начал рассматривать меня как объект внимания и опеки. Любой заброшенный ребенок, занявший освобожденное смертью привилегированное место, поймет меня.
Однако постепенно мои новые почтительность и послушание (следствие порожденной жалостью терпимости) завоевали любовь отца, и он начал прилагать все силы к тому, чтобы я занял место брата – в той степени, в какой это было возможно для моей более слабой натуры. С течением времени отец стал рассматривать перспективу моей женитьбы на Берте как желанную и даже обдумывал возможность совместного проживания со мной и невесткой, тогда как в отношении старшего сына у него такого намерения не было. Это теплое чувство к отцу сделало тот период моей жизни самым счастливым со времени глубокого детства – те последние месяцы, когда я сохранял еще восхитительную иллюзию своей любви к Берте и жил тоской, сомнениями и надеждой на ее взаимность. После смерти Альфреда в отношении девушки ко мне появились новые напряженность и отчужденность. Я тоже вел себя скованно – отчасти из уважения к памяти брата, отчасти оттого, что не знал, какое впечатление осталось у Берты от моих неожиданных слов. Но дополнительная незримая преграда, воздвигнутая между нами взаимной сдержанностью, служила лишь дальнейшему усилению моей зависимости от Берты: не важно, сколь пусто святилище в храме, когда столь густа завеса, скрывающая его от взора. Некая тайна и неопределенность столь необходимы нашей душе для сохранения надежд, сомнений и страстных порывов, составляющих смысл ее существования, что, даже если завтра будущее целиком откроется нашим глазам, интересы всего человечества сосредоточатся на оставшихся в его распоряжении часах неизвестности. Мы будем трепетно наслаждаться неопределенностью единственного нашего утра и единственного вечера. Мы будем отчаянно хвататься за последнюю возможность раздумий, неожиданных радостей и разочарований и страстно внимать предсказаниям политиков в течение последних двадцати четырех часов, предшествующих всеведению. Представьте состояние человеческого ума, постигшего все тайны будущего, кроме одной, которая должна раскрыться на закате летнего дня, но до той поры может существовать в виде гипотезы, предположения, предмета спора. Искусство, философия, литература и наука слетятся как пчелы на эту тайну, дабы вкусить нектара неизвестности с тем большим упоением, что их радость должна окончиться с заходом солнца. Порывы и движения нашей души приспособлены к идее будущей ненужности не больше, чем биение нашего сердца или сокращения наших мускулов.
Берта, стройная белокурая девушка, чьи мысли и эмоции оставались для меня единственной загадкой среди открытых моему внутреннему взору душ других людей, так же пленяла меня, как последний день неведения, как единственная гипотеза, которая останется неподтвержденной до захода солнца. И мои надежда и безнадежность, вера и безверие бурлили и кипели на ограниченном пространстве неизвестности.
А Берта заставила меня поверить в свою любовь ко мне. Не оставляя badinage[7]7
Насмешливого тона (фр.).
[Закрыть] и шутливо-властных манер, девушка исподволь внушила мне пьянящую мысль, что она нуждается во мне и чувствует себя свободно только рядом со мной, покорным ее игривой тирании. Женщинам требуется так мало усилий, чтобы одурачить нас подобным образом! Случайно слетевшее с уст слово, неожиданная пауза, даже вспышка легкого раздражения будут долго еще одурманивать мужчин наподобие гашиша. Из тончайшей паутинки неуловимых знаков и жестов Берта заставила меня сплести фантазию о том, что в глубине души всегда предпочитала меня Альфреду, но из-за свойственных юной девушке неопытности и чувствительности поддалась обманчивому очарованию, которое таила в себе роль избранницы человека, занимавшего столь блестящее положение в обществе, каким обладал мой брат. Она очень тонко высмеивала себя за тщеславие и суетность. Что значило мое ужасное прозрение по сравнению с тем фактом, что я заполучил почти все привилегии брата в сфере личной жизни? Наши сладчайшие иллюзии наполовину сознательны: так завораживает нас некий цветовой эффект, созданный (как нам прекрасно известно!) блестящей мишурой, битым стеклом и пестрым дрянным тряпьем.
Мы поженились через восемнадцать месяцев после смерти Альфреда, холодным и ясным апрельским утром, когда при ярком свете солнца просы́пался короткий град. И Берта в белом вышитом платье с бледно-зелеными листьями, светловолосая и бледнолицая, казалась духом утра. Отец после смерти Альфреда еще ни разу не выглядел таким счастливым: он был уверен, что женитьба завершит изменение моего характера к лучшему и сделает меня вполне практичным и трезвым человеком, способным занять достойное место в обществе здравомыслящих людей. Ибо отец восхищался деликатностью и проницательностью Берты и полагал, что она будет руководить мной и сумеет наставить на путь истинный: ведь мне был всего двадцать один год, и я страстно любил девушку. Бедный отец! Он жил этой надеждой чуть больше года после нашей свадьбы и еще не вполне отказался от нее, когда неожиданный удар спас старика от полного разочарования.
Заключительную часть истории я изложу в общих чертах, не останавливаясь на своих внутренних переживаниях. Хорошо знающие друг друга люди предпочитают разговаривать о событиях, происходящих на внешнем плане бытия, и не распространяются о сокровенных мыслях и чувствах, о которых собеседник может догадаться и сам.
Некоторое время после возвращения домой мы жили, делая бесконечные визиты, давая великолепные обеды и производя в округе сенсацию новым великолепием нашего выезда, ибо отец приберег сие свидетельство своего возросшего благосостояния до свадьбы сына; и мы давали нашим знакомым прекрасный повод вздыхать за нашими спинами о том, что я выгляжу так жалко в роли новобрачного и богатого наследника. Нервная усталость от подобного образа жизни, неискренность и пошлость окружающих, которые мне приходилось переживать дважды – внешними и внутренними чувствами, свели бы меня с ума, когда бы не некое счастливое оцепенение, рожденное восторгами первой страсти. Ни в чем не знающие отказа богатые новобрачные кружатся изо дня в день в вихре светских развлечений и, в редкие минуты уединения даря друг другу торопливые ласки, готовятся к будущему совместному существованию, как послушник готовится к поступлению в монастырь, – то есть познавая совершенно противоположную сторону жизни.
В течение всех этих шумных и беспокойных месяцев внутренний мир Берты оставался закрытым для меня, и я, как и раньше, постигал мысли своей молодой жены лишь через фразы и жесты. Я по-прежнему с интересом и волнением ожидал ее реакции на свои речи и поступки, страстно желал услышать нежное слово из уст любимой и восторженно преувеличивал значение ее улыбок. Но я осознавал постепенно возраставшую отчужденность Берты: иногда она была настолько сильной, что переходила в надменную холодность и вгоняла меня в озноб не хуже града, который просы́пался солнечным утром в день нашей свадьбы; иногда же лишь угадывалась за ловкими стараниями жены увильнуть от прогулки или обеда. Это причиняло мне сильную боль – и сердце тоскливо сжималось при мысли, что дни моего счастья близятся к концу. Но я по-прежнему оставался под властью Берты, страстно ловил последние лучи блаженства, которые скоро должны были погаснуть навеки, и надеялся узреть прощальное пламя заката, еще более прекрасное в сгущавшейся тьме.
Я помню – как мне не помнить! – время, когда с чувством зависимости и все надежды покинули меня; когда печаль, вызванная во мне неустанно возраставшим отчуждением Берты, превратилась в радость от сознания того, что я тосковал по прошлому, как человек тоскует по последнему приступу боли в ныне парализованных членах. Это произошло вскоре после окончания болезни отца, которая неизбежно отвлекла нас от светской жизни и вынудила к более тесному общению друг с другом, в день его кончины. В тот вечер густая завеса, скрывавшая от меня душу Берты и превращавшая ее в единственную среди всех знакомых людей тайну, в счастливую возможность сомнения и ожидания, наконец упала. Возможно, именно в тот день впервые за все время знакомства с Бертой моя страсть к ней была уничтожена всепоглощающим чувством совершенно иного рода. Я находился у смертного одра отца, видел последний угасающий взгляд его души, с тоской устремленный на растраченное богатство жизни, наблюдал в его глазах последнее слабое сознание любви, внушенное ему нежным пожатием моей руки. Что наши личные страсти перед лицом предсмертной агонии? В присутствии смерти все наши чувства к живым растворяются и отступают, поглощенные осознанием общей человеческой природы и общего предназначения.
В таком настроении я вошел в гостиную Берты. Жена сидела, откинувшись на подушки дивана, спиной к двери; огромные пышные кольца волос поднимались над ее тонкой шеей. Помню, закрыв за собой дверь, я вдруг задрожал, словно в ознобе, и смутное сознание собственного одиночества и несчастья внезапно пришло ко мне – смутное и сильное, как предчувствие. Я знаю, как выглядел в тот момент, ибо увидел себя в мыслях Берты, когда она подняла на меня ледяные серые глаза: перед ней был жалкий обитатель призрачного мира, видящий сны средь бела дня, дрожащий от легкого ветерка, когда даже листья на деревьях остаются совершенно неподвижными; не знающий радости простых человеческих желаний, но тоскующий по обители лунного света. Мы стояли лицом к лицу и пристально смотрели друг на друга. Миг ужасного прозрения настал для меня – и я увидел, что завеса тьмы скрывала от моих глаз не прекрасный пейзаж, а всего лишь прозаичную голую стену. С этого вечера в течение всех последующих отвратительных лет я видел до мельчайших подробностей крохотное пространство этой души – видел мелкие хитрости и простое отрицание там, где прежде с восторгом предполагал застенчивую впечатлительность и живое остроумие, противостоящее глубоко скрытым чувствам; видел, как легкое невинное тщеславие юной девушки превращается в расчетливое кокетство и эгоизм зрелой интриганки; видел, как отвращение и неприязнь сгущаются в жестокую ненависть, которая находит выход только в стремлении причинить мне боль.
Ибо Берта тоже по-своему чувствовала горечь разочарования. Она рассчитывала, что моя безумная страсть к ней превратит меня в безропотного раба, покорного всем ее желаниям. В силу ограниченности ума, свойственной поверхностным, лишенным воображения людям, она не могла понять разницы между чувствительностью и слабостью. Берта намеревалась полностью подчинить меня своей воле, но встретила решительное сопротивление. Теперь мы поменялись ролями. До свадьбы девушка безраздельно владела моим воображением, поскольку я видел в ней загадку и трепетал перед ее таинственным внутренним миром, который сам же и сотворил в своих фантазиях. Но теперь, когда душа Берты открылась моему взору и мне стали очевидны все скрытые побуждения, все мелкие соображения, предварявшие ее слова и мысли, она оказалась совершенно бессильной против меня и способной вызывать во мне лишь холодную дрожь отвращения. Бессильной – ибо в ее распоряжении больше не было никаких средств воздействия на мою душу. Я был совершенно чужд честолюбивых стремлений суетного света и жил по законам совершенно непостижимого для жены мира.
Для нее было истинным несчастьем иметь такого мужа – и так считал весь свет. Изящная и ослепительная Берта, которая лучезарно улыбалась утренним визитерам, блистала на балах и отличалась поверхностным острословием, обычно принимаемым за остроумие, безусловно, вызывала всеобщее сочувствие рядом с болезненным, рассеянным и – как многие подозревали – психически не вполне нормальным мужем. Даже слуги в нашем доме относились к ней уважительно и вместе с тем сострадательно, ибо между нами не происходило никаких явных ссор, наши отчуждение и отвращение друг к другу таились в тишине наших сердец, – и, если хозяйка часто выезжает в свет и избегает общества хозяина, разве нельзя понять ее, бедняжку? Ведь хозяин такой странный! Я был добр и справедлив по отношению к слугам, но возбуждал в них застенчивую, презрительную жалость – ведь мужчины и женщины этого круга редко руководствуются в оценке других людей общими рассуждениями или даже конкретными наблюдениями за поведением и характером. Они судят о людях как о монетах и ценят тех, кто идет в обществе по самому высокому курсу. Некоторое время спустя я уже почти не вмешивался в жизнь Берты, и может показаться удивительным, что ее ненависть ко мне продолжала расти так стремительно и неудержимо. Но жена моя стала догадываться (по неким случайным моим словам и жестам), что я обладаю сверхъестественной проницательностью и, по крайней мере временами, самым чудесным образом угадываю ее скрытые мысли и побуждения. Она начала испытывать ужас передо мной, часто выливавшийся в открытое неповиновение. Теперь Берта постоянно размышляла о том, как бы ей изгнать злого демона из своей жизни, как бы освободиться от ненавистных уз, соединявших ее с существом, которое она одновременно презирала как слабоумного и боялась как инквизитора. Долгое время она жила надеждой на то, что моя очевидная несчастливость доведет меня до самоубийства, но самоубийство было не в моей природе. Я слишком остро сознавал над собой власть неких неизвестных сил, чтобы верить в возможность освобождения по собственной воле. Моя судьба перестала интересовать меня: единственная моя пылкая страсть иссякла, и чувства более не властвовали над моим рассудком. Поэтому я никогда не обдумывал перспективу раздельного проживания с женой, которое сделало бы очевидной для света нашу отчужденность. К чему мне было искать спасения в ином образе жизни, когда я страдал всего лишь от последствий собственных сознательных действий? Так поступил бы человек, ищущий радости в жизни, а у меня не было никаких желаний. Но мы с Бертой все больше отдалялись друг от друга. Для богатых супругов не составляет труда жить в браке и одновременно порознь.









































