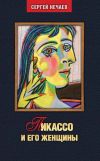Текст книги "Черный квадрат"

Автор книги: Михаил Липскеров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
К тому же пенсион мне положили вполне приличный вдобавок к казенному провианту. Да и квартиру свою, от государства даденную, я приватизировал. Хаванагила за мной приглядывал. Казалось, живи не хочу. Но душа моя была устремлена к Лолите. Я даже к девкам перестал ходить. Не мог. После того нашего последнего вечера, когда она прижалась ко мне своими невеликими грудями, глаза мои на женщин смотреть не могли.
Глава 12
Бензольное кольцо – это замкнутая цепочка (цикл) из шести атомов углерода, соединенных d-связями и единой замкнутой p-системой электронов. Обалдеть!
Глава 13
В начале XVIII века сэр Иссак Ньютон, эсквайр, записал в дневнике своего компа: F = Gm1 · m2/r2, что означает: сила F взаимного притяжения материальных точек с массами m1 и m2, находящихся на расстоянии r друг от друга, равна тому, что написано в начале иностранными буквами, где G – гравитационная составляющая. В узких ученых кругах его называют Законом всемирного тяготения. Это произошло у него по осени в саду университета города Кембридж, когда он, сидя под яблоней, писал любовный стишок обитавшей близь университета юной эсквайрше. В поисках рифмы он поднял голову, на которую ему свалилось (по многочисленным репрезентативным свидетельствам) яблоко. Тут-то он и открыл этот закон. Это событие со всей несомненностью свидетельствовало о существовании Бога. Ибо, если бы Он этот закон не создал, то Ньютону нечего было бы открывать. Ибо нельзя открыть бутылку водки, если бутылки водки нет. А водку-то уж точно создал Бог.
Если же вас не устраивает подобное доказательство существования Бога, если вы считаете его недостаточным и некорректным (хотя что может быть достаточнее и корректнее водки), предлагаю вашему вниманию следующие доказательства, основанные на строгой философско-математической основе.
Итак, мы имеем факт падения осеннего яблока на голову Исаака Ньютона. Выделяем два аспекта: падение осеннего яблока и голову Исаака Ньютона. Падение осеннего яблока – состояние имманентное, соответствующее внутренней сущности осенних яблок. Второй аспект – голова Исаака Ньютона – тоже состояние имманентное, соответствующее человеческой сущности Исаака Ньютона. Но вот ПАДЕНИЕ осеннего именно ЯБЛОКА на голову именно ИСААКА НЬЮТОНА в конкретный день, в конкретный час да еще под конкретной яблоней – явление трансцендентное, выходящее за пределы человеческого опыта, или, выражаясь языком неотомистов, сверхъестественное, потустороннее. Только Благодать Божья могла осуществить такое невероятное совпадение, что служит философским доказательством существования Бога и Божьей Благодати. Потому что иного, во всех смыслах приличного, человека рельсом по голове фигачь – никакого закона из головы не выбьешь, кроме мозгов.
Также сэр Исаак Ньютон, эсквайр, открыл еще много чего: зеркальный телескоп, дифференциальное и интегральное исчисления, классическую механику. И действие равно противодействию. Насчет исчислений ничего не могу сказать, а последний закон Ньютон просто свистнул у одного малого, переведя на английский с арамейского слова: «И прости нам долги наши, как прощаем должникам нашим». Но я ему это прощаю.
И, господа, давайте выпьем за этот сформулированный сэром Исааком Ньютоном, эсквайром, закон, звучащий в переводе с английского и арамейского: «Ты – мне, я – тебе». Выпьем за то, чтобы мы всегда ели осенние яблоки и нам на голову не падали рельсы, чтобы этот факт не рождал в нас несбыточных надежд на всемирную славу. Вперед!
Глава 14
И тут через какие-то годы в сумеречный час, когда мы с Хаванагилой пили чай с ромашкой, в квартиру нашу постучал человечек – хлипкий, морщинистый до неразличения возраста и худой до почти полного несуществования. Как сказал, по реабилитации его выпустили. И записку передал от девицы под номером Ю-2387, коя лежала в больничке, где он отбывал свой четвертак лепилой. Имени ее он не запомнил. Как-то ее по-киношному звали. И пропел: «Фадо-фатиньо, любимый танец мой, фадо-фатиньо танцуем под луной, под португальским под волшебным небом нашим, фадо-фатиньо, свой любимый танец, пляшем...» А в записке написано: «Прощай, моя любовь, прощай».
– Хрусталев!.. – крикнул я. – Машину!.. Гони!..
Гуд бай, май лав, гуд бай... Ах ты, Боже ж мой... Гуд бай, май лав, гуд бай... Господи Иисусе Христе, помилуй мя... Гуд бай, май лав, гуд бай... Помоги мне, Господи Иисусе Христе! Помоги, Пречистая Дева Мария! И все святые угодники, помогите... По-мо-ги-те!..
«Вот мчится тройка удалая». Машина то есть типа «Жигули», а какая у нее модель, я не знаю, не разбираюсь в этом деле. Водила знает, ему это положено, а мне-то на фиг. Лишь бы везла. Да побыстрее. Впереди нас какой-то «КамАЗ» телепается и никак обогнать себя не дает.
– Ща мы его на взгорбке возьмем, – возбуждаясь, бормотнул водила.
Он пригнулся к рулю, вонзился глазом в дорогу слева от «КамАЗа» и в приближающийся взгорбок. Нажал на газ, рванул... Взвилась машина типа «Жигули», а какая у нее модель, я не знаю, не разбираюсь в этом деле. Водила знает... А, нет... водила уже ничего не знает. Он здесь остался вместе с машиной типа «Жигули», по эту сторону взгорбка, а я...
Лолиту я ищу... Лолиту... Тут она где-то... В одном из дальних лагерей... От всех товарищей-друзей... Я не прошу посылки пожирней, пришли хотя бы черных сухарей... Вдоль знаменитой Колымской трассы, в поисках золотишка вспоровшей тайгу более чем на тысячу километров. И лагерей тут предостаточно. При желании или по необходимости здесь относительно жилой площади на полстраны хватит. А если еще нары в три этажа, то уж совсем хорошо...
И вот мы с Хаванагилой едем по этой трассе на одолженном нам директором местной филармонии (я когда-то этому директору порядочно башлей отстегнул за левые концерты) автобусе «Кубань». Хаванагила с трудом управляет автобусом, потому что только смертельно ненавидящий искусство человек мог распорядиться местным филармониям закупать для перевозки артистов автобус «Кубань». В нем невозможно ездить людям, страдающим морской болезнью. Этот автобус штормит даже в состоянии недвижимости в наглухо запертом гараже. У него четыре колеса! В этом, собственно говоря, нет какого-то откровения. Я знавал много автобусов, у которых было по четыре колеса. Но у автобуса по фамилии «Кубань» каждое колесо жило своей самостоятельной жизнью. Управленческая роль руля крайне сомнительна. Мне кажется, что именно к этим колесам были обращены слова «Берите суверенитета сколько сможете».
Летом этот автобус аккумулирует в себе внешнее тепло и в жарких странах России существенно снижает среднегодовую температуру за бортом, а зимой, наоборот, отапливает окружающую действительность до такой степени, что артисты, чтобы согреться, выходят из автобуса. В этом гадском автобусе зимой такой лютый мороз, что у артистов мужского рода все отмерзает, держаться не за что и писать можно только сидя.
В двадцати пяти километрах от начала трассы расположился поселок Малый. Золотишко в нем кончилось в самом начале колымской безысходности, и зачем он существует до сих пор, понять трудно. Во всяком случае, я не понял. Да и никто из местных аборигенов мне объяснить не смог. Возможно, здесь останавливался на отдых этап, чтобы похоронить всех, не одолевших начало пути. На это указывали столбики с приколоченным кусками жести. Тут же находился и отель на два номера. Один – для мужчин, а второй – женский. По восемь коек в каждом. И магазин, в котором продавались продовольственные товары в виде спирта, шампанского, шоколадных конфет «Мишка на Севере» и табачное изделие «Север». Все, что нужно человеку для поддержания жизни. Всем этим делом командовал сильно пожилой еврей, доказывающий способность этого племени выживать в условиях, предельно отдаленных от места его происхождения. Позже мне приходилось бывать в Палестине, так что я знаю. На нем были ватные штаны, заправленные в унты, и ватник, в раскрытом вороте которого виднелась синяя в белый горошек бабочка. Что-то она мне смутно напоминала.
– Возняк! – представился он.
И фамилия мне была знакома. Я взрыл память и в глубине ее нашел фотографию. За столиком ресторана ВТО – король конферанса Михаил Наумович Гаркави; престарелый разговорник Александр Абрамович Менделевич, который в раньшие времена вел концерты Шаляпина; мой молодой отец, только что вернувшийся с войны худрук и конферансье фронтового театра «Огонек»; какие-то дамы неизвестного назначения и этот еврей в синей бабочке в белый горошек, только значительно моложе. Судя по фотографии, они пили водку.
И фамилия этого еврея была Возняк. И звали его Абрам Яковлевич. И был он королем администраторов. И возил он артистов эстрады. По всей России до революции. И по Советской России после революции. В Гражданскую войну. По Советскому Союзу в мирное время. По фронтам в Великую Отечественную войну. И опять в мирное время. И при этом абсолютно безграмотный человек. В политическом смысле этого слова. Возняк был уверен, что недавно закончившаяся война велась красными и белыми, и жутко негодовал, как могли белые, среди которых было много порядочных людей, которых он знал лично, сжечь всю его семью, мирно проживавшую в окрестностях города Житомира полторы сотни лет.
В 49-м его взяли. Страшно взволнованный Михаил Наумович Гаркави примчался на такси в ресторан ВТО. Почему я упоминаю такси? Потому что кроме таланта Михаил Наумович славился своим весом. В нем было сто тридцать два килограмма живого веса, и самостоятельно передвигаться пешком он мог только по сцене. В ресторане мой отец читал Александру Абрамовичу Менделевичу идеологически выверенные репризы.
– Ребята, – сказал Гаркави, выпив водки, – повязали Возняка.
– За что повязали? – спросили конфиденты.
– За компрометацию вождя, – ответил Гаркави и облился потом. Может быть, он облился потом просто так, по привычке, не знаю, но мой отец настаивал на этой формулировке. Потому что он тоже облился потом и, может быть, именно поэтому зафиксировал, что Гаркави облился потом. Не взмок, не вспотел, не покрылся бисеринками, а именно облился потом.
Только Менделевич не принял участия в общем обливании потом. Он подумал, выпил рюмку, закусил селедкой по-бородински и спросил:
– Ребята, я что-то не понимаю. Что это за вождь, которого может скомпрометировать Абрашка Возняк?
...И вот Возняк встретил меня в отеле поселка Малый.
– Здравствуйте, Абрам Яковлевич, – чуть не плача, обратился я к нему. Ведь он единственный, кто остался живой из сидящих за столом ресторана ВТО в 48-м году. Сорок лет нет Михаила Наумовича Гаркави, шестьдесят – Александра Абрамовича Менделевича. Тридцать с лишком – моего отца, и уж точно давным-давно раскиданы по московским кладбищам дамы неизвестного назначения. И вот только Возняк, Абрам Яковлевич, Абрашка... А ведь он родился еще в девятнадцатом веке... Ну да ничего, все нормально...
– Молодой человек меня знает?.. Я его знаю, а?..
– Я Липскеров...
– Фьедька?! Как ты постарел, мальчик!
– Нет, Абрам Яковлевич, я Липскеров-младший. Федькин сын.
– Вейзмир! Сколько же тебе лет, мальчик, и как тебя зовут, мальчик?
– Михаил Федорович, а лет мне шестьдесят пять.
– Михаил Фьедорович, кхе... Фьедькиному сыну не может быть шестьдесят пьять лет. Потому что Фьедьке было тридцать три, когда он вернулся с войны с Врангелем. И... и... и... тридцать восемь, когда меня взяли за компрометацию вождя. То, что меня взяли, я понять могу. Но зачем крутить людям бейцы? Скажите прямо: «Абрам, ты педераст, твое место у параши» – и я пойму! Но при чем здесь компрометация вождя? Зачем мешать жопу с политикой? Я вас спрашиваю?
– Я не знаю, Абрам Яковлевич... А вы здесь с 49-го?..
– Конечно...
– Так ведь во времена Хрущева всех выпустили... Кого по ложному обвинению. Политическому.
– И меня выпустили. По политическому. И оставили по уголовному. По моей законной статье. И я ничего не имею против. Если вы не любите педерастов и пишете законы об этом, то не еврейское дело с этим спорить.
– Так, Абрам Яковлевич, этого закона давно нет! Вы бы давно могли уехать на материк!
– Куда, Миша? На какой материк? Кто мене там ждет? Семья? Дети? Так у мене их там нет. А раз тебе, Миша, уже шестьдесят пять, то и других знакомых моих тоже давно нет. А здесь у меня... Здесь у меня... сын... похоронен.
– Сын?! Вы же...
– Ой, это такая история, такая история, Миша... В 55-м возвращаемся мы в зону... Кто живой, конечно, вы меня понимаете. Ночь дождлива и туманна, и темно кругом. Куда прожектора не достают. И мальчик маленький стоит. Он стоит, Миша, к стене барака прижатый и на вид чуть-чуть горбатый. Вылитый Сенечка, брат мой маленький. Его немецкие врангелевцы под Одессой расстреляли. Вместе со всеми моими. Мне об этом один гой, но очень похожий на идн, рассказал. Его тоже немножко расстреляли, но не до конца. Какой-то петлюровец его спас и схоронил у себя, пока красные не подошли. И этого гоя, похожего на идн, взяли сразу после войны за связь с петлюровцами. Какая связь, скажите мне, Миша, какая связь? Скажите мне, Миша, кому было бы лучше, если бы этого гоя, похожего на идн, расстреляли до конца? Я этого немножко не понимаю. Ой, простите, я отвлекся. Так вот, этот мальчик стоит и поет:
Купите койфчен, койфчен папиросен,
Трикинэ ин трэволас барбосэн,
Койфчен, койфчен, вэна мунэс
Готах мир ай шенрахмурэс,
Ратовите ё сын фине той.
Мой отец в боях сражался,
На войне он пал,
Мамку под Одессой
Немец расстрелял.
А сестра моя в неволе,
Сам я ранен в чистом поле.
Оттого я зренье потерял.
Возняк вытер слезу, выпил водки, откуда-то принесенной Хаванагилой, откусил кусок буженины, которую Хаванагила, как он сказал, купил в «Азбуке вкуса», и продолжил:
– И откуда в немцах такая жестокость. Стрелять в живых детей. Культурный народ... Я их знал... Братья Вальтер... Партерные акробаты... Культурные люди... Разговаривали исключительно по-немецки... Доннер веттер, швайне хунд и так далее...
– Нет, Абрам Яковлевич, вы запамятовали. Братья Вальтер не были немцами. Они были украинцами.
– Это вы мне говорите? Который знал всех эстрадников как свои четыре пальца?
– Пальцев пять, Абрам Яковлевич, – мягко поправил я несколько выжившего из ума старика, памятуя к тому же о его легендарной безграмотности.
– Это вы мне говорите? – И он показал четыре пальца на правой руке. На левой руке пальцев было два. – А на ногах пальцев вообще нет. Отморожены. Зимой пятидесятого. Когда саночки тащил по зиме. Вместе с Жоркой-Артистом. Кстати, как он там?
Я коротко рассказал старику, что Жорка-Артист помер во всеобщей любви народа и властей. Как и Кешка-Гамлет, Лидка-Валенки. А вот Зойку-Киношницу кто-то зарезал.
Старик попытался было опять заплакать, но слез у него, очевидно, уже не осталось, поэтому он как-то скривился, что-то невнятно промычал и высморкался в каким-то образом случившийся в руках красный флаг. Мы сидели и молчали. Он сморкался, а я тихо плакал. Хаванагила стоял рядом со мной полусогнувшись и периодически вытирал мне слезы и сопли лозунгом «Труд делает человека свободным».
– Перестаньте плакать, Миша, – сказал Возняк, – не надо плакать между людей.
Я перестал плакать и сделал брови домиком.
– Понимаете, Миша, когда вы плачете между людей, среди них может найтись один или даже два человека, которым было даже очень хорошо, а от ваших слез станет плохо. Вам это надо?
Мне этого было решительно не надо, поэтому я прекратил слезотечение и соплепускание. А Хаванагила яростно растоптал лозунг «Труд делает человека свободным». Интересно, откуда он его вообще приволок. Не из «Азбуки вкуса» же? Последний раз я видел этот лозунг над воротами Освенцима. Но там он был на немецком. Странно...
– Так что, Миша, вы там сказали насчет братьев Вальтер?
– Значит, так, когда вас взяли, началась борьба с космополитизмом. В цирке на Цветном собрали всех циркачей и эстрадников с иностранными сценическими псевдонимами и стали выяснять их истинные фамилии. Малый во френче из Министерства культуры выкликал по очереди:
«Вольтижеры Викланд! Как настоящие фамилии?»
«Иванов и Герасимов».
«Будете Ивановым и Герасимовым. Наездница Мэри! Как настоящее имя?»
«Мария».
«Будешь Марией».
И так далее. Пока очередь не дошла до братьев Вальтер.
«Акробаты братья Вальтер! Как настоящая фамилия?»
Те молчат.
«Я вас спрашиваю, братья Вальтер! Как настоящая фамилия?»
«Доннер веттер!» – сказал старший Вальтер.
«Швайне хунд!» – поддержал его младший.
«Таких фамилиев быть не может! – заорал малый во френче из Министерства культуры. – Настоящие фамилии я вас спрашиваю! Или вас спросят там где надо!»
Братья несколько помешкали, а потом... Кому охота отвечать на неизвестные вопросы там где надо? Вам это надо? Вот и им этого было не надо. Поэтому старший, пока еще Вальтер, обнял младшего за плечи и прошептал:
«Перехрист и Панцушник».
«Как?»
«Перехрист и Панцушник».
Малый во френче из Министерства культуры сильно призадумался, а потом вынес вердикт:
«Будете братья Вальтер».
– Так что, Абрам Яковлевич, они были украинцами. А не знали вы об этом потому, что они работали не на Мосэстраде, а в группе «Цирк на сцене».
Возняк тепло пожал мне руку:
– Как я вам благодарен, Миша. Всегда приятно узнать что-нибудь новенькое. Мне сразу же захотелось жить. Так о чем мы говорили?
– О вашем сыне.
– О! Именно об этом мы и говорили. Так вот, этого мальчика, так похожего на моего брата Сенечку, мы усыновили.
Я ох... То есть обалдел:
– Кто «мы»?
– Мы с женой.
– С какой женой?! Вы же... как это... нетрадиционной сексуальной ориентации!
– Это в вашей среде мы нетрадиционной. А в нашей среде это вы делаете что-то неправильно. Так что жена у меня была. Микола Тарасюк, такелажник, бандеровец. И мы с моей женой Колей этого мальца усыновили по всей строгости закона. Сенечкой назвали. И сделали об этом запись в акте гражданского состояния.
Возняк извлек из памяти лист бумаги с текстом следующего содержания: «Настоящим утверждаем, что в семье Абрама Яковлевича Возняка ст. 58–10 и Миколы Трифоновны Тарасюк ст. 154а родился мальчик тринадцати лет Сенечка Абрамович Возняк, о чем в книге записей актов гражданского состояния сделана соответствующая запись». И под этим бредом стояла настоящая гербовая печать и подпись: Нач. лагпункта 2876 капитан МВД Дмитриев.
– Человеком был. Два года мы жили семьей. Чтобы вы так жили. Пока Сенечку не завалило в шурфе. Мы с Миколой пытались его откопать, но конвой погнал нас на соседний участок, чтобы наверстать план. Служба у них такая. Мы били руду, а из-под завала глухо звучало:
Койфчен койфчен, койфчен папиросен,
Трикинэ ин трэволас барбосэн,
Койфчен, койфчен, вэна мунэс
Готах мир ай шенрахмурэс,
Ратовите ё сын фине той.
Друзья, друзья, смотрите – я не вижу,
Милостыней вас я не обижу.
Подходите, не робейте,
Сироту, меня согрейте,
Посмотрите – ноги мои босы.
А потом голос стих. Вот ведь как устроено. Сначала Сенечка потерял своих папу и маму, а потом его папа и мама потеряли его. Это, как философски скажет ваша покойная бабушка Фанни Михайловна, как дважды два – четыре, два плюс два – тоже четыре, но ведь совсем другое дело. А когда людей понемножку стали выпускать, а золотишко стало понемножку кончаться, то кормить зеков да еще тратиться на гробы, как стало положено по закону, оказалось нерентабельно, и все лагеря позакрывали. А я остался с Сенечкой и Миколой... А потом и Микола умер.
Возняк, Хаванагила и я стояли на склоне сопки, поросшей редким стлаником и сухой травой. Выл ветер, и в пандан вою скрипели на кривых столбиках небольшие жестяные таблички с номерами. Только на одном столбике табличка была побольше и виднелась подновляемая надпись: «Сенечке и Миколе от папы и мужа». А когда я захотел узнать у Возняка, слышал ли он что-нибудь о зэчке Лолите, его рядом не оказалось. Я обернулся к отелю. Отеля тоже не было. По-прежнему выл ветер, по-прежнему в пандан скрипели жестяные таблички, и в эту жуткую гармонию вплетался раненый женский голос:
– Найди меня, милый, найди меня, любимый. Душа моя, тело мое тоскуют по рукам, по губам твоим. По словам твоим ласковым, по взглядам твоим зовущим... Разлучила нас Россия, распихала по тюрьмам, по зонам. Одних загнала во внутреннюю, других оставила в наружной. И всюду колючка, перепоясавшая Россию с запада на восток, с севера на юг. Снаружи нас колючка, внутри нас колючка. В каждом человеке колючка. И кровоточит сердце человеческое. Само себя терзает, рвет на дымящиеся парные куски мяса. Куски любви, куски не очень чистой совести, куски какой-то смутной правды, куски долга неизвестно кому, ошметки справедливости, тромбы злобы, ненависти и предательства. И как жить с этим, милый? А вот живем же как-то, милый. Сотни лет живем. Радуемся и мучаемся. Смеемся и плачем. Любим и ненавидим. Бьем и ласкаем. Лжем и говорим правду. И все это вместе. И сразу. Такова, говорят, русская душа. Выражаясь вашим языком, ментальность. И менять ее не хотим. Иначе чем свое паскудство оправдаем? Вот из-за этой-то поганой ментальности ты и не можешь меня найти. Но ты ищи, милый. А когда найдешь, мы с тобой вместе, вдвоем, ты и я, разорвем русскую колючку постоянного непостоянства. И тогда мы разделим
Время радости и время мучений,
Время смеха и время плача,
Время любви и время ненависти,
Время битья и время ласки,
Время лжи и время правды.
И как когда-то Господь отделил свет от тьмы, мы отделим добро от зла. Чтобы зло не могло скрываться под маской добра. Предательство – под маской долга. Корысть – под маской патриотизма. Блуд – под маской любвеобилия. Ложь – под маской фигуры умолчания. И мы будем счастливы, милый, ты и я. Он и она. Мы и они. Ты только найди меня, милый. Найди... найди... найди...
И голос стих. То ли сам по себе, то ли затерялся в вое ветра и заупокойном скрипе жестяных табличках. Я оглянулся. Никого. Кроме Хаванагилы, который стоял немного сзади меня и смотрел куда-то в сторону.
– Ты слышал? – спросил я его.
– Что «слышал», Михаил Федорович?
– Голос женский слышал?
– Нет, Михаил Федорович, ничего я не слышал, ничего. Ехать нам надобно.
Мы сели в самостоятельный автобус «Кубань» и поехали. В пути я как-то задремал. А когда проснулся, то обнаружил себя на дороге, ведущей куда-то. Ну да пойдем... Куда-нибудь кривая выведет. Какая кривая?.. А такая, какая всегда выводит русского человека. С Божьей помощью.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?