Текст книги "Все рассказы"
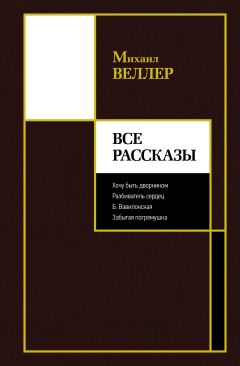
Автор книги: Михаил Веллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Каюров копил деньги на машину. Занятие это требует определенной выдержки и силы характера. У Каюрова была выдержка и сила характера. Три года назад он составил график, и теперь через год наступал срок покупки «Лады». Цвет Каюрову наилучшим представлялся сиреневый с перламутровым отливом. Перламутровые оттенки предпочтительны в моде автомобильного мира. Некоторые связи Каюров уже наладил.
Автомобилист, известно, не должен иметь пристрастия к спиртному. Человек, положивший себе приобрести машину, тем более не должен пить; а посему некоторые на работе недолюбливали Каюрова как парня прижимистого и себе на уме. Его это, конечно, не трогало, но досадно делалось иногда: что он, обязан с ними водку распивать за проходной, лучше он от этого станет, что ли?
А начальство к нему хорошо относилось. Работу он получал обычно выгодную, но и сложную, требующую внимания, он аккуратен был, не порол брак, инструмент в порядке, не одалживался и давать избегал: кому надо – у того свое есть.
Единственное что – конечно, скучновато бывало в свободное время, по выходным особенно. Жениться Каюров попозже решил, годам к тридцати, тридцати двум даже: во‐первых, прежде чем создать семью, необходимо обеспечить верную материальную базу, во‐вторых – куда торопиться обузу на себя взваливать? Вообще-то он не слишком умел ладить с женщинами.
Сегодня он проснулся в девять часов – самое подходящее время для воскресенья. Солнце грело в открытый балкон, листвой пахло. Каюров полежал немного, почитал «Советский спорт», послушал передачу «С добрым утром». Потом сходил в туалет, почистил зубы, принял душ, побрился электробритвой «Бердск‐3 м» и немного задумался, колеблясь в решении. С одной стороны, хотелось попить пивка. С другой, утром следовало бы выпить чашечку кофе. Тем более при наличии кофе и кофеварки, – а у ларька можно встретить различные предложения с продолжениями, к которым он относился неодобрительно.
Поэтому, сложив постель в ящик дивана, он надел «олимпийский» спортивный костюм и занялся в кухне. Растворил окно, повязался передником от брызг и, пока издавала шепчущие звуки кофеварка, распустил на сковороде бельгийского топленого масла и изготовил яичницу из четырех яиц.
После завтрака переоделся: кримпленовый песочный костюм, розовая сорочка с планкой и черные лакированные туфли. Воскресный день был хорош, и Каюров отпустил на его проведение три рубля (вернее, четыре – восемьдесят шесть копеек в кошельке оставались).
При такой погоде разумнее представлялось провести время на свежем воздухе. И он с удовольствием прогулялся пару остановок пешком, посмотрел газеты на щите, выкурив сигарету. Универмаг работал – конец месяца, он прикинул чехлы для сидений в автоотделе; барахло чехлы, надо заказывать в ателье. Сел на двойку троллейбус и поехал в ЦПКиО.
У входа купил мороженое. В аллеях происходило фланирование, он последовал. Оценивал девушек в летних полуусловных платьях, прикидывая про себя, которая могла бы стать его женой, и вообще.
Над деревьями издалека тонкий силуэт колеса обозрения не ощущался подвижным. Вблизи гигантский велосипедный обод являлся сваренным из труб, голубая краска шелушилась пластами; люльки с поскрипыванием уплывали ввысь. У турникета ждала очередь, задрав головы. Каюров купил в будочке за двадцать копеек билет у старушки в очках с треснутым стеклом, стал в конец.
Сверху все было видно здорово. Парк напоминал свое изображение на плане. Зеленый массив четко делился аллеями, озерцо блестело, лодки ползли по нему, у павильона на желтом фоне песка и сером – асфальта пестрели толпы, а потом (движение вниз) поле обзора съежилось, представляясь меньше первоначального, – Каюров даже подосадовал, что слишком быстро, – но день был еще в начале.
Несколько минут он поглазел на качели. На качелях катались в основном дети. Особенно двое пацанов старались в раже, взлетали выше полуокружности; Каюров подумал, что так они и мертвую петлю открутят, но, отметил: качели с ограничителем. На качели он, конечно, не пошел – не мальчик.
Температура воздуха заметно поднялась. Неплохо бы, рассудил, погрести на лодке. Самое подходящее занятие – мышцы размять, и вообще сравнительно солидное занятие.
Пруд угадывался задолго по особому запаху водоема в жаркий день. Берега бархатились ряской. На дощатом причале распоряжался малый в джинсах и без рубашки. Свободные лодки имелись. Час – рубль. Но требовалось оставлять в залог паспорт, а паспорт Каюров с собой не захватил. Не набиваться же в чужую компанию… Покурил, взирая на более предусмотрительных гребцов. Высказал малому, что паспорт по положению о паспортном режиме сдавать и брать в залог запрещается.
На американских горах в протяжном лязге размазанные скоростью тележки проносились по рельсовым виражам; сдавленные взвизги девчонок; очередь следила и тыкала пальцами. Каюров продвигался со всеми, не торопясь, некуда было торопиться, однако слегка раздражаясь, что и при воскресном отдыхе приходится выстаивать очереди.
Многочисленные марши крутой лестницы вывели на верхнюю площадку. Двое пареньков принимали подающиеся снизу транспортером тележки, рассаживали в них очередных и подталкивали к спуску. Тут же под тентом несколько девчонок, – их знакомые, понятно, – раскинувшись в шезлонгах, пили пиво из бутылок.
Каюрова усадили с какой-то девицей, впереди. Тележка оказалась мелковата и вполне давала ощущение ненадежности. Сверху сделалась очевидной крутизна спуска. Их подпихнули, и они сорвались в почти свободное падение вдоль рельсов, с разгона наверх, на вершине зависли в воздухе, и хотя Каюров понимал, что вылететь нельзя, в этот-то момент как раз вылететь оказалось – раз плюнуть. Но ухнули на рельсы и устремились к черной дыре тоннеля, высота его меньше высоты тележки. Девица пискнула и прижалась к его спине. А у него нервы были хорошие.
После этих гор он посидел и покурил немного.
Потоптался за ограждением вокруг парашютной вышки. Закрепленный парашют скользил вдоль вертикального троса, дядька страховал, ловил приземляющихся, – неинтересно. Ноги у «парашютистов» болтались и подламывались, площадка выбита в пыль… Какие-то семнадцатилетние ухари – из завсегдатаев, не иначе, – прыгали спиной вперед с перил, крутя сальто между лямок, но выглядело это скорее хулиганисто, чем лихо, – все повадки у них были такие, приблатненные.
Рядом в круглой вольере за железной сеткой авиамоделисты гоняли кордовые модели. Яркие самолетики проворно кружили на привязи, жужжа звонким металлом. Их привязанность вызывала некий протест, – хотелось свободного полета для них, высоты, пусть и закувыркаются оттуда.
Время текло в общем приятно. Каюров еще побродил по аллеям, посидел на скамейке, навешивая взгляды на проходящих девчонок, но тут рядом расположились мамаша со старушкой и младенцем в коляске, а его принялись стыдить, что курит рядом с ребенком; он выдвинул резонные возражения, что сел первый, да и здесь не детская площадка, они стронулись, поняли, что на него где сядешь, там и слезешь, но все равно настроение стало уже не то, он тоже поднялся.
Завернул к закусочной – пообедать не мешало бы. Очередь занимали, наверно, уже на ужин. Тухлый номер. Но ему повезло: рядом начали давать пиво и бутерброды. Он взял две бутылки «Адмиралтейского» и четыре бутерброда с колбасой, скушал, под вторую бутылку закурил, и настроение привелось к норме. Нет, полноценный отдых получался.
Перекусив, Каюров решил посетить комнату смеха. В комнате смеха он заскучал. Ну, кривые зеркала. Толстый – тонкий, вот веселье… Подойди и смотрись на улице в хромированный колпак автомобильного колеса – тот же эффект.
Часы показывали без двадцати четыре. Еще немного стоит поболтаться. На шесть он сходит в кино – у них рядом идет, «Свет в конце тоннеля», остросюжетный детектив, специально его на воскресенье оставил. Потом – посмотреть дома телевизор, баскет из Югославии. Нет, хороший день; можно завтра и свежим на работу, и глаза с похмелья не будут поперек, вроде некоторых.
Денег оставалось рубль шестьдесят три копейки. Полтинник на кино, гривенник на транспорт, рубль свободный. Прикинув, Каюров назначил его на игральные автоматы.
Двадцать копеек содрали за вход. Итого он располагал пятью монетами по пятнадцать.
В павильоне стереофоническим эхом отзывались электронные выстрелы и взрывы. Каюров понаблюдал из-за спин, немного стесняясь, в окошечки, где прыгали в джунглях звери, поворачивались мишени, набирали скорость и сталкивались гоночные автомобили на внезапных стремительных поворотах. Его привлекли два автомата: «Подводная лодка» и «Воздушный бой».
Сперва взялся за лодку. Перископ с двумя ручками, визир прицела, запас десять торпед. Силуэты кораблей движутся слева направо и обратно, уходя за скалы. Первые две торпеды ушли по серой воде пульсирующими пятнышками мимо. Третьей он попал: засветилось мрачное зарево, пророкотал взрыв. Приспособился, и сзади подсказывали: навести прицел заранее в угол и поджидать корабль, ловя момент совмещения. Из оставшихся семи торпед Каюров еще пять раз попал. Довольно просто. Забавно: детская, в сущности, игрушка, – а вот поди ты, дает удовлетворение.
Ознакомился с воздушным боем. Там, пронизывая с неизмеримой скоростью стратосферу, пуская отстающий ракетный гул, уходила тройка истребителей-бомбардировщиков, качаясь звеном с крыла на крыло в прямоугольном обзоре.
Каюров опустил в прорезь монету. Экран включился. Пространство понеслось назад. Самолеты уходили, сохраняя дистанцию. Он взялся за ручку управления, ловя ведущего в прицел. Панорама начала смещаться, ведущий в движении подставился в перекрестие прицела, Каюров нажал средним пальцем гашетку, трасса прочертила левее, он опоздал, не учел упреждение, прицел уже неверен. Осторожненько подобрал ручку на себя и вправо… силуэты чуть поплыли наискось в обзоре… ведущий захватился в прицел, он снова нажал, уже чуть раньше, насадил его на огненную спицу, прямо в сопло, самолет размазался горящим стремительным клубком, разбрасывая порхающие обломки, вспухшее свечение заслонило видимость, промелькнуло внизу, когда Каюров принял ручку, линия горизонта впереди опустилась, он взял слишком высоко, двух других самолетов не было видно, он завертел головой, пытаясь обнаружить их в пространстве, заработал ручкой, ни черта, и тут что-то молниеносным пунктиром чиркнуло левее и выше, секундой позже следующая трасса прошла впритирку под правой плоскостью, он инстинктивно взял ручку на себя, и третья очередь прошла под самым брюхом, оглянулся, два перехватчика держались сзади на дистанции стрельбы, зайдя в хвост, слизнул пот с верхней губы, его машина шла в контуре их трасс, скорость вся, он резко сбросил газ и крутнул бочку с потерей высоты, они проскочили над ним, он вогнал машину в крутое пике, сменив спиралью направление, но они снова очутились сзади, доставая огнем, раскаленный металл изодрал и разнес его фюзеляж, баки взорвались, он распылился светящейся полосой в черной безвоздушной высоте, и все кончилось, пока трасса не прошла рядом, двигатель ревел на форсаже, ручка теряла податливость, пот слепил, не оторваться, они кончали его, он попытался боевым разворотом выйти в лоб и разойтись на встречных, пульс дробил виски, они подсекли его на вертикалях, очередь обрубила правую плоскость, горизонт закувыркался хаотично быстрее отовсюду, земля ударила сверху и его принял конец света, но звезды светились ярко и поплыли вбок разом, когда он пытался подвернуть от сближавшихся трасс, он хотел катапультировать в отчаянии, но катапульта не срабатывала, скафандр душил его, они вцепились ему в хвост мертвой хваткой, он заштопорил, притворяясь сбитым, но они расстреляли его, заходя по очереди, как на полигоне, фонарь разлетелся, осколки рассекли скафандр, сосуды его лопнули, как у глубоководной рыбы, земля поднялась снизу и подхватила его мягким всепрощающим поцелуем.
И все погасло. Зажглось табло: «Игра окончена».
Каюров с трудом стоял, ухватившись за ручку. Он разжал слипшиеся пальцы и отступил, храня равновесие. Повернулся и стал не сразу делать шаги. Когда попал в выход, увидел снаружи скамейку и сел на нее.
Сидел и курил. Ветерок тянул, освежал.
Из павильона появилась девушка, оглядевшись живо, с кошельком в руке.
– Простите, у вас не нашлось бы пятнадцатикопеечных монет? – обратилась и пояснила: – А то кассирша вышла куда-то…
Она, моргнув, ждала, второпях обозначая вежливую полуулыбку.
– Поди ты знаешь куда… – сказал Каюров.
Не в ту дверь– Папочка, ну можно, я досмотрю кино, ну мо-ожно…
– Ты видела его уже.
– Ну и что, а все равно интересно.
– И вообще кино это для взрослых.
– Но я же все равно его видела.
– Софочка, загони ты ее, наконец, спать! Половина одиннадцатого. Завтра опять трояк схватит.
– А что я могу с ней сделать? Попробуй сам загони.
– Чего я схвачу, ничего я не схвачу, я все давным-давно выучила.
– И историю?
– Д-да…
– А ну вас всех, ей-богу. – Сухоруков поднялся с дивана и прошлепал на кухню. Плотно притворил дверь, закурил. Вытер со стола, постелил газетку и уселся дочитывать зыкинскую диссертацию. Зыкин длинно и нудно писал об элементах фольклора в поэзии Некрасова. Сухоруков, признаться, Некрасова не очень любил, а Зыкина – так просто не переваривал. Но отзыв следовало дать положительный; что, впрочем, упрощало дело.
Теща взвизгнула в ванной. Опять краны перепутала.
– Софочка! – сатанея, рявкнул Сухоруков.
Жена заколотилась в дверь:
– Что случилось, мама? Ты не упала? Что ты молчишь? Что с тобой?
– А? Что? Что случилось – заволновалась теща. – Не слышу, у меня вода льется! Сейчас открою!
Сухоруков вздохнул, поправил очки и уткнулся в рукопись, делая осторожные карандашные пометки. Один черт, на защите все пройдет благопристойно.
Через полчаса он почувствовал щекочущее, неудержимое, сладкое желание утопить Зыкина в ванне. С наслаждением рисовал себе подробности убийства; в детективах Богомила Райнова это хорошо описывается.
– Чай будешь пить? – спросила жена.
– Пили ведь. Хотя… – он положил диссертацию на буфет. – Угомонились наследники?
– Легли наконец.
– Бабушка спит?
– Читает.
Чаек был тот еще. Настоящий чай Сухорукову не давали: вредно. Сердчишко, и верно, пошаливало.
– Вера Ивановна сегодня складной зонтик продавала… – сказала жена.
– За сколько?
– Сорок.
– Ну – ты купила?
– Ага; деньги с получки отдам, – коснулась его рукой. – Я дежурю завтра, не забудь забрать Борьку из садика.
Халатик был короткий; летний загар не сошел еще с нее.
– Пойдем спать.
– Я немного поработаю, Софочка. Ложись, я скоро.
На цыпочках он прокрался в большую комнату…
– Что ты там делаешь? – прошептала из спальни жена.
– Статью надо посмотреть, – прошипел он.
…вытащил с дочкиной полки «Одиссею капитана Блада», затворился на кухне и принялся заваривать настоящий чай.
Без двадцати двенадцать, когда Питер Блад готовился захватить испанский галеон, в дверь коротко позвонили.
– Ничего себе! – Сухоруков удивленно снял очки.
– Кто там? – тихо спросил он, пытаясь разглядеть визитера через глазок.
За дверью неуверенно посопели.
– Это я…
– Поздновато, знаете. – Вроде юноша какой-то. – Кто – я.
– Женя.
Сухоруков снял цепочку и открыл дверь. Паренек со странноватой ожидающей улыбкой обмерил его портновским учитывающим взглядом. Под этим взглядом Сухоруков начал ощущать свою лысину, большой живот в пижамных штанах, дряблые руки.
Паренек вздохнул, кашлянул и улыбнулся снова.
– Вы – Сухоруков?
– Ну, я… – с неотчетливым стыдом сказал Сухоруков, тщетно собираясь с мыслями…
– Я – Женя. Не ждали?
Этим вопросом – «не ждали» – он погасил возможную, вполне вероятную реакцию на свое появление, как гасят купол парашюта, который сейчас потащит по земле.
– Ждал, – солгал Сухоруков. Говоря это, он верил, что лжет, хотя на самом деле, пожалуй, сказал правду. – Проходи. Вот тапочки… Ты с рюкзаком? Давай. Тихонько, перебудим всех.
Он сунул обвисший рюкзак в угол, передумал, пристроил на столике у зеркала.
– Я беспокою вас; поздно.
– Ничего.
– …Опоздал самолет. Сезон я с геологами в партии работал; я только из Якутска. Полевые, ясно, просадил до копейки. А дай, думаю, зайду. Меня давно подмывало… – Сейчас Женя улыбался предвкушающе (сколько у него, однако, улыбок, отметил Сухоруков). – Пока нашел вас в новом районе, – махнул рукой. – Переночевать-то позволите?
– Из Якутска… – прошептал Сухоруков. – Так тебе сейчас… сколько же…
– Двадцать два.
– Боже мой. Двадцать два года…
– Извините, где у вас туалет?
– Вот; свет, ванная, полотенце – давай.
Сухоруков зажег под чайником газ и стал выставлять еду из холодильника на стол. Принес из серванта, не дыша, боясь звякнуть, водку в хрустальном графине.
– На кухне посидим, чтоб не будить, ладно? После я тебе в большой комнате постелю.
– Ясно.
– Голоден, конечно?
– Ясно. О, чаек толковый! Старый любитель, а?
– Жена запрещает, – посетовал Сухоруков. – Вечерком иногда и отвожу душу.
– Ну, – сказал Женя, – со свиданьицем!
Черту лысому такие свиданьица, хмыкнул про себя Сухоруков. Выпили.
Ему было приятно смотреть, как Женя ест. Ладный такой, собранный, невесть как очутившийся в этой белой кухоньке.
Ветчина исчезла вслед за котлетами, сыр – за ветчиной, шпроты, холодные оладьи, помидоры; вазочка из-под варенья переехала в раковину; чай пришлось заваривать дважды.
– Горазд ты, брат, жрать, – подивился Сухоруков.
– Уж коли браться!.. – Женя осоловел. Закурил, с усилием сделав глубокий вдох, чтоб затянуться. – Прилично питаетесь, – признал. – Хотя выглядеть могли бы лучше. В ваши сорок шесть, распускаться, нельзя, – осуждающе покачал головой.
– Нельзя, – подтвердил Сухоруков.
– Давай выпьем за тебя, Женя, – сказал он. – Я хочу выпить за тебя.
В ванной долго стоял перед зеркалом, и руки его затряслись.
Женя листал зыкинскую диссертацию.
– Это что за ахинея? – поинтересовался он.
– Да вот, – Сухоруков замялся, – отзыв писать надо.
– Зачем? Таких слов и писать нельзя.
– Шеф попросил, – брякнул Сухоруков.
– Шеф? – удивился Женя.
– Ну да… – Сухоруков потоптался и стал мыть посуду.
– Какой шеф? – напряженно проговорил Женя.
Остатки засахарившегося варенья не растворялись; открыл воду погорячей.
– Сейчас… – вазочка сверкала. Мысленно он не раз вел предстоящий разговор, да мало толку.
– Понимаешь ли… – убрал вазочку на буфет. Подумал, что Женя на его месте обязательно постарался бы уронить ее, разбить якобы нечаянно – подобает при волнении. И это вызвало в нем чувство отеческого превосходства.
– Шеф – заведующий кафедрой русской филологии.
– А…
– Я… я работаю на этой кафедре.
– Та-ак, – взводимый курок словно.
Тарелка выскользнула-таки из рук и треснула.
– Вы женаты?
– Да.
– На ком?
Голос Сухорукова от него отделился, звучал вне его.
– В общем…
Женя… Жизнь уходила из черт его лица.
– Ты думал, наверное… (почему «наверное»? – мелькнуло) конечно, что я… Ты ее не знаешь.
– …
– Я… обыкновенный человек. Нормальный. Н-не знаменитость. Не писатель. И все такое…
Сухоруков закурил в тишине.
– НЕТ!!.
Грохот черных сапог.
Дым пожарищ.
Втоптанные в пепелища яблоневые лепестки.
Задыхаясь, умирать под дождем.
– Зачем ты пришел?
– Должен ведь я был когда-нибудь прийти.
Не возразишь…
– И должен ведь я когда-нибудь уйти, – тихо Женя пошел в прихожую. Посмотрел непонимающе на снятые тапочки и обул свои разбитые башмаки.
– Погоди… – Сухоруков тянулся вслед за своими пальцами к его плечу. – Погоди, – не решался коснуться. Знал: если Женя уйдет сейчас так – он теряет его навсегда. – Нам надо поговорить.
– Поговорили. Вполне…
– Я должен многое сказать тебе. Объяснить… Это тебе же надо. Тебе.
– Нет, – сказал Женя. – Мне не надо.
– Я прошу тебя, – прошептал Сухоруков. – Десять минут. Пожалуйста. По сигарете только выкурим. Да не разувайся ты.
Сели в кухне, не глядя друг на друга.
– Пить я не буду. – Женя отодвинул рюмку. Сухоруков выпил один.
Произнес заготовленную фразу:
– Понимаешь ли, Флобер писал когда-то молодому Мопассану: «Ничто в жизни не бывает ни так хорошо, ни так плохо, как люди обычно себе воображают». (Произнеся, ощутил некое сравнение, не в свою пользу.)
… – Так вам хорошо – или плохо? Или – средне? нормально?
– А знаешь, – взвесив (в который раз), честно сказал Сухоруков, – пожалуй – хорошо.
– И давно вам так… хорошо?..
– Позволь тебе задать, – Сухоруков чувствовал себя в положении шахматиста, навязывающего партнеру заранее подготовленный вариант, – позволь тебе задать банальнейший вопрос: по-твоему, что такое хорошая жизнь? А?
Ноль размышлений:
– Уметь хотеть. Знать, чего хочешь. Добиваться этого. Остальное – шлак.
Твердо сказал. Ой как твердо. (Мало бит.)
– Да-да, конечно-конечно, – хотеть, добиваться… А как насчет соизмерения желаний с возможностями?
– Сделай – или сдохни, – говорили, вроде, англичане.
– А если сделать не смог, а сдохнуть не захотел?
– Тогда смени имя! – закричал Женя.
– Я – обычный – человек, – мерным голосом произнес Сухоруков.
– …сменили все. Вывеска… осыпается…
– И живу мерками обычного человека.
– Ага. Семья, квартира, положение.
– Ну, – Сухоруков поморщился, – начинается школьный диспут о мещанстве и романтике. Я думал, ты умнее.
– Еще нет, – беззвучно.
– …Я отнял у вас много времени, – сделал Женя движение, чтобы встать. – Сколько сейчас?
Сухоруков отстегнул с запястья массивный «Атлантик»:
– Возьми часы, а? – посмотрел Жене в глаза, улыбнулся (стараясь – поуверенней). – Хорошо ходят.
«Атлантик» со стальным браслетом тикал между ними на столе.
Курили.
– Что делать думаешь, Женя? Теперь куда-нибудь к рыбакам податься, на траулер, в море?
– Возможно.
– Несерьезно это все.
– Отчего же? Тысячи людей шкерят рыбу.
– Для них это жизнь; а для тебя – туризм…
– Ваше занятие лучше?
– Пойми, Женечка, – вздохнул Сухоруков, – я же тебе добра желаю. Пойми – только добра.
– Скверное это занятие, – пробормотал Женя, – всегда всех понимать. Быть умнее всех. Потом оказывается, ты же и виноват всегда.
– Ты же хочешь писать. Тебе волей-неволей надо всех понимать.
– Замечание с далеко идущими последствиями.
– …Пишешь?
Пожал плечами.
– Рассчитываешь сделаться писателем?
– Там видно будет.
– Там уже видно! Слава, деньги, заграничные поездки… Господи, как старо, смешно, банально. Детство, романтика.
– Я пробьюсь.
– Я же говорю: детство, романтика. Куда пробьешься, откуда пробьешься? Что за военно-шахтерская терминология? Знаешь, что будет дальше? Мне-то известно.
Дальше ты будешь «набирать биографию» и лезть в печать. Напечатают, в конце концов. Примелькаешься, заведешь знакомства, станешь своим человеком. Годам к тридцати пяти издашь книгу. Кто-нибудь ее тихонько похвалит. Все.
Тут-то тебя и прищемит. Ты честен и бездарен. И – прости – тщеславен. Безнадежное сочетание. Халтурить не захочешь, создать шедевры не сможешь.
И устанешь от всего этого: безденежья, неуюта, одиночества, неуверенности в завтрашнем дне, от всех нелегких дрязг литераторского ремесла. И то, что ты сейчас с презрением считаешь рутиной: дом, семья, работа и зарплата, – то покажется берегом обетованным. Нормальная, повторяю, человеческая жизнь счастьем покажется – да так ведь оно и есть.
…Примерно так у меня и вышло. Учел бы ты, голубчик, опыт мой, что ли. Чем раньше покончишь со своими наполеоновскими планами – тем лучше. Честно признаться самому себе в поражении, смириться – трудно. На это тоже силы нужны. Постарайся найти в себе эти силы как можно раньше.
– Спасибо за советик. Я уж лучше постараюсь найти в себе силы не смиряться.
– Почему, – в отчаянии простонал Сухоруков, – почему ты не желаешь мне верить? я ли не читал твои опусы? мне ли тебя не понять! Послушай меня – и в сорок шесть ты при своей энергии будешь хотя бы заведовать кафедрой – не то что я теперь… Ты должен мне верить.
– Я должен вам верить, – медленно произнес Женя, глядя перед собой, – я готов поверить даже, что я бездарь; но почему… еще… когда вы женились? – Он навел взгляд на Сухорукова.
– А… – сказал Сухоруков. – Двенадцать лет…
– И раньше…
– …Она сама ушла от меня. Ты это хотел знать… Позднее я понял, что слишком много от нее требовал. Сильная любовь, видишь ли, накладывает на любимого большие обязательства, к которым тот обычно совершенно не готов. И еще… Ведь обладание любимым зачастую не избавляет от мук неразделенной любви.
Женя поднял голову.
– Резонер, – он выпустил сигаретный дым, кривя рот. – Я устал от ваших афоризмов, – пробарабанил пальцами по столу… – Неудачный обмен годов на цитаты.
Непробиваемое превосходство молодости исходило от него. Учить этого парнишку жизни было все равно что редактировать Бабеля.
– Ничего себе в гости сходил. – Женя хмыкнул, улыбнулся.
– Нет, – объявил он, – не нравитесь вы мне.
– Какой есть, – вздохнул Сухоруков, – что поделаешь.
– Я пошел, – ответил Женя и протопал в прихожую.
– Уже…
– Пора мне. – Женя взял свой рюкзак. – Пора, – открыл дверь.
– Заходи, – тупо сказал Сухоруков.
– Ноги моей здесь не будет.
– Ты не можешь думать обо мне плохо, – торопливо заговорил Сухоруков. – Совесть моя чиста. (Это была правда – почему сейчас он сам себе не верил?) Я все-таки сделал кое-что в науке. Дети у меня хорошие… (Что я несу? – ужаснулся он…)
Женя рассмеялся, стоя уже на лестничной площадке.
– Прощайте, Евгений Сергеевич. – Он сплюнул. – Ноги моей здесь не будет! – крикнул он и с грохотом захлопнул дверь.
Проснулась жена.
– Женя, – тихонько позвала она… – Что там у тебя?
Никто не отвечал. Она накинула халат и вышла в кухню. Массивный стальной «Атлантик» тикал на белом пластике стола. Никого. В ванной и туалете – тоже.
– Евгений, – позвала она. – Где ты, Женечка?
Черта с два!
Двадцатидвухлетний Женька Сухоруков, романтик, бабник, бродяга, размашисто шагал темной улицей, подкидывая на плече грязный рюкзак. Он посвистывал, покуривал, поплевывал сквозь зубы, улыбался, вдыхая ночную прохладу.
– И флаги на бинты он не рвал, – с некоторым пафосом пробормотал он о себе в третьем лице, сворачивая к вокзалу. Его потери и обретения еще не прикидывались друг другом.









































