Текст книги "Все рассказы"
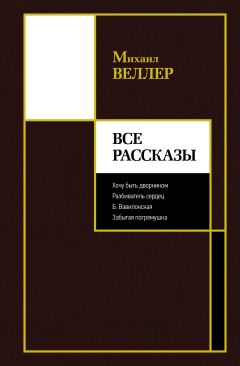
Автор книги: Михаил Веллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Конец шестидесятых
реквием ровесникам
Мы были, были!.. Мы, старперы, несостоявшееся поколение, дети победителей величайшей из войн, волна демографического взрыва – сорок шестой – пятидесятый года рождения, самое многочисленное поколение за всю историю страны. Мы, состарившиеся в мальчиках, вино, перебродившее на уксус и не дождавшееся праздника: нас не подпустили к столу, мы не дотянулись до бокалов, а ножи были предусмотрительно убраны: лакеи захватили буфеты и стали хозяевами праздника. Мы, брюзги, неудачники, одни спившиеся, другие продавшиеся незадорого, потому что дорогой цены уже не давали: предложение с лихвой превышало спрос. Мы, чьи лучшие рабочие годы – с двадцати пяти до сорока – ушли водой в песок, погрязли в болоте, ухнули в бездонную пропасть, в жизнеподобную пустоту непереносимо фальшивого фанфарного пения: оно скребло своей наглой фальшью нервы, и мы стали истеричны, оно резало сердце, и инфаркты подкрались к нам рано, оно разъедало душу, и нам уже нечем стало верить во все хорошее и честное. Мы, плешивые, потому что метались беспорядочно по жизни, пытаясь жить, мы, гнилозубые, потому что жрали всякую дрянь – а что еще было жрать, потому что не на что было вставлять зубы у частника, поди еще его найди, не стальных же фикс ждать два года в бесплатной очереди: мы были, были, были!
Нам было по пятнадцать, мы были юны, стройны, красивы, полны сил и веры: острая брага юности запенилась в нас, детях победителей, когда Хрущев матерился с трибун и учил писателей писать – но никого не сажали, и казалось, что никогда уже не будут сажать, никогда не будет страха: анекдоты о Хрущеве рассказывали везде, издевались над кукурузой: мы выросли без страха в крови, культ личности был историей, Твардовский редактировал и публиковал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, Некрасов печатал в «Новом мире» «По обе стороны океана», «Коллеги» Аксенова были знаменитейшей из книг и «Звездный билет» тоже, критики громили Асадова – мы его читали: суки, человек потерял глаза на войне, прекрасные стихи, читали Евтушенко, читали Вознесенского, переписывали «Пилигримов» Бродского: мало знали, еще меньше понимали, но верить умели, это тоже было у нас в крови, – нет, сомневались, издевались, но – верили. Что было, то было – верили.
И когда слетел Никита – радовались. Демократия, справедливость, хватит кумовства, лысый дурак, наобещал коммунизм через двадцать лет, твердо зная, что двадцать лет не протянет и позор не падет на его лысую голову: восьмиклассники сдавали экзамен по истории СССР, а в коридорах издевались над тем, что отвечали насчет построения коммунизма: нет, не настолько наивны были; но – верили: в добро, в справедливость, в честь, в правду.
И потрясающее свойство юности: знать – а не понимать, видеть – а не понимать, спорить – а не понимать! Судили Бродского, выслали: это было плохо, но в основном все было хорошо. Судили Даниэля и Синявского по статье, которой и в кодексе-то не было: соглашались: поделом врагам народа, антисоветчикам. Не знали, что они написали, не знали толком, в чем дело, газетам своим вообще не верили – а в частности верили!.. обычная штука, юных так легко заморочить, внушить, направить: энергия брызжет, опыта нет, идеалы жгут, и на этих-то идеалах умело, как всегда, играли прожженные сволочи, умные и безжалостные бандиты, сделавшие карьеры на костях собственного народа, на пепле своей земли, на почерневшей в застое крови моего поколения.
А мы рвали семирублевые гитары и пели:
Ну и беда мне с этой Нинкою,
она живет со всей Ордынкою!
Но циниками не были, ох не были: был тот цинизм как панцирь на нежном теле краба, который прикрывал душу: все в порядке было с душой: в любовь верили, в дружбу верили, в советскую власть, в торжество добра, в святые идеалы, в нерушимое преимущество нашего строя над ихним, безжалостным и античеловечным.
Над Канадой небо синее,
меж берез дожди косые,
хоть похоже на Россию,
только все же не Россия…
Как же мы ухнули, как пролетели мимо кассы, как похоронили уже кое-кого из друзей, как ссучились, упустили свою волну, остались на обнажившемся бесплодном дне; ушел трамвай, ту-ту, и последними, кто успел прицепиться к колбасе, были те, кто родился на десять лет раньше нас, в тридцать седьмом-восьмом: Распутин, Маканин, Высоцкий. Больше в литературу имен не вошло, да что в литературу, что в искусство: в действительность нашу больше имен не вошло: пардон, все места заняты, двери закрываются, ждите следующего поезда…
И мы ждали, еще не понимая, что не будет поезда, что тот, на ком форма кондуктора, гонит нас в тупик, а жезл в его руке – на самом деле дубинка…
Уходит наш поезд в Освенцим
сегодня и ежедневно…
I
Когда послышался хруст? Пожалуй, что с процесса Даниэля и Синявского, но мы, семнадцатилетние, этого еще не понимали: ату гадов, ату власовцев, ату предателей: кто не с нами – тот против нас!
Тебе семь лет, идешь по улице и читаешь, по складам еще почти, лозунг: «Советская избирательная система – самая демократичная в мире!» И на всю жизнь впечатывается, вчеканивается: да, самая демократичная! гордость, достоинство, – вот так, наша. У них – голод и синтетика, у нас – натуральные продукты, у них – произвол, у нас – законы, у них – расизм, у нас – интернационализм.
И ведь поразительно: в пятом классе анекдоты рассказывали: американский инженер: «А сколько вы зарабатываете?» – советский: «Ну и что? А у вас негров вешают». Вроде и знали – а вроде никаких обобщений не делали. Похоже, юность не способна к абстрактному гуманитарному мышлению. Нет, не способна. Особенно если ее отучают думать.
Иногда говорят исключительно о поколении москвичей и ленинградцев; чушь; это всего-то пара процентов от всех: Москва – это еще не Россия. В основном-то все мы жили по небольшим городкам, в них именно народа было всего больше, а в столицы стекались сливки провинций, как и было всегда и везде. Мы были здоровы – что было, то было: гнилья в душах у нас в общем не было. Было, но нечасто. Сравнительно нечасто. Мы были убеждены, что если что – то в военкоматы пойдем в первый день и добровольцами; и в основном пошли бы, ей-богу!
Это – тогда. А сейчас – немногие бы туда отправились: научила жизнь отматываться от всего такого.
В провинциях наших зажима и тупости было побольше, в столицах, понятно, поменьше: мы балдели от свобод и демократий. Сколько позволено всего! И не сажают!
И при этом прекрасно знали, что на нашем университетском филфаке, скажем, полагается стукач на каждую группу, и знали, как происходит вербовка – в пустом кабинете декана, и каковы средства давления, и даже кое-кого из стучащих знали! И язык в общем держали на привязи. И все равно балдели от свобод, вот ведь что поразительно! Пьешь водку в общаге со стукачом – и балдеешь от свободы! Будь вы прокляты, грязные фискалы, наследнички палачей, сеявшие драконьи зубы, которые дохрупали теперь державу до самых костей.
Не будут прокляты. Хорошие зарплаты, приличные квартиры, социальный статус, спецобслуживание. Не подавятся. Давимся мы.
А все-таки – все-таки – комплексуют! Истеричными делаются на этой работе, со стеснением о ней сообщают, а если спорят о деле своем – так с озлоблением, тупым отверганием всего не своего… Как ни верти – а ремесло доносчика, полицейского, палача, – всегда было презренным ремеслом.
(«А куда было деться, меня бы исключили за академическую задолженность…»
«А куда было деться, потом не устроился бы ни на какую приличную работу, только в деревенскую школу…»)
Когда (по слухам, официальной информации – тю-тю) у Виктора Некрасова конфисковали архив, то один из уходящих с пачками бумаг сказал вежливо, смущенно, человечно: «Простите ради бога, Виктор Платонович, – служба…» – На что был ответ: «А вот службу себе, молодой человек, каждый выбирает сам». Тоже не всегда сам. Но в наше-то не слишком голодное время – сам, сам, голубчик. И что, получил ты счастье со своей службы? Нет, дорогой, если ты не ощущаешь себя единым, родным со своим народом, – все у тебя может быть, а счастья нет. Э, а может, и есть – собаке собачье счастье.
Следователь-хмурик с утра на валидоле,
как пророк подследственный бородой оброс…
И было в Ленинградском политехническом «дело декабристов» – в декабре проходил процесс над студенческой организацией:
– Мы знали с самого начала, что успеха добиться не можем, ничего сделать не сможем, но – должен, должен же кто-то сказать правду!!
После этого Политех навсегда перестал быть в Ленинграде рассадником вольнодумства. Тоже, помнится, шестьдесят пятый год.
Так что – похрустывало, похрустывало уже тогда, но мы этого еще не понимали, не знали многого, да и накат инерции был велик: мы еще годик-другой побалдели…
Когда на сердце тяжесть,
И холодно в груди…
II
Потом грянула Шестидневная израильско-египетская война. Май шестьдесят семь. Вот тут-то и запахло керосином.
Насера у нас не любили, не уважали, не почитали: крайне порицали Никиту, что он дал ему Героя, а особенно возмущались, что наглый Насер на фотографии у Асуанской плотины даже не надел Звезды: уже потом узнали, что Звезды-то и не было, Никита дал ему Героя самочинно.
Напиши мне, мама, в Египет,
как там Волга моя течет…
И ведь передавали, что Насер сгноил в концлагерях всех коммунистов, которые до того в Египте были, что египтяне ленивы, трусливы и жуликоваты, живут в страшной бедности, и рожа у Насера противная была, уж это точно; нет, Насер у нас популярной фигурой не был.
Правда, и евреи никогда не были уж самым любимым народом нигде. Но, поскольку интеллигенция всегда настроена оппозиционно, в среде интеллигенции настроения наблюдались антиофициальные, а антиофициальные – это произраильские. Анекдоты ходили про эту войну все в одни ворота: евреи выступали хитрыми и расчетливыми, но арабы – тупыми и неудачливыми.
Воля ваша, но евреям после этих событий лучше не стало – то есть советским евреям. Разумеется, советские евреи самые счастливые в мире, как и все прочие советские люди: но назови мне такую обитель, где девушки и молодые женщины то и дело сжигают себя?! братцы, ведь только у нас, только у нас! привет нашему гуманизму. Нет, это не еврейские девушки, норма по их сожжению была перевыполнена в военные годы надолго, – это мусульманские девушки. Евреи всегда отличались возмутительным жизнелюбием и жизненной цепкостью. У нас в школе выпускников было двести человек – три одиннадцатых класса и четыре десятых. Обе золотые медали получили евреи, а также две серебряные из пяти.
Русский советский еврей евреем себя особенно не ощущает, он обычно рад бы ощутить себя русским, но его русским ощущают не все и не всегда. Графа «национальность» в паспорте присутствует, вроде, только в нашем интернационалистском государстве. Мнение отнюдь не столь редкое: «Гитлер, конечно, был гад, фашист, но вот с евреями он все-таки поступил правильно, жаль не всех успел…» Короче, запахло еврейским вопросом, а это всегда нехороший признак.
Весной шестьдесят восьмого в Ленинградском университете арестовали около двухсот человек: так передавали, с преувеличениями. Не то земельная партия, не то террористическая программа, но троим впаяли больше десяти лет, еще несколько получили по мелочи, еще несколько десятков исключили с волчьим билетом. Как-то даже не верилось, что это произошло с нашими однокашниками.
А потом был август шестьдесят восемь – и в основном, что поразительно, мы занимали совершенно официальную позицию! Мы, кому было двадцать, полагали, что – да, иначе в Чехословакию вступила бы ФРГ, а антисоветские, антисоциалистические мятежи надо давить, это контрреволюция.
А потом на общежитских наших пьянках плакали чешские студентки-стажерки: «Мы вас любили больше всех, действительно как братьев, зачем вы это сделали?..». Вот в шестьдесят восьмом все и определилось, и те, кто постарше, поумней, это поняли. Прикрутили анекдоты «армянского радио», прикрутили помалу все: перестали печатать Гладилина, а он, худо-бедно, был зачинателем нашей новой молодежной прозы: «Хроника времен Виктора Подгурского», катаевская «Юность», пятьдесят пятый год. Дали Аксенову по мозгам за «Бочкотару». Придушили «Новый мир». И вот после шестьдесят восьмого ничего значительного в нашу культурную жизнь уже не пришло, новых фамилий не появилось: кто успел зацепиться, заявить о себе до того, напеть песен, выпустить книгу, застолбить место – те остались, а новые – шиш! Разве что Никита Михалков и Татьяна Толстая, но, заметьте, без своих семейных связей фигу бы они сделали свое: каста замкнулась.
И этого мы, двадцатилетние, не понимали. Мы жили шестьдесят пятым годом, когда на дворе стоял уже шестьдесят девятый. И это нам стоило дорого.
III
Ах, мы искали смысл, мы заново открывали для себя Павла Когана, Хикмета и Экзюпери, мы мечтали о больших делах; кто ж не мечтал.
Мы ехали в стройотряды – рвались сами, отбирались по конкурсу. Мы еще носили эту форму с гордостью, добывали к ней тельняшки и офицерские ремни: образца шестьдесят шестого года она была в Ленинграде желто-оливковая, шестьдесят седьмого – серая, шестьдесят восьмого – зеленая, такой и осталась, вышла из моды, ею уже не гордились те, кто пришел за нами.
На Мангышлаке мы строили железную дорогу в пекле пустыни, в отрядах кругом ребята гибли: несколько десятков гробов пришло за лето из четырехтысячного отряда Гурьевской области: сгорали на проводах ЛЭП, ломали шею об дно ручья, обваривались битумом, хватали тепловые удары. Мы вламывали по десять часов в день – рвали жилы на совесть: мы – могли, мы – проверили себя, испытали – и утвердились! мы были – гвардия, студенты, – за двести рублей за лето! пахали, как карлы.
Наши командиры и мастера еще не обкрадывали своих.
Жгли сухой, как порох, «Шипкой» легкие, – мускулистые, поджарые, черные, зверски выносливые, в одних плавках, девчонки наши узенькими купальниками ввергали в раж работяг, бабы плевались – завидовали, красивы были наши девочки, тогда мы это не понимали, поняли позднее, когда – сдали, расплылись, обморщинели. Ладони были как рашпиль, – гордились. «Здесь я нашла свою Испанию…» – сказала королева бетономешалки. Нам нужен был смысл. Смысл!
«Иностранное слово «романтика» по-русски звучит здесь «работа». «Стройотряды – школа коммунизма».
Форме нашей при возвращении завидовали, значки стройотрядов носились с гордостью – элита! – держались кучей: мы были – свои!
А уже присосались паразиты, заруководили, запланировали, засели в штабах, заездили по отрядам районные и областные комиссары: бороды брить, деньги в общий котел – отрядная коммуна, это передовее, чем коммуна бригадная. Не любили их, хотели – сами. Хоть это мы еще успели – сами, все кончилось на наших глазах.
И комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной.
. . . . . . . . . .
Бандьера росса триумвера!
Мы были той крысой, которая успела вскочить на тонущий корабль.
Только плацкартного места той крысе уже не досталось – исключительно палубное.
В шестьдесят девятом году всех почти ленинградских студентов загнали в Ленобласть на мелиорацию – товарищ Романов осушал землю. Не записавшихся в отряд не допускали к экзаменам. Нынешний ленинградский спецкор «Известий» Анатолий Ежелев опубликовал в «Смене» подлейшую статью о конференции комсомола ЛГУ, где по приказу парткома наплевали на устав ВЛКСМ, устав ССО: отменили принцип добровольности стройотрядов, записанный параграфом первым статьи первой устава ССО, – заменили разнарядкой. Физики пытались организовать сопротивление – не удалось.
Партсекретарь ЛГУ выступал зло, демагогически, напирал на сорок первый год – мол, не козырять добровольцами, все нужны! Интересно, что он делает сейчас? Вряд ли бедствует…
За голосование против нам потом лепили выговора, грозили исключением из комсомола, прорабатывали на комиссиях: мы трезвели понемногу.
Мы еще сумели провалить кандидата в секретари факультета, навязанного парткомом: выигранное сражение в проигранной войне – орденок он цапнул через несколько лет.
Глядь – едет
на лисапеде
бывший комсомольский секлетарь.
Как бы, братцы, не было нам худа…
На рубеже семидесятого года ситуация сменилась как-то быстро, скачком: молодежь резко стала лучше одеваться; резко утратила романтизм; резко стали лучше жить материально; но все это было за нами; мы-то попали в промежуток – ни то, ни другое: сознанием еще там, впереди, а телом-то уже здесь, позади.
«Ну, а дальше? Что было дальше? Что было потом?» – «Не было дальше. Не было потом».
Мы еще смотрели «Леди Гамильтон» в кинотеатре старого фильма «Сатурн», на Садовой близ угла Мучного переулка; я жил как раз напротив.
IV
Мы разогнались, как истребитель ко взлету, но с бетонки слетели в пашню, по вязкому болоту пытались мы взлететь, пережигая в форсаже двигатели, еще надеясь на высоту, скорость, небо, простор – глядя, как крутят высший пилотаж другие, не намного старше нас. Истребитель стареет быстро; около двадцати лет – срок огромный в человеческой жизни; по возрасту нас уже можно списывать в транспортную авиацию.
V
Самое многочисленное из советских поколений, дети победителей, отроки оттепели, юноши шестидесятых, – к сорока годам не дали ни единого человека, что встал бы вровень с достойными прежних времен. Нет, не были мы ни глупы, ни серы, ни вялы; нас не расстреливали, не пытали, не высылали за границу, не раскулачивали, в общем даже не сажали; нас задавили на корню.
VI
Бывает.
VII
Мы еще живы. Мы еще не вышли в тираж. «Еще ноги наши ходют, еще кони наши скачут, и пушка моя возле тела греется. Еще рука моя тебя достигнет».
VIII
Весной шестьдесят девятого на китайской границе в боях за остров Даманский погиб мой когдатошний одноклассник Толик Шамсутдинов.
Сталин и Мао – братья навек!
Мы еще застали китайских студентов – поразительно трудолюбивых, дисциплинированных и скромных.
Лица желтые над городом кружатся.
Паровозы, грузовики, истребители «МиГ»-15» и автоматы ППШ – взамен плащи и рубашки «Дружба», термоса и авторучки: отличные.
Над Китаем небо синее,
меж трибун вожди косые, —
хоть похоже на Россию,
только все же не Россия.
IX
Летом шестьдесят девятого Анатолий Кузнецов остался в Англии: черта была подведена. Кончился «Новый мир», умер Твардовский: жирная черная черта. Аксенова, Евтушенко, Медынского и Розова выперли из редколлегии «Юности». Кочетов напечатал в «Октябре» «Чего же ты хочешь». Иван Шевцов издал «Любовь и ненависть». Мы цитировали их наизусть – мы смеялись. Плакали мы позднее.
А потом заработали верховные редакторские ножницы, отстригая от пространства нашей духовной жизни строчку за строчкой. Спился и замолчал Казаков. Замолчал и уехал Гладилин. Выслали Солженицына. Уехал Бродский. Пошли нескончаемой чередой уезжанты и невозвращенцы: Ростропович, Барышников, и кого только не было. Уехал Некрасов. Уехал и погиб Галич. Умер Шукшин. Уехали Белоусова и Протопопов. Агония.
Точку воткнул восьмидесятый год: лишили гражданства уехавшего Аксенова; смерть Высоцкого; бойкот Олимпиады. Финиш.
Смерть Трифонова весной восемьдесят первого прозвучала завершающим аккордом; эпилогом.
Ах, как дивно работали наши боссы! Как сладостно руководить: запретить кому угодно что угодно. Крошка Цахес с партийным билетом.
Перековав свой меч на щит
и затыкая нам орало.
Затыкали рты, выкручивали руки, резали рукописи, смывали картины, чтобы потом иметь наглость заявить: «Наше искусство было недостаточно смелым». Наше – достаточно. Смелых замалчивали, запугивали, сажали, высылали, – по вашим указаниям, дорогие благодетели.
Но – эти уже состоялись.
Мы – нет.
Места не было.
Нужды не было.
Мы – лишнее поколение?
Замолчанное поколение.
Заткнутое.
X
И те же, кто сотнями тысяч – сотнями тысяч! миллионами! – укладывал на поле боя наших отцов, чтоб выслужить орден и звездочку, отрапортовать о взятии города к очередному празднику, – укладывал со всем идиотизмом и безжалостностью бюрократической системы: реку ли губить, землю ли распылять, людей ли в эту землю укладывать, – дело служивое, карьера есть карьера, машина власти и благ остается той же, – те же гении и предводители давили нас. Работа такая.
«Не ко мне они ходят советоваться, а к маузеру моему».
«Строем, с песней, добровольно!»
Изнасилованная страна, изолганная история, изуродованная экономика, пьянство и безверие: кровь, ложь, капкан.
«Хрусть – и пополам! Пойду забудусь сном».
Сколько миллионов в валюте могли бы дать одни только картины Макаренко? А что дали нашей культуре они? Всесильные и ненасытные молохи Госкомиздата, Минкульта, советов, комитетов, комиссий: оборотни-вампиры в черных лимузинах. Нигде в мире нет столько органов, и нигде в мире нет, чтоб так трудно пробиться чему угодно незаурядному. Радетели вы наши.
Классовой – классовой ненавистью ненавидит мое поколение ваш класс номенклатурной бюрократии. Класс, лишивший нас возможности сделать в жизни свое – новое – лучшее – собственное: оставить на земле себя – для земли и людей. Прощать тут нечего, некому, – это противоречие смертельное, непримиримое. Они это знают. И давят. И задавят, вероятно, – прошедшие годы отучили нас от оптимизма.
XI
«Довольно крови!..» В переводе на русский язык это сейчас означает: довольно крови невинных мучеников, не надо прибавлять к ней кровь палачей, убийц, преступников, пусть хоть они живут спокойно в многострадальной стране.
Христианство?
«Каин убил Авеля. И с тех пор повторял своим детям: «Берегите, дети, этот мир, за который отдал жизнь ваш дядя».
XII
Пели Городницкого, пели Галича, пели Окуджаву, Визбора, Высоцкого. Официальных песен не пели. А ведь вранье – мы еще пели их:
Забота наша такая, забота наша простая…
Пели, братцы.
Сотня юных бойцов из буденновских войск
на разведку в поля поскакала…
Тихо, на пьянках, с душой – родное пели, свое.
Полюшко-поле, полюшко широко поле…
И сейчас ведь их любим. Думаем иначе, относимся иначе, знаем иначе, а – любим… Милитаризм ненавидим, а парады – смотрим… Шовинизм презираем – а Ермаком гордимся.
XIII
Откуда ж у нас может взяться настоящая российская интеллигенция, если за интеллигентность – свободомыслие, порядочность, гражданственность, принципиальность, благородство – все-то годы карали так жестоко, семей не щадя: уничтожали, научно уничтожали, обстоятельно, систематически. Увольняли, обыскивали, «лечили». Подбросят наркотики при обыске и дадут срок. Грузовиком по тротуару размажут. Газетную травлю организуют. Уголовникам в камере дадут указание – искалечить вонючего антисоветчика. Потом антисоветчика провозглашают провозвестником перестройки, а те, кто велел кости ломать, восклицают: «Ну, довольно крови». Десятилетиями мгновенно вытаптывали малейший росток интеллигентности, да еще землю вокруг пропалывали профилактически. Взгляните-ка, кто провозглашает сейчас с экранов телевизоров принципы перестройки. Те, кто дивно преуспел в период застоя. Завтра они опять переквалифицируются. Дело обычное.
Нет, интеллигент – это Сахаров.
В отличие от, скажем, Боровика, представителя второй древнейшей, который всегда тщательно работал на генеральную линию – что линия Брежнева, что линия Горбачева.
Мыслие – всегда инакомыслие, это ясно. Ибо повторение чужой мысли означает отсутствие собственной. Интеллигент – это тот, кто провозглашаемые истины принимает не к сведению, а к размышлению. А если кто умеет размышлять, тот всегда глянет на предмет хоть чуток, да по-своему.
Мое поколение – в общем целиком инакомыслящее. К началу восьмидесятых к официальному слову нам создали иммунитет. Мы выжили – ценой того, что стали на это слово плевать. Иначе оставалось попасть в психушку из-за разрыва слышимого и видимого. Некоторые и попадали.
XIV–XV
Государство имеет три основные функции:
безопасность жизни своих граждан;
материальное благополучие;
духовные свободы. Реализовать свои возможности.
Если оно с этим справляется плохо, то любые оправдания и объяснения – демагогия для самосохранения правящего аппарата. Где эти три условия выполняются лучше – то государство и лучше. Все остальное – ложь, изрекаемая бандитами, чтобы удобнее грабить людей и порабощать.
Мы приходили к этим нехитрым истинам сами, медленно, годами. Читать нам было нечего: все убиралось на спецхран. Еще в конце шестидесятых в университетской библиотеке можно было взять Шопенгауэра или Библию; потом это пресекли.
Мы не могли никак разобраться в преподаваемой нам политэкономии социализма, пока не поняли, что эта галиматья не имеет ни малейшего отношения к действительности, ни к логике, ни к элементарному здравому смыслу.
Мы не могли понять, как все, кто делал революцию, стали ее врагами и были расстреляны или явно убиты. Потом мы прочитали «Евангелие от Робеспьера» Гладилина, изданное в «Пламенных революционерах» в семидесятом, помнится, году (как проверишь, и она была изъята). И логика убирания всех мыслящих и незаурядных медленно доходила до нас.
Потом мы научились читать Герцена. К восьмидесятому году Герцен звучал чудовищным диссидентом, не хуже Солженицына; только спокойнее, мудрее, интеллигентнее. Герцен сказал много о нас, будущих…
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте…
Слава богу, спрашивать нас родители еще отучили, – а то б глодать лагерную пайку многим из тех, кто – жил на относительной, да все ж воле…
На первом курсе профессор (тогда доцент) Хватов, креатура профессора Выходцева, предложил нам на лекции по введению в теорию советской литературы поспорить с ним насчет того, что художник при социализме свободен. Мы даже не усмехнулись: слишком дешевый трюк. Но иностранцы, стажеры наши, восприняли всерьез. Дальше было два академических часа бесплатного развлечения: Хватов терпеливо строил карточный домик, за разом раз, и одним щелчком тот домик был разрушаем: «Все-таки при капитализме художник может примкнуть к его сторонникам, а может к врагам, и может сделать частную выставку, продавать картины, и его не арестуют, не посадят, не запретят…»
Художники группы «Санкт-Петербург» – давно в Париже и Нью-Йорке. По всему миру.
А на черта они нужны Министерству культуры? хлопоты одни.
А теперь скажите, на черта нам нужно Министерство культуры – вместо просто культуры? Заодно еще с сотней министерств?
Наши министерства могли бы составить население небольшого европейского государства. Страшное то было бы государство. Не начались бы в Сахаре перебои с песком.
Объясните глупым, мы выслушаем с благодарностью.
XVI
Гениальный из анекдотов минувшей эпохи: человек разбрасывает листовки, которые при рассмотрении оказываются чистыми листками бумаги. «А почему ничего не написано?» – «А что, разве все и так всё не знают?..»
XVII
Дорогой Никита Сергеевич. Да будет Вам пухом земля Новодевичьего кладбища, коли уж, по мнению любезных коллег Ваших, Вы, руководитель партии и государства – XX Съезд! – на Кремлевскую стену не потянули. Мы еще всерьез некогда читали «Трех мушкетеров»: «Слава павшему величию». Конец концлагерей, избавление от страха, нет всесилия жуткой бериевской госбезопасности, урезание огромной армии – деньги в жилье, сельское хозяйство, культуру, книги и кино, отмена полного крестьянского рабства, Куба и Египет, Индонезия и Африка: небывалая волна исторического оптимизма: слишком поздно мы прозревали от заблуждений молодости – поздно поняли, оценили в сравнении. Не хватило Вас на наш век.
XVIII
Молодость, переходящая в старость, минуя период социальной зрелости, – вот главная отличительная черта моего поколения.
За хлеб и воду
и за свободу
спасибо нашему совейскому народу.
(Сойдет ли мне с рук написанное? Напечатают ли эту цитату из Высоцкого? Пропустят ли? Не вызовут ли автора на беседу куда надо? Не припомнят ли костоломно через несколько лет, если все повернется по-старому?)
XIX
Как много нас было!..
Как счастливо мы вступали в жизнь!..
Запрещение ядерных испытаний, полет Гагарина, разделение власти Первого секретаря и Предсовмина, микрорайоны – отдельную квартиру каждому, рост продолжительности жизни до семидесяти лет: ах, еще несколько лет, и мы всем покажем, мы примем эстафету, мы пойдем дальше!
Мы носим узкие брюки и снежные в голубизну нейлоновые рубашки, мы курим первые сигареты с фильтром – болгарский «Трезор» за тридцать копеек или «Фильтр» за восемнадцать, мы покупаем на три рубля бутылку «Московской» водки за два восемьдесят семь и белый батон за тринадцать копеек – на троих, в общаге застилаем стол газеткой и молча стоим под Гимн Советского Союза, поминаем Гагарина, которого сейчас хоронят. Мы вырезаем из чужих журналов портрет Че Гевары, последнего настоящего революционера XX века, мы танцуем шейк вместо твиста, мы не ходим в кабаки, даже когда есть деньги – нам там скучно, а денежных людей мы презираем. Мы пьем в общаге при свечах, поем под гитару, заводим допотопнейший магнитофон и танцуем, прижимаемся, ласкаем и целуем по углам и лестницам наших девочек, по общежитским койкам и парковым скамейкам,
ах гостиница моя ты гостиница
на кровать присяду я, ты подвинешься,
на тонких запястьях девочек отвернуты рукава болоньевых плащей, плоские золоченые часы «Полет» на черных нейлоновых ремешках, туфли на шпильках, мини, еле прикрывающие резинки чулок, и неживая шершавая гладкость чулка сменяется прерывающей дыхание прохладной теплотой нежной кожи бедер, дешевейшее советское, позорное несчастное белье и стройные, округлые, замечательные юные тела, наши отцы и деды не были алкоголиками, поля не были забиты химией, с генофондом у нас все было в порядке, боже, как красивы были наши девочки, надо было пожить, чтоб понять это, и как мы все были непритязательны, и бедны по нынешним меркам, и не нужно было ничего,
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































