Текст книги "Дом"
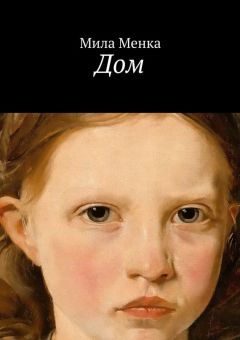
Автор книги: Мила Менка
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Дом
Мила Менка
© Мила Менка, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Дом
Он стоял, нахмурившись, в центре пустыря, образовавшегося после сноса его собратьев по улице Коминтерна. Стоял и смотрел выбитыми глазами на новенькие пятиэтажки провинциального городка. Ему было никак не менее ста лет: облицовка, светло-зелёная когда-то, а теперь грязно-бурая, облупилась, обнажив его чёрные, влажные деревянные бока. Местные его боялись – старались обходить стороной, но уж коли доводилось проходить мимо, то старушки крестились, молодые мамы ускоряли шаг, увлекая за собой таращивших глаза любопытных малышей, а молодежь нарочито громко разговаривала и смеялась, чтобы скрыть беспокойство, которое неизменно охватывало каждого, кто оказывался близ его мрачных стен.
Дом был выстроен купцом Мелентьевым в стародавние времена; тогда посёлок, больше похожий на большую деревню, назывался просто Холмы (статус города он получил позже, после Великой Октябрьской революции, одновременно с постройкой комбината).
Мелентьев, горячая голова, рискнул, вложившись в одно из сомнительных торговых предприятий, обещавших скорые барыши. Потерпев крах, он подался, по слухам, на север. Дом же за долги был продан с молотка. Прельстившись невысокой ценой, его приобрел некто Краузе – врач по призванию, немец по происхождению, лютеранин по вероисповеданию. С него-то всё и началось. По первой всё шло гладко: немец большую часть дома определил под клинику, имевшую стационар на пять человек, зубоврачебный кабинет с белым креслом и плевательницей, и даже родильную комнату с двойными стенами – кричи, не хочу. Мал-помалу, народ потянулся к новому доктору. Краузе не брезговал брать плату за услуги натуральными продуктами – яйцами, молоком, мясом, яблоками, но в большинстве случаев предпочитал ассигнации.
Мишка
«Эй, Тоська! Посвети-ка сюда!», – дрожащим от возбуждения голосом крикнул Мишка. – «Тут какая-то посудина!»
Луч фонарика выхватил из темноты перемазанное лицо пацана с сощуренными в щёлки глазами и упал на кучу хлама, сваленного в углу. Сверху лежала старая миска, расписанная подсолнухами – вроде бы справная. И зачем выкинули?
«Миш, посмотри тазик, не дырявый ли? Можно прихватить с собой, вот мать обрадуется! Скажем, нашли. А это что? Смотри, какая лампа чудная!», – отозвалась девочка, направив луч на потолок. По верхним балкам пробежала тень, абажур всколыхнулся. Тоське стало жутко. Она опустила фонарик, и неуверенно добавила: «Миш, пойдем отсюда, а? Мать узнает, крику будет…»
Послышался шорох, и девочку накрыла волна тёплого, затхлого воздуха.
«Миш… ты где? Мишка, мне страшно, выходи! Пожалуйста…» – Тоська, заскулив точно щенок, попятилась к выходу, и, задев ногой что-то мягкое, повалилась навзничь. Фонарик упал, но не разбился, уткнувшись лучом в распахнутый недоумённо глаз брата, раскинувшегося на полу.
Мишу хоронили всем посёлком. Не было только Тоськи – после случившегося у девочки повредился рассудок: она так и не произнесла ни слова, после того, как её обнаружили на улице Коминтерна. Она сидела, обхватив руками колени, не проявляя абсолютно никакого интереса к окружающему миру.
Рыдала безутешная мать, отец с потемневшим от горя лицом избегал смотреть на обитый кумачом дощатый гроб, выставленный на табуретках у школы. Было много сирени – так много, что издалека собравшиеся казались бело-сиреневым пятном. Школьники стояли притихшие, смирные, с серьёзными лицами. Почти все были в красных галстуках. Миша тоже был в пионерском галстуке – его приняли в пионеры незадолго до смерти, но под белоснежной сорочкой у него на тесёмке был одет простой самодельный крестик – бабка настояла.
Пионеры этого, конечно, не знали, и после того, как Ян Белых, председатель пионерской дружины Краснохолмской школы, хрипловатым голосом продекламировал Багрицкого:
«Пусть звучат постылые, пошлые слова,
Что погибла молодость. Молодость – жива!»
отдали товарищу последний свой пионерский салют. Гроб забили гвоздями и погрузили в кузов украшенного траурными лентами грузовика. Надрывно и страшно школьный оркестр грянул траурный марш, разрывая сердца. Многие плакали. Грузовик медленно покатил по пыльной дороге на кладбище. Сиренево-белая всхлипывающая масса потекла следом.
После похорон народ потянулся к Скуридиным домой, кто половчее – сели за поминальный стол, остальным за неимением места пришлось разместиться на веранде, стоя. Владлен (Мишкин отец) опрокидывал в себя рюмку за рюмкой, и взгляд его становился всё злее. Неожиданно резко он встал из-за стола и вышел. Катерине было не до него: она суетилась, следила, всем ли досталась посуда, не кончился ли самогон, не пора ли ставить картошку. Она подкладывала гостям блинков, суетилась по поводу тех, кому не хватило места, лишь бы не думать… но это ей удавалось плохо, время от времени она застывала на месте, и слёзы тихо текли по её посеревшему от горя лицу.
Её мать, Александра Ивановна, внимательно следила за дочкой и за зятем. Прошло пять минут – Владлен не появился, и она тихо последовала за ним.
Опасения были не напрасны: она нашла Владлена в комнате, перед Тосей. Обезумевший мужчина сильно тряс дочь за плечи, заглядывал ей в лицо и громко шептал:
«Что там было? Скажи! Не молчи… Тося… Что ТАМ СЛУЧИЛОСЬ?»
Голова девочки болталась из стороны в сторону, словно у тряпичной куклы. Александра Ивановна крепкой рукой схватила сзади зятя за рубашку:
«Что же ты, аспид, делаешь?» – Она отшвырнула его от внучки с такой силой, что Владлен отлетел на пол. И откуда только сила взялась!
– Тосенька! – Она погладила внучку по светлым стриженым волосам:
– Папа не хотел, не ведает, что творит… Ох, горюшко! – Александра повернулась к зятю. – Ступай, милый, ступай.
Владлен продолжал сидеть на полу, обхватив могучими руками кудрявую голову.
– За что нам такое? За что?! – вскинул он на тещу покрасневшие глаза. По щекам струились непролитые на похоронах слезы.
– Бог ведает, – ответила Александра Ивановна.
– Бог?! Что это за бог, который позволяет убивать детей? – Владлен сжал кулак и потряс им над головой. – Нет никакого бога!
Александра Ивановна перекрестилась и строго посмотрела на зятя:
– Владлен Кирилыч, будет пить-то. Иди лучше Катю поддержи.
Мужчина тяжело встал и медленно вышел из комнаты.
На следующий день он, придя в свою артель, начал подбивать мужиков отправится в злополучный дом на Коминтерна. Это оказалось непросто – артельщики в целом идею поддержали, но когда доходило дело до личного участия, у каждого находились срочные дела. Лишь двое приняли приглашение, и то в надежде, что Владлен не пожалеет горячительного – этими героями стали вконец спившийся Витька Косой и Максим Плотников – здоровенный мужик, славившийся в поселке своей скупостью и никогда не упускавший случая выпить на дармовщинку. Условились после работы встретиться перед злополучным домом, в котором погиб Миша.
Скуридин не стал сообщать домашним о своем намерении, только предупредил, что задержится – мол, работы много.
Владлен
Владлена родители назвали в честь Владимира Ленина, взяв первые буквы от имени и псевдонима вождя мирового пролетариата, и мальчик сызмальства гордился этим. Его мать, Джамилю, отец привез из Узбекистана, отвоевав у басмачей. Это была немногословная и спокойная женщина. Потом, когда Кирилл Скуридин пропал без вести, она удивила всех: оставив единственного сына на воспитание двоюродной тетке мужа, вернулась в УзССР – просвещать женщин Востока – одурманенных и обездоленных. Там-то её и настигла пуля недобитого бандита.
Мальчик вырос на руках у двоюродной тётки. Несмотря на то, что тётка была очень набожна, Владлен в Бога не уверовал, скорее наоборот. Сколь ни уговаривала его тетка принять крещение, он лишь раздражённо отмахивался. Вспомнил о Боге лишь раз – когда жена рожала сына. Роды были очень тяжёлые, ребенок занял неправильное положение – фельдшер и акушерка разводили руками. Катя мучилась почти десять часов и потеряла много крови. Тогда он взмолился. В первый раз обратился он к тому, кого на протяжении жизни отталкивал и часто хулил. И оно, чудо, случилось! Вскоре потерявший надежду Владлен, не веря ушам своим, услышал слабый писк: у него родился сын!
Малыша немедленно забрали в детское отделение, но зато позволили новоиспечённому отцу взглянуть на Катю.
Он вручил жене нехитрый букет осенних цветов, которые за время долгого ожидания заметно пожухли, а она улыбнулась ему потрескавшимися губами:
– Спасибо. Отвернись, не смотри на меня. Я некрасивая.
– Ты у меня лучше всех! Спасибо за сына. Ты это брось… Ты у меня самая красивая, Катька… моя Катюша! – Нагнувшись, он поцеловал жену и поспешил выйти, чтобы она не заметила выступивших слез.
Сейчас глаза Скуридина были сухими. Он нервно курил, то и дело поглядывая на старые, с треснутым циферблатом часы – единственную вещь, оставшуюся ему на память об отце. Товарищи задерживались. Наконец, появился Витька Косой и молча пожал Владлену руку. На шее у Витьки был грязный, выцветший шарф, который связала его мать ещё до того, как её репрессировали. Вот на горизонте появилась могучая фигура Максима – судя по походке, он уже успел пропустить где-то стакан-другой дешёвого портвейна. Что ж такого? Угостили.
– Приветствую! – громко крикнул он Владлену и Витьке, пожимая им протянутые руки и обдавая запахом свежего перегара. – Ну? Пошли?
В сумерках дом казался не таким обшарпанным, как при дневном свете, хотя впечатление сильно портили впадины окон, обрамлённые зубчатыми осколками стекол.
Владлен взялся за кривую ржавую ручку и, распахнув дверь, вошел первым. За ним Витька с Максимом, причем последний громко икал.
Утроба дома казалась холодной и пустой. Владлен чиркнул спичкой, нащупал в кармане свечку, которую успел прихватить у тёщи. Это была тонкая церковная свечка – разгоревшись, она стала чадить, а потом совсем угасла.
– Сквозняк! – констатировал Витька. – Ты бы, Владлен, фонарь захватил что ли, али светильник какой.
– У моего Мишки был фонарик, – зло бросил Владлен. – Здесь где-то остался.
– Давай тряпку зажжём какую-нибудь! – икнул Максим.
Владлен снова чиркнул спичкой. Под ногами валялось битое стекло и всякая рухлядь. Скуридин достал из-за пазухи бутылку самогона и, плеснув немного на ближайшую ветошь, бросил спичку.
– Ты что, сдурел совсем, Скуридин? – почти одновременно вскрикнули мужики, но Владлен, скрестив руки на груди, улыбался, наблюдая дело рук своих. Всполохи пламени озаряли его спокойное, красивое лицо, с немного раскосыми, в мать, глазами.
– Зато светло! – наконец сказал он, и, подойдя к двери, выломал деревянную балку оклада. Балка загоралась неохотно. Ветошь прогорела, но вместо факела, на который рассчитывал Владлен, у него получилась палка с ярко-красным обугленным концом. Тогда мужчина поджёг другую кучу хлама, плеснув на неё самогона, чем опять обидел мужиков.
– Хорош добро переводить, – с досадой глядя на это безобразие, протянул Витька Косой. – Давай лучше по сто, да по домам. Того… утром придем, кады светло! Правда, Максим?
Плотников зачарованно смотрел в угол на кучу тряпья, до которой добралось жадное пламя. Внезапно куча вскочила на ноги и заорала благим матом. Испугавшись, Витька с Максимом бросились к выходу, толкая друг друга.
Владлен не мог пошевелиться, наблюдая, как корчится в страшных муках бывший библиотекарь Олешенко, пытаясь сбросить с себя горящую телогрейку, как, протягивая руки, идет к нему этот пылающий факел, и, споткнувшись о дырявый паркет, падает.
Пахло жжёной плотью. Страшный предсмертный крик эхом отталкивался от равнодушных стен.
На суде Владлен Скуридин виновным себя не признал, оправдываясь тем, что погибший был убийцей его сына Миши. Когда прокурор зачитывал приговор, Владлен был спокоен. За убийство по неосторожности ему бы дали минимум – Скуридин был везде на хорошем счету – но Владлен сам пошел под статью, сказав, что нисколько не раскаивается в том, что не помог человеку и не пытался его спасти.
Бывший библиотекарь был из «антиллигентов»: разочаровавшись в Советской власти, спился и деградировал. В тот день он спал, будучи мертвецки пьяным, в «нехорошем» доме, куда забрёл по чистой случайности, по тому же пьяному делу. Так говорили люди, но у Скуридина была своя правда. Владлен умер в тюрьме, в день сороковин сына, при невыясненных обстоятельствах.
Расплата
Франц Краузе сделал надрез, и фурункул излился зеленоватым гноем, от вида и запаха которого ассистирующая доктору Лизхен брезгливо отвернулась. Глаза отца над марлевой повязкой смотрели на неё насмешливо: «Да… медицина не для неё. Ей бы замуж, но это будет непросто», – думал немец, разглядывая бледное лицо с бесцветными глазами почти лишёнными ресниц – совсем как у него самого.
Промокнув тампоном воспалённую кожу и наложив повязку, доктор подошёл к умывальнику вымыть руки. Это была его собственная болезнь: он мыл руки после каждого действия – будь то операция, или простое рукопожатие. Открыв кран, доктор подставил ладони, но вода не шла. Послышалось какое-то урчание, что-то хлюпнуло, и в руки Краузе шлепнулась гадкая и склизкая лепёшка, напоминающая испражнение больного животного. Брезгливый немец тотчас отдёрнул руки и беспомощно посмотрел по сторонам – ему стало физически плохо от случившегося, появилась сухость во рту, закружилась голова.
– Лизхен…! – слабым голосом позвал он дочь. – Воды… битте!
Дочка, обменивавшаяся любезностями с пациентом, извинившись, выбежала из комнаты. Она скоро вернулась, неся поднос, на котором стояла большая эмалированная миска с водой. Прооперированного уже не было.
Девушка подошла к отцу: «Всё готово. Можете мыть».
Краузе сидел, безвольно опустив испачканные кисти рук, на кончиках пальцев застыла зловонная грязь. Он был мёртв.
Поднос выпал у девушки из рук – миска, расписанная подсолнухами, звякнув, опрокинулась на пол, обдав ноги покойника водой.
Эту смерть долго обсуждали в Холмах. «Бог шельму метит», – говаривала дородная казачка Наталья, качая на руках племянницу Сашу. Наталья имела в виду незаконную деятельность Краузе – будучи на редкость брезгливым, он, тем не менее, не гнушался такого страшного греха, как убийство младенца в утробе матери, и многие знали, что за определённую плату он брал этот грех на свою лютеранскую душу.
Наталья воспитывала деток, оставшихся сиротами после одной из таких «операций».
Однажды к Краузе пришла беременная женщина по имени Аксинья, уже имевшая четверо душ детей. У неё сильно тянуло живот, и, хотя срок был небольшой, живот выглядел огромным. Доктор не любил детей – особенно нищих, считая, что они непременно вырастают ворами и убийцами. У Аксиньи недавно умер муж, и немец, с отвращением глядя на её живот, сказал: «Двойня. Чем кормить собираешься?». Вдова, склонивши голову, молчала. Он тоже молчал, а потом взял да и предложил ей «операцию» бесплатно. Женщина заплакала, а Краузе спокойно ждал, глядя на неё равнодушными, выцветшими глазами – знал, что она согласится.
После «операции» Аксинья пришла домой, легла и больше не встала. Говорят, что отец Григорий отказался её причащать, хотя она и каялась. Аксинья прокляла Франца Краузе со всеми его потомками, а через несколько часов маленькая Сашенька, а с ней ещё трое деток, остались круглыми сиротами.
Вот тогда-то, Наталья, не имевшая своих деток, и взяла весь выводок к себе. Добрая и весёлая была женщина! Вырастив с мужем Иваном детей сестры, Наталья умудрилась под старость зачать своего. Маленькая Дарьюшка родилась крепкой и здоровой, и приёмные дети Натальи взяли моду баловать её – кто пряник принесёт, кто куклу, кто красивый лоскуток.
– Мотри, мать! Ить задарят совсем! – ворчит, бывало, Иван. А сам улыбается.
Прошли годы. Дарьюшка уехала в Москву учиться на врача, да и застряла там, превратившись в Дарью Ивановну. Александра Ивановна видела «младшенькую» последний раз на похоронах Натальи, своей приёмной матери.
Бабушка надела платок и вздохнула, посмотрев на Тосю, всё так же безучастно сидящую на кровати. Предварительно дав соседке, что оставалась приглядывать за девочкой, несколько советов, поцеловала внучку, перекрестила, и направилась к двери. Сердце было не на месте.
Она шла к зданию горсовета для разговора с большим начальником. Отсидев длиннющую очередь, Александра Ивановна наконец оказалась в просторном кабинете, на двери которого висела латунная табличка «Начальник пос. совета Лазарев И. И.»
– Александра! Ба! Вот это сюрприз!
Навстречу ей поднялся тот самый И. И. – а именно её младший брат Илья Иванович. Они не виделись очень давно, если не считать похороны Миши, но там было не до задушевных разговоров. Да и Илья стал большим начальником, свободного времени у него не было даже на то, чтобы обзавестись собственной семьёй.
– Илюшка! – Александра Ивановна обняла брата, звонко по-русски расцеловав его в щёки. Ей стало совестно оттого, что не навещала его, пока не потребовалось:
– Я ведь к тебе по делу, Илюш, вот ведь как. – Она опустила глаза.
Илья Иванович, конечно, знал обстоятельства гибели внучатого племянника, и про Владлена знал (даже пытался заступиться за него), но выслушал сестру не перебивая. Она говорила страшные, небывалые вещи, ему сначала даже показалось, что сестра повредилась умом от горя, потеряв внука, но её спокойная манера говорить, и чистый, лишённый признаков безумия взгляд успокоил его. Илья с детства привык доверять старшей сестре.
Этот дом нужно снести, – завершила Александра Ивановна свой рассказ, и он, кивнув, решил не откладывать дело в долгий ящик: снял конусообразную трубку тяжёлого аппарата, покрутил ручку.
– Барышня! С Движко соедините. Да. Жду… – Он достал портсигар, вытащил папиросу, закурил.
– Игнат Игнатыч? Лазарев говорит. Здравствуй, дорогой. Игнат Игнатыч, что у нас с застройкой на Коминтерна? У меня там дом один, как бельмо на глазу, одни неприятности. Страшное дело! Что?
Было слышно, как Движко что-то объясняет Илье Ивановичу, сестра не слышала, что именно, но, судя по вытянувшемуся лицу брата, сразу поняла, что имеются к сносу дома серьёзные препятствия.
– Да какой там к черту краеведческий музей! – крикнул в трубку Лазарев. – Дом в аварийном состоянии, под снос. Ну и что, что там.… Как ты сказал?…Понял. Понял. Ладно. И ты будь здоров, Игнат Игнатыч.
Илья Иванович оторвал рожок от покрасневшего уха и выдохнул:
– Этот дом хотят реставрировать. Помнишь там, когда мы были детьми ещё, собирались всякие… он понизил голос до шепота… нигилисты и морфинисты? Теперь говорят, что это был первый в области революционный кружок, сиречь подпольная организация. И в районе есть мнение, что теперь в этом доме будет музей Революции имени Клары Цеткин!
Александра Ивановна побледнела и всплеснула руками. Помолчали. Наконец, она поднялась:
– Ну что же, пора мне, Илюшенька. Да и тебя в приёмной полно народу дожидается, – сказала она. – Ты заходил бы к нам, а? Пирогов напеку. Приходи в воскресенье, Илья!
– Я… не могу, – выдавил из себя Лазарев. – Прости Саша. У меня тут под боком крыса сидит из района… Я к тебе, а он – донос в райсовет: мол, так и так, был в воскресенье в доме гражданки Афанасьевой, посещающей молельный дом! И мне плохо, и тебе аукнется.
Александра посмотрела на брата с плохо скрытой жалостью и, поцеловав его на прощанье в жёсткую, подёрнутую, словно инеем, щёку, пошла к выходу.
– Саша! – услышала она у самой двери и обернулась.
– Пирожки с капустой напеки, и с грибами. И ватрушки не забудь: они у тебя – объеденье!
Илья Иванович улыбнулся, и, закрыв глаза, помотал головой, словно разгоняя аппетитные воспоминания: «Во сколько приходить-то?»
Наследство Лизхен
Отец ошибался насчет Лизхен – она оказалась не так чувствительна: по крайней мере, к его смерти. На похоронах не проронила ни слезинки, зато беседовала с пастором до самого вечера и на поминальной трапезе обнаружила недурной аппетит. Организацию похорон взял на себя похоронный дом «Юкельзон и сыновья», услуги которого обошлись в копеечку (зато они умудрились за сутки отыскать настоящего лютеранского пастора!), но фроляйн Краузе не стала экономить на памяти родителя – благодаря ему, она становилась единственной наследницей вполне ощутимого состояния.
Но и фрау Лизхен просчиталась насчет своего папеньки! Толи старик предчувствовал скорую смерть, и его угнетали видения, о которых он как-то пытался ей рассказать, толи хотел зло посмеяться над дочерью, за то, что была абсолютно равнодушна к медицине, сейчас уже не установишь. Но когда адвокат, старинный приятель Краузе, откашлявшись, прочел последнее волеизъявление её отца, Елизавета Францевна ощутила, что земля уходит из-под ног, по вискам бьют огненные молоточки, и шатается, словно хлябь небесная, лепной потолок казённого кабинета:
«…Всё моё имущество, включая закладные и ценные бумаги, и пятьдесят тысяч наличными, завещаю приюту св. Петра в Мюнхене. Дом в Холмах и клинику (аптеку), основанную в нём, со всей меблировкой, а также коляску и пару лошадей, оставляю своей жене, Марии Краузе, доказательства смерти которой до сих пор не были обнаружены. До тех пор, пока моя жена, Мария Краузе не предъявит права на дом и клинику, вышеозначенное имущество принадлежит моей дочери Елизавете Краузе».
Справедливости ради стоит отметить, что данное завещание стало неожиданностью не только для бедной Лизхен, но и для некоторых людей, проявляющих к её наследству определённого сорта интерес. После оглашения завещания помощница столичного адвоката получила серебряный рубль за ценные сведения.
Лидия Криворучко, заплатившая за информацию немалую для себя сумму, тут же бросилась бегом на Сиреневую пятнадцать, где после очередной пьянки приходил в себя её любовник – пьяница и альфонс Сенька Колос, тот самый пациент немецкого доктора, что флиртовал с Лизхен за пять минут до кончины её отца. Узнав, что «папаша Краузе» умер, оставив, скорее всего, дочери недурное наследство, Сенька решил жениться на ней, справедливо рассчитав, что состояние доктора – недурная компенсация за наружность бедной Лизхен.
– Вот! – Лидия затрясла перед лицом сожителя сложенной в дулю кистью. – Накось выкуси! Иди, голубчик, иди. Бросай свою Лидушку, бросай – беги к этой немчуре драной!
Сенька крутил нечёсаной башкой и никак не мог взять в толк, о чем толкует любовница. Он тупо уставился на фигу, маячившую у него перед глазами, и, икнув, стукнул по ней лбом так, что Лидочка вскрикнула от боли.
– Ирод проклятый! Ты же с этой руки жрешь! – крикнула она в сердцах, но тут же осеклась и запричитала: – За что же ты меня, Сенечка, так обидел? На кого ты меня променял, родимый? – Семен выпятил грудь в засаленной майке, о которую имел обыкновение вытирать руки после еды, снова громко икнул и воззрился сердито на Лидию.
– Молчать! Дура… Я же хочу нам жись обеспечить, Лидка! – Он опять икнул и стукнул кулаком по столу. – Немчура, говоришь? Что с того? Ну, поживу с ей полгодика – для виду, а потом… а потом уедем мы с тобой, Лидуся, к морю. Домик купим… заживём! Я же, Лидусь, только твой, знаешь ведь! – «Лидуся», закрыв глаза, с глупой улыбкой на увядающем лице слушала эти соловьиные трели, раскачиваясь всем телом в такт словам, пока последняя фраза не заставила её спуститься с небес на грешную землю: «Пива принесла чтоль?»
Лидия достала из буфета початую бутылку мадеры и зло прошипела:
«Звиняйте пан, пыва нет», – и сердито сдув упавшую на глаза прядку рыжих волос, выложила припрятанный козырь.
– Нету ни фига у твоей Лизки за душой. Немчура-то всех обманул, оставил дочке только дом, и то до тех пор, пока мамхен её не заявится. Так то!
Сенька схватил подругу за руку повыше локтя:
– Брешешь, сука!
– А вот и нет, а вот и нет, пусти, а то заору! – Лида высвободила руку, потирая наливающийся синяк: – Дурак ты, Сеня! Ой, дурак!
Тут она увидела, что сожитель медленно встает, и в глазах его появляется пустая и чёрная муть. Завизжав, выскочила Криворучко вон из собственной квартиры – чтобы вернуться, когда «дролечка» выжрет остатки мадеры и будет глушить жёлтую канарейку Фифочку громким раскатистым храпом.
Бродила Лидия в тот день по всему городу, обошла уж всё и вдоль, и поперёк, пока, наконец, ноги не привели её к клинике Краузе. Она посмотрела на занавешенные тёмным сукном окна, и в голове её родилась дерзкая мысль: «Что, если прийти сейчас к этой Лизхен и…» Что дальше Лидия не знала, но идея её захватила, и она решила действовать по обстоятельствам – «как бог на душу положит».
Она остановилась перед дубовой дверью и три раза постучала оловянным молоточком по латунной пластине. Долгое время никто не открывал, но вскоре за тёмным сукном блеснул свет. Скрипнула дверь, и в проёме показалось маленькое, словно скукоженное, старушечье лицо, подсвеченное дрожащим светом масляной лампы. «Хто тут?» – Старуха близоруко щурилась на гостью.
– Мне нужна фроляйн Краузе, где она? – замогильным шёпотом произнесла Лидия. Она заметила, что её тон произвёл нужный эффект на старую перечницу, потому как та перекрестилась свободной от лампы рукой и прошептала неуверенно: – Хозяйка болеет, просила не будить. Но я разбужу её, коли надо…
Лидия пожалела, что не навела заранее справки и не узнала имени старухи. Могло бы получиться бесподобно! Но…
– Иди… иди… разбуди мою милую Лизхен и скажи ей, что я вернусь к ней. А ты сама-то, небось, признала меня?! – последние слова госпожа Криворучко произнесла таким тоном, что бедная старая женщина вздрогнула, и, не оглядываясь, засеменила в комнату хозяйки. «Воображаю, как испугается проклятая немчура», – ухмыльнулась Криворучко.
Дожидаться результата Лидия не стала, и, сорвав овации невидимых зрителей, театрально поклонилась, и, словно шаловливая девчонка, перепрыгивая на ходу большие лужи, побежала домой, где ошалевшая от храпа канарейка раскачала клетку, и та, упав на ковер, открылась, к большой радости кота Барсика…
Лидия легла под бок вонючего, развалившегося на тахте Сеньки, и, обняв его, уснула счастливая – если не считать бедную Фифочку, день выдался на редкость удачным.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































