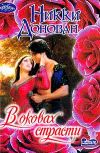Текст книги "Французская волчица. Лилия и лев (сборник)"

Автор книги: Морис Дрюон
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Хотите, моя королева, побрататься? – спросил он. – Согласны ли вы скрепить союз наших сердец кровью в знак того, что я навсегда стану вашей опорой, а вы – навсегда моей дамой?
Голос Мортимера дрогнул от внезапно охватившего его волнения, и трепет его передался королеве. Ибо то, что предлагал он, заключало в себе одновременно и колдовство, и страсть, и веру – некую смесь божественного и сатанинского, рыцарских обрядов и плотского наслаждения, слитых воедино. Речь шла о кровных узах, существовавших между соратниками и легендарными влюбленными, этот обычай тамплиеры принесли с Востока, из крестовых походов; это были также и любовные узы, объединявшие несчастливую в браке жену с избранным ею возлюбленным, причем сам обряд свершался иногда в присутствии мужа, при условии, что любовь останется целомудренной… или по крайней мере будет считаться таковой. Это была клятва плоти, более сильная, нежели клятва словесная; ее нельзя было нарушить, взять обратно или расторгнуть. Два человека, принесшие ее, тем самым считались связанными теснее, чем близнецы, вышедшие из одного чрева; то, чем владел каждый из них, становилось достоянием другого; они обязаны были защищать друг друга от всех бед и не имели права пережить один другого. «Они, видно, побратимы»{25}25
Они, видно, побратимы… – Братание посредством смешивания крови, практиковавшееся с глубочайшей древности, с эпохи так называемого первобытного строя, еще было в ходу в конце средних веков. Оно существовало в исламе; наблюдалось и среди дворянства Аквитании, быть может, по традиции, оставленной от мавров. Его следы попадаются в некоторых показаниях процесса тамплиеров. Похоже, что этот обычай сохранился как средство против колдовства и в некоторых цыганских племенах. Братание могло скрепить заключение дружбы, компаньонаж или узы любви – не только духовной. Самые известные союзы такого рода, описанные в средневековой рыцарской литературе, были заключены Жираром Руссильонским и дочерью императора Византии (в присутствии их будущих супругов), рыцарем Говеном, графиней де Ди, знаменитым Персивалем.
[Закрыть], – так говорили шепотом о некоторых парах, трепеща от страха и зависти.
– И я смогу тогда просить вас о чем угодно? – едва слышно промолвила Изабелла.
Вместо ответа он прикрыл веками свои серые глаза.
– Я весь ваш, – добавил он, помолчав. – Вы можете потребовать от меня все, что угодно. Сами же вы можете одаривать меня тем, чем сочтете нужным. Любовь моя будет такой, какой вы пожелаете. Я могу нагой лежать рядом с вами, обнаженной, и не прикоснусь к вам, если вы мне запретите.
На самом же деле их желания были совсем иные, но они, следуя установленной традиции, как бы выполняли торжественный ритуал. Влюбленный обязывался доказать свою душевную твердость и глубину своего уважения. Он соглашался пройти через это галантное испытание, срок коего определяла дама; от нее зависело, будет ли оно длиться бесконечно или от этого откажутся сразу. Рыцарь, перед тем как надеть доспехи, всю ночь молился и клялся защищать вдов и сирот, а нацепив шпоры и отправившись на войну, сразу же начинал грабить, насиловать и жечь, своим мечом превращая сотни женщин во вдов, а детей в сирот!
– Вы согласны, моя королева? – спросил он.
Изабелла в свою очередь ответила ему легким движением век. Ни он, ни она никогда не совершали и даже не видели обряда побратимства и вынуждены были поэтому измышлять свою собственную церемонию.
– Из пальца, лба или сердца? – спросил Мортимер.
Можно было проколоть себе палец, по капле собрать кровь в чашу, смешать ее и выпить вместе. Можно было сделать надрез на лбу, там, где начинают расти волосы, и, прижавшись друг к другу головами, обменяться мыслями…
– Из сердца, – ответила Изабелла.
Он жаждал именно такого ответа.
Ночную тишину прорезал крик петуха, раздавшийся где-то совсем недалеко. Изабелла подумала, что занимающийся день будет первым днем весны.
Роджер Мортимер расстегнул камзол, сбросил его на пол, сорвал с себя рубашку и предстал перед Изабеллой с обнаженной, выпуклой грудью.
Королева расшнуровала корсаж, легким движением плеч сбросила его, открыв изящные белые руки и грудь – два розовых плода, грудь, которую не изуродовало четырехкратное материнство; в жесте ее чувствовалась гордость, решимость и вызов.
Мортимер вынул из-за пояса кинжал, Изабелла вытащила длинную булавку с жемчужиной на конце, которой были заколоты ее косы, и они, эти ручки античной амфоры, мягко упали ей на плечи. Глядя прямо в глаза королеве, Мортимер решительным движением рассек себе кожу, и между русыми волосами, курчавившимися на груди, побежала тонкая алая струйка. Изабелла таким же решительным жестом уколола себя булавкой под левую грудь и оттуда, словно сок из спелого плода, закапала кровь. Скорее от страха перед болью, нежели от самой боли, у нее чуть дрогнули уголки губ. Затем они подошли ближе друг к другу. Приподнявшись на цыпочки, Изабелла прижалась грудью к могучему мужскому торсу так, что обе их раны слились в одну. Каждый остро ощущал близость чужого тела, к которому прикасался впервые, и теплоту крови, принадлежавшей отныне им обоим.
– Друг, – сказала она, – возьмите мое сердце, а я возьму ваше, ибо я живу только им.
– Я возьму его, дорогая, пусть оно бьется в груди вместо моего, – ответил он.
Они не могли оторваться друг от друга, затянув до бесконечности этот ни на что не похожий поцелуй, где вместо губ соприкасались раны. Их сердца бились в унисон, бились неистово, безудержно, и каждый удар сердца отдавался в груди другого. После трех лет целомудренной жизни Мортимера и пятнадцати лет, которые провела Изабелла в ожидании любви, комната поплыла перед их глазами.
– Обними меня крепче, друг, – прошептала она.
Ее уста приблизились к белому шраму, рассекавшему губу Мортимера, и рот с мелкими, как у зверька, зубами приоткрылся, словно готовясь укусить.
* * *
Английский бунтовщик, бежавший из Тауэра, могучий сеньор Уэльской марки, бывший наместник Ирландии лорд Мортимер барон Вигмор, ставший два часа назад любовником королевы Изабеллы, не помня себя от гордости и счастья, весь во власти грез, спустился по особой лестнице, предназначенной для прислуги.
Королеве не спалось. Может быть, позже ее и сморит усталость, но сейчас она была ослеплена, ошеломлена, как будто в ней продолжала бешено вращаться некая комета. Растерянно и благодарно смотрела она на измятую, опустевшую постель и упивалась внезапно открывшимся ей, неведомым ранее счастьем. Чтобы сдержать крик счастья, ей – кто бы поверил? – пришлось впиться зубами в плечо мужчины. Раскрыв размалеванные ставни, она стояла у окна. Сквозь утреннюю дымку над Парижем подымалась волшебная заря. Неужели Изабелла прибыла сюда только вчера вечером? Да и существовала ли она до этой ночи? Неужели это был тот самый город, где протекло ее детство? На ее глазах рождался новый мир.
Под стенами дворца текли серые воды Сены, а на другом берегу возвышалась старая Нельская башня. Вдруг Изабелла вспомнила свою невестку Маргариту Бургундскую. Ее охватил ужас. «Что я наделала тогда! – подумала она. – Что я наделала!.. Если бы я только знала!»
Все влюбленные женщины с первого дня сотворения мира и женщины, живущие сейчас в любом уголке земли, казались ей сестрами, избранными созданиями. А покойная Маргарита, которая крикнула ей после суда в Мобюиссоне: «Я познала такое наслаждение, перед которым ничто все короны мира, и я ни о чем не жалею!» Сколько раз Изабелла вспоминала этот крик, не понимая его смысла. А в это утро, в утро новой весны, она наконец поняла его, познав силу мужской любви, радость отдавать себя всю и получать взамен все. «Сегодня я бы не выдала ее ни за что на свете!» И то, что она раньше считала со своей стороны проявлением царственной справедливости, вызывало теперь у нее стыд и угрызения совести, словно это был единственный грех, который она совершила за всю свою жизнь.
Глава VIЭтот благодатный год, год 1325
Весна 1325 года стала для королевы Изабеллы порой очарования. Ее восхищало утреннее солнце, игравшее на крышах домов; в садах щебетало множество птиц; колокола всех церквей, всех монастырей и даже большой колокол Собора Парижской Богоматери, казалось, отбивали часы счастья. Звездные ночи были полны благоухания сирени.
Каждый день приносил свою долю удовольствий: состязания на копьях, турниры, загородные прогулки, охота. Благополучием дышал даже столичный воздух, разжигая вкус к развлечениям. На публичные увеселения щедро отпускались средства, хотя бюджет казны за предыдущий год был сведен с дефицитом в тринадцать тысяч шестьсот ливров, причиной чему, по всеобщему мнению, была Аквитанская кампания. Для того чтобы пополнить казну, епископов Руана, Лангра и Лизье обложили штрафом в размере, соответственно, двенадцати, пятнадцати и пятидесяти тысяч ливров за насилия, учиненные ими в отношении членов их капитулов и слуг короля; итак, эти излишне властолюбивые прелаты покрыли расходы на войну. А кроме того, ломбардцев еще раз принудили раскошелиться и заплатить за право заниматься своим ремеслом.
Так оплачивалась роскошь двора; и все жадно тянулись к развлечениям ради удовольствия покрасоваться перед другими. И все, начиная со знати, а за ней горожане и даже простой люд, стремясь скрасить жизнь, тратили чуть больше того, чем позволяли средства. Бывают порой такие годы, когда словно сама судьба улыбается, наступает передышка, отдых от тягот повседневной жизни… Продают и покупают вещи, которые принято называть излишней роскошью, как будто может быть излишним стремление наряжаться, обольщать, одерживать, победы, предаваться любви, вкушать редкостные блюда – плод человеческой изобретательности, пользоваться всем тем, что провидение и природа дали человеку, дабы мог он вволю насладиться своим исключительным положением во вселенной.
Многие, конечно, жаловались, но не на то, что они жили в нужде, а на то, что не могли удовлетворить всех своих желаний. Жаловались на то, что не столь богаты, как первые богачи, и не имеют столько, сколько имеют те, у кого есть буквально все. Погода стояла на редкость ясная, торговля процветала как никогда. От крестового похода отказались; не было больше разговоров об увеличении войска или о снижении курса ливра до аньеля. Малый совет занимался вопросом о сохранении рыбных богатств в реках; а на берегах Сены, усевшись рядком, грелись на майском солнце рыболовы с удочками.
Даже воздух в эту весну был напоен любовью. Уже давно не справляли столько свадеб, никогда еще не появлялось на свет столько внебрачных детей. Девушки были сметливы и податливы, юноши предприимчивы и хвастливы. Как ни старались чужестранцы, им все равно не удавалось объять всех чудес столицы Франции, отведать всех вин, подаваемых в харчевнях, а ночи были слишком коротки для того, чтобы испытать все удовольствия, которые предлагал Париж.
О, еще долго будут вспоминать эту весну. Разумеется, люди болели, оплакивали умерших, матери провожали на кладбище своих младенцев, были парализованные, были обманутые мужья, поносившие легкость нравов, были ограбленные лавочники, обвинявшие стражу в том, что она плохо несет караул; люди слишком жадные или чересчур беззаботные разорялись, пожары лишали семьи очага; случались и преступления, но все это было, так сказать, неизбежными бедами в жизни, и повинны в них не были ни король, ни его Совет.
В действительности же это благоденствие было плодом счастливого и мимолетного стечения обстоятельств, и пользовались им все те, кому довелось жить в 1325 году, быть молодым или зрелым, или просто-напросто обладать здоровьем. И было непростительной глупостью не оценить этого благодеяния и не возблагодарить господа за то, что он ниспослал его вам. Парижане еще полнее предавались бы наслаждениям этой весны 1325 года, если бы знали, как придется им прожить остаток дней своих! Вряд ли кто-нибудь поверил бы, даже дети, зачатые в эти чудесные месяцы в благоухавших лавандой постелях, не поверили бы этой сказке, если бы им ее рассказали. Тысяча триста двадцать пятый! Чудесный год, но как мало требовалось времени, чтобы о нем осталось лишь воспоминание как о «счастливом времени».
Ну а королева Изабелла? Королева Англии словно воплощала в себе все женское очарование и все радости жизни. Ее провожали взглядом не только потому, что она была английской королевой, не только потому, что она была дочерью великого короля, о чьих финансовых эдиктах, кострах и наводящих ужас процессах уже забыли, но зато помнили об указах, принесших королевству мир и мощь, – ее провожали взглядом потому, что она была прекрасна и казалась преисполненной счастья.
В народе говорили, что ей больше подошла бы корона, чем ее брату Карлу Красавчику, весьма любезному государю, но слишком недалекому, и люди спрашивали себя, так ли уж хорош был закон, принятый Филиппом Длинным, лишивший женщин права престолонаследия. Ну и глупцы, должно быть, эти англичане, если они причиняют неприятности такой славной королеве!
В свои тридцать три года Изабелла была столь ослепительно хороша, что ни одна даже самая юная дева не могла соперничать с нею. Самых прославленных красавиц Франции затмевало одно присутствие Изабеллы. И все французские кокетки мечтали походить на нее, шили такие же платья, подражали ее жестам, ее взглядам и улыбке, так же укладывали косы.
Влюбленную женщину легко угадать по походке даже со спины; плечи, бедра, поступь Изабеллы – все выражало счастье. Ее почти всегда сопровождал лорд Мортимер, который сразу же после прибытия королевы завоевал сердца парижан. Люди, которые еще в прошлом году считали его чересчур хмурым, надменным и слишком гордым для изгнанника, которые даже в его добродетели усматривали молчаливый упрек, те же самые люди вдруг обнаружили в Мортимере редкий характер, необыкновенное обаяние – словом, человека, достойного всяческого восхищения. Его черный наряд, украшенный лишь несколькими серебряными пряжками, перестал казаться зловещим – просто человек упорно носит траур по своей утраченной родине.
Хотя Мортимер и не занимал никаких должностей при дворе английской королевы, ибо это было бы слишком явным вызовом по отношению к королю Эдуарду, на самом деле именно он руководил переговорами. Епископ Норич находился под его влиянием; Джон Кромвел при всяком удобном случае заявлял, что с бароном Вигмором обошлись несправедливо и что со стороны английского короля было безумием оттолкнуть от себя столь выдающегося человека; граф Кентский окончательно проникся к Мортимеру дружескими чувствами и ничего не решал, не посоветовавшись с ним. Да и из самой Англии до Мортимера доходили вести, свидетельствующие о том, что его считают подлинным вождем партии, борющейся против Диспенсеров.
Все знали и считали вполне естественным, что лорд Мортимер после ужина остается у королевы, которая, по ее собственным словам, держала с ним совет. Каждую ночь, выходя из апартаментов Изабеллы, он будил Огля, бывшего брадобрея Тауэра, ставшего ныне его камердинером, который в ожидании хозяина дремал на сундуке. Они переступали прямо через слуг, спавших в коридорах на каменных плитах, но те настолько привыкли к их шагам, что даже не открывали глаз, чтобы взглянуть на ночных гостей.
Мортимер возвращался в свое жилище в Сен-Жермен-де-Пре, где его встречал светловолосый, розовощекий и предупредительный Элспей, которого он считал – о святая наивность влюбленных! – единственным человеком, посвященным в тайну его связи с королевой. На обратном пути он шагал как победитель, вдыхая свежий предрассветный воздух.
Было решено, что королева вернется в Англию только тогда, когда сможет вернуться и он сам. Связь между ними, скрепленная клятвой, с каждым днем, с каждой ночью становилась все теснее и крепче, а маленький белый след на груди Изабеллы, к которому Мортимер, как бы совершая обряд, прикасался перед разлукой губами, был наглядным свидетельством того, что отныне они вверили друг другу свои судьбы.
Пусть женщина даже королева, любовник всегда будет ее повелителем; Изабелла Английская, способная одна, без поддержки, противостоять семейным неурядицам, изменам короля и ненависти двора, начинала трепетать, когда Мортимер клал руку ей на плечо, у нее падало сердце, когда он выходил из ее опочивальни, и она ставила свечи в церквах, дабы возблагодарить бога за то, что он послал ей такой чудесный грех. Если Мортимер отсутствовал хотя бы час, она мысленно усаживала его в самое удобное кресло и тихонько беседовала с ним. Каждое утро, прежде чем кликнуть своих придворных дам, она хоть на минуту занимала то место в кровати, которое покинул ее любовник. Одна матрона поведала ей кое-какие секреты, весьма полезные для дам, искавших удовольствия вне брака. При дворе сплетничали о связи королевы с Мортимером, но никто не видел в том ничего худого, ибо то, что Изабелла была от любви на седьмом небе, казалось всем справедливым возмещением за все ее муки.
Предварительные переговоры затянулись, и только 31 мая между Изабеллой и ее братом – причем Эдуард согласился на это скрепя сердце – был наконец подписан договор, по которому Англия сохраняла свой Аквитанский домен, но без Ажене и Базаде, то есть областей, занятых французской армией в предыдущем году; кроме того, английский король должен был выплатить шестьдесят тысяч ливров… Тут Валуа наотрез отказался идти даже на малейшие уступки. Понадобилось посредничество папы, для того чтобы прийти к соглашению, которое, как непременное условие, предусматривало приезд Эдуарда во Францию, где он должен был принести присягу верности; однако это ничуть ему не улыбалось не только по соображениям престижа, но и по соображениям личной безопасности. В конце концов решили прибегнуть к уловке, которая, по-видимому, удовлетворяла всех. Было условленно, что для принесения присяги будет назначен определенный день, но затем, в последнюю минуту, Эдуард скажется больным, что, впрочем, вряд ли будет ложью, ибо, как только речь заходила о его поездке во Францию, на него нападал странный недуг: он тревожился, бледнел, начинал задыхаться, прислушивался к учащенному биению сердца и часами лежал, тяжело дыша. Король передаст своему старшему сыну, юному принцу Эдуарду, титул и владения герцога Аквитанского и пошлет его вместо себя для принесения присяги.
Каждый считал, что выигрывает от этой комбинации. Эдуард избавлялся от необходимости совершить путешествие, при одной мысли о котором его охватывал страх, Диспенсеры могли не бояться утратить свое влияние на короля. Королева вновь соединялась со своим горячо любимым сыном, в разлуке с которым она, несмотря на свое увлечение, очень страдала. Мортимер понимал, как выгодно для его будущих планов присутствие наследного принца среди сторонников королевы.
А сторонников ее собиралось во Франции все больше и больше. Эдуард только дивился тому, что многим его баронам в конце весны вдруг понадобилось посетить свои французские владения, и он сильно обеспокоился, узнав, что ни один из них не вернулся назад. Со своей стороны Диспенсеры держали в Париже с десяток соглядатаев, доносивших Эдуарду о поведении графа Кентского, о близости Мальтраверса с Мортимером, о той оппозиции, что группировалась при французском дворе вокруг королевы. Официально переписка между двумя супругами велась в весьма учтивом тоне и, объясняя в пространных посланиях причины затяжки переговоров, Изабелла называла Эдуарда «нежно любимый». Но Эдуард отдал приказ адмиралам и шерифам портов перехватывать, невзирая на лица, всех посланцев, всех гонцов с письмами королевы, епископа Норича или любого лица из их окружения. Этих посланцев должны были доставлять королю под надежной охраной. Но разве можно было перехватать всех ломбардцев, перевозивших заемные письма из одной страны в другую?
Однажды, когда Мортимер прогуливался в Париже по кварталу Тампль в сопровождении лишь Элспея и Огля, его едва не убило каменной глыбой, свалившейся со строившегося здания. Он спасся только потому, что глыба, падая, с грохотом ударилась о балку строительных лесов. Он счел это обычным уличным происшествием, но тремя днями позже, когда он выезжал от Робера Артуа, перед самой мордой его лошади упала огромная лестница. Мортимер решил потолковать об этом с Толомеи, знавшим лучше чем кто-либо другой тайную жизнь Парижа. Сиеннец вызвал одного из руководителей братства каменщиков Тампля, которые, несмотря на роспуск ордена, сохранили свои льготы. И покушения на Мортимера прекратились. Более того, теперь, едва завидев одетого в черное английского сеньора, каменщики, сняв шапки, почтительно приветствовали его с высоты лесов. Тем не менее Мортимер взял за правило выходить только с усиленным эскортом и, боясь отравы, заставлял проверять свое вино рогом нарвала. Нищих, живших на подачки Робера Артуа, просили следить за всем происходившим на улицах и прислушиваться к разговорам. Угроза, нависшая над Мортимером, только усилила любовь, которую питала к нему королева Изабелла.
Но вот внезапно в начале августа, незадолго до срока, намечаемого для принесения присяги англичанами, его высочество Валуа в возрасте пятидесяти пяти лет, так твердо забравший власть в свои руки, что его обычно называли «вторым королем», был сражен нежданным недугом.
Уже в течение нескольких недель он находился в гневливом состоянии и раздражался по любому пустяку, особенно же сильную ярость, перепугавшую всех его близких, вызвало неожиданное предложение короля Эдуарда поженить их самых младших детей – Людовика Валуа и Иоанну Английскую, которым было около семи лет. Возможно, Эдуард понял, правда с запозданием, что совершил оплошность, отказавшись два года назад женить своего старшего сына на дочке Валуа, а возможно, он рассчитывал таким путем втянуть своего будущего свата в игру и отторгнуть его от партии королевы. Во всяком случае, его высочество Карл принял это предложение самым удивительным образом: расценив шаг Эдуарда как вторичное оскорбление, он впал в такое неистовство, что перебил все, что попалось под руку – а это было не в его привычках. В лихорадочном возбуждении вершил он государственные дела; то его выводила из себя медлительность, с какой парламент принимал решения, то он затевал спор с Милей де Нуайэ по поводу отчетов, представляемых Счетной палатой, и тут же начинал жаловаться, что устал от всех своих обязанностей.
Однажды утром, когда он заседал в Совете и собирался подписать какую-то бумагу, гусиное перо вдруг выскользнуло у него из рук и, падая, забрызгало чернилами голубой камзол. Он наклонился, словно намереваясь поднять упавшее перо, но не смог распрямиться; рука его с побелевшими, словно мраморными, пальцами безжизненно повисла вдоль тела. Его поразила внезапно воцарившаяся тишина; он так и не понял, что упал с кресла.
Когда его подняли, он был без сознания, неподвижные глаза закатились, словно он неотрывно глядел куда-то влево, рот перекосился. Лицо его побагровело, стало почти лиловым. Спешно послали за лекарем, который, явившись, отворил больному кровь. Так же как и его брата, Филиппа Красивого, одиннадцать лет назад, недуг поразил его мозг, расстроив таинственный механизм, управляющий волей. Решили, что он умирает; его перевезли домой, и многочисленные домочадцы, проживавшие у него в особняке, уже оплакивали потерю.
Однако после нескольких дней, в течение которых лишь слабое дыхание свидетельствовало, что он еще жив, состояние больного, казалось, начало улучшаться. К нему вернулась речь; правда, говорил он неуверенно и невнятно, запинаясь на некоторых словах. Куда девались его многословие и ораторский пыл! Правая нога и рука, выпустившая гусиное перо, не повиновались ему.
Неподвижно сидя в кресле, задыхаясь под грудой одеял, в которые его почему-то кутали, бывший король Арагона, бывший император Константинопольский, граф Романьский, пэр Франции, неизменный кандидат на престол Священной Римской империи, покоритель Флоренции, победитель Аквитании, вдохновитель крестовых походов вдруг осознал, что все почести, которых только может добиться человек, теряют смысл, когда одолевает немощь. Карл Валуа, с детства стремившийся к приобретению мирских благ, открыл внезапно в себе иные желания. Он потребовал, чтобы его перевезли в замок Перрей, вблизи Рамбулье, хотя раньше даже не заглядывал в это свое владение; теперь этот замок вдруг стал ему дорог, ибо в силу необъяснимой логики больных он решил, что именно там сможет найти исцеление.
Мысль о том, что его поразил тот же недуг, который свел в могилу старшего брата, неотступно преследовала этого человека, чей ум, утратив прежнюю живость, все же сохранял ясность. В своих былых деяниях искал он причину той кары, что ниспослал ему всевышний. Лишившись сил, он стал набожным. Он думал о Страшном суде. Однако гордецам ничего не стоит убедить себя в том, что их совесть чиста; так и Валуа не нашел в прошлом ни единого деяния, в каком мог бы упрекнуть себя. Во время всевозможных кампаний, отдавая приказы о грабежах и избиениях, облагая непосильной данью завоеванные или освобожденные провинции, он, по твердому своему убеждению, действовал правильно, в соответствии со своими правами военачальника и наместника короля. Одно лишь воспоминание вызывало у него угрызение совести, один лишь совершенный им поступок, по его мнению, стал причиной обрушившейся на него кары, одно имя терзало его, когда он мысленно прослеживал всю свою жизнь, имя Мариньи. Ибо никогда и ни к кому не испытывал он ненависти, кроме как к Мариньи. В отношении всех прочих людей, с которыми он обошелся грубо, подверг наказанию, пыткам или отправил на тот свет, он действовал в убеждении, что трудится для общего блага, которое уже давно разучился отделять от своих личных честолюбивых устремлений. А вот Мариньи, Мариньи он ненавидел лютой ненавистью, как может только ненавидеть человек человека. Он сознательно лгал, выдвигая против Мариньи обвинения; он давал сам и заставил других давать ложные показания против этого человека. Он не останавливался ни перед подлостью, ни перед низостью, лишь бы отправить бывшего первого министра, коадъютора и правителя королевства, человека, которому в то время было меньше лет, чем сейчас ему самому, на монфоконскую виселицу. Его толкнула на это лишь жажда мести, злоба при мысли о том, что кто-то другой более могуществен во Франции, чем он, Валуа.
И вот теперь, сидя во дворе своего замка Перрей, наблюдая за полетом птиц и глядя на то, как конюшие выводят прекрасных лошадей, на которых ему уже больше никогда не ездить верхом, Валуа почувствовал любовь – это слово поразило его самого, но более подходящего не существовало – почувствовал любовь к Мариньи, полюбил память о нем. Как ему хотелось, чтоб его враг был еще жив, они бы тогда помирились, поговорили о том, что знали и пережили вместе, о всех тех делах, по которым они так яростно спорили друг с другом. Он сильнее тосковал по бывшему своему сопернику, чем по старшему брату Филиппу Красивому, по брату Людовику д'Эвре и даже по двум первым женам; порой, когда Карл думал, что он один, он вслух беседовал с покойным, и проходившие мимо слышали отрывки его разговора.
Каждый день он отправлял одного из своих камергеров с кошелем, набитым монетами, раздавать милостыню бедному люду какого-нибудь парижского квартала; и так, приход за приходом, камергеры Валуа, опуская монету в чью-нибудь грязную ладонь, говорили по его приказанию нищим: «Молитесь, люди добрые, молитесь за его светлость Ангеррана де Мариньи и за его высочество Карла Валуа». Ему казалось, что, если имя его будут произносить вслед за именем его жертвы, вознесут о них обоих одну молитву, он заслужит милосердие небес. И жители Парижа дивились, что всемогущий, блистательный сеньор Валуа приказывал называть свое имя вслед за именем того, кого он не так давно объявил виновником всех бед королевства и велел вздернуть на виселице.
Власть в Совете перешла к Роберу Артуа, который из-за болезни своего тестя неожиданно выдвинулся на первый план. Гигант то и дело во весь опор скакал в Перрей в сопровождении Филиппа Валуа, для того чтобы испросить совета больного по тому или иному вопросу. Ибо все, и в первую очередь Артуа, вдруг убедились, что там, наверху, где решались государственные дела, внезапно образовалась пустота. Безусловно, его высочество Валуа считали, и не без основания, путаником, зачастую решавшим государственные вопросы с налету и руководствовавшимся в делах скорее минутным настроением, нежели государственной мудростью; однако, потершись по всем дворам, странствуя из Парижа в Испанию и из Испании в Неаполь, защищая интересы святого престола в Тоскане, участвуя во всех фландрских кампаниях, плетя интриги с целью захватить престол Священной империи и заседая в течение тридцати лет в Совете при четырех французских королях, Карл Валуа привык связывать интересы королевства с общеевропейскими делами. Это делалось как-то само собою, даже без участия его воли.
Робер Артуа, большой знаток старинных обычаев и судопроизводства, отнюдь не обладал столь широким кругозором. Вот почему о графе Валуа говорили, что он был «последним», хотя вряд ли могли объяснить, что именно подразумевалось под этим словом; разве что он был последним представителем великой плеяды правителей, которой суждено было кончиться вместе с ним.
Король Карл Красивый, безразличный ко всему на свете, разъезжал между Орлеаном, Сен-Мексаном и Шатонеф-сюр-Луар, по-прежнему ожидая, когда же наконец его третья супруга сообщит ему радостную весть о том, что ждет ребенка.
Королева Изабелла стала таким образом хозяйкой парижского дворца, где образовался как бы второй английский двор.
Срок принесения присяги был назначен на тридцатое августа. В последнюю неделю месяца Эдуард II отправился в путь, но достигнув аббатства Сендаун вблизи Дувра, сделал вид, что занемог. Епископа Уинчестерского послали в Париж, дабы в случае необходимости он клятвенно засвидетельствовал (чего от него не потребовали), что король действительно заболел, и предложил заменить отца сыном, причем подразумевалось, что принц Эдуард, став герцогом Аквитанским и графом Понтье, привезет с собою обещанные шестьдесят тысяч ливров.
Шестнадцатого сентября юный принц прибыл, но вместе с ним прибыли епископы Оксфордский и, что было особенно знаменательно, Уолтер Степлдон, епископ Экзетерский, лорд-казначей – один из самых деятельных и самых ярых сторонников партии Диспенсера, а также самый ловкий, самый хитроумный человек из всех приближенных короля Эдуарда, вызывавший всеобщую ненависть. Остановив на нем свой выбор, Эдуард тем самым подчеркнул свое желание не менять проводившейся до сих пор политики, а также свое недоверие к тому, что замышлялось в Париже. Итак, епископу Экзетерскому была поручена более важная миссия, чем просто сопровождать наследного принца.
В тот же день и почти в ту самую минуту, когда королева Изабелла обнимала своего вновь обретенного сына, прошел слух, будто болезнь его высочества Валуа приняла худой оборот и с часу на час надо ждать, что бог призовет его к себе. Тотчас же вся семья, высокопоставленные сановники, находившиеся в Париже бароны, посланцы английского короля – все поспешили в Перрей, за исключением безразличного ко всему Карла Красивого, наблюдавшего за перестройкой внутренних покоев Венсеннского замка, которой руководил зодчий Пэнфети.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!