Читать книгу "Алыча"
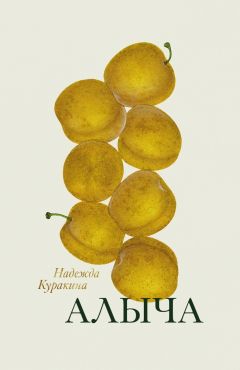
Автор книги: Надежда Куракина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Надежда Куракина
Алыча: Книга стихотворений

© Куракина Н., текст, 2024.
© «Геликон Плюс», оформление, 2024.
Алыча
Мне приснилась твоя алыча посреди огорода.
Почему ты забыла её в той далекой земле?
Это древо полудня, страды и июльской погоды,
Что, как мед запылённый, дома заполняет в селе.
Подходя к половине рядка и скребя свою тяпку,
Ты в тени отдыхала её, и спасибо на том.
Ведь плоды её горькие, жёлтые в рыжую крапку
Ни на что не годились и млели и гнили потом.
Как ты не углядела, не срезала дерзкую ветку?
Пожалела ты, что ли, её, не жалев никогда
Ни людей бесполезных, ни мух, ни амброзии едкой,
По-житейски в их смерти не видя беды и вреда.
Вот и выросло дерево в поле, из сада сбежало
И, на южном ветру не круглея, стояло столбом,
Растопыря колючки свои, алычовые жала,
Бесполезно пытаясь продлиться в потомстве рябом.
Ты жалеешь о брошенном доме, тряпье, покрывалах
И о тех, кто до срока ушёл, оказавшись правей.
Но забыла о дереве, что передышку давало
В каждодневных трудах, что ты жизнью считала своей.
Сепия
Офисные лампы острым хлором
Белят воздух, выжигают цвет.
Полутон – возможность разговора.
Белый означает просто нет.
То ли дело лампочки клетушек
В баньке, в коридоре, над столом.
Помнишь, как сияли эти груши,
Заливая комнаты теплом?
Копоть обмахнув и паутину,
Не боишься сепию включить?
Засветилась памяти пружина,
Раскалилась, ослепляя, нить.
Жёлтый шмель, расплавленное жало.
Старой книги пряный, жёлтый том.
В галстуках измятых рыже-алых
В школьную столовую идём.
Это цвет с морковкою бульона
И компотной кураги на дне.
Жизнь была и синей, и зелёной,
Выцвела, как фото на стене.
Пусть уже не разглядеть кого-то —
Надо ли так пристально смотреть?
Сепия – любимый фильтр для фото,
Он согреть способен даже смерть.
Горький мёд. Горячая пелёнка.
Йодной сетки стыдная беда.
Под простынкой рыжая клеёнка,
И больницы ржавая вода.
Посвети – чтоб не было забыто.
Без тебя не будет ничего.
И пока твои глаза закрыты,
В мире цвета нет ни одного.
Ловец снов
Поезд съезжает по карте вниз.
Лес по-апрельски бос.
Жду, что натянется некая нить,
Может быть, даже трос.
Знаю, что нити такой длины
Нам с тобой нипочём:
Солнце достанет до глубины
Неощутимым лучом.
Мы растянули над миром сеть,
Всё, что нашли, – вплели,
Чтобы над снами друг друга висеть
В разных концах земли.
Ржавый вагонный кокон-постель,
Длинная-длинная нить.
Чтобы наш мир не слетал с петель —
Мне ее вить и вить.
Каллиграфия
Ольге Варламовой
В бреду, во сне, в набоковском рассказе
Герой читал деревья, как письмо.
Мерещатся мне всюду мачты вязи,
И даже дождь – писание само.
Потоки вязи и сложны, и строги,
Она стоит столбами вдоль дороги,
И новостройки – новая глава:
Многоэтажек сочленённых слоги,
Жилых кварталов слитные слова.
Под мшистым наслоением помарок —
И в трещинах, и в рёбрах ржавых крыш,
В вечерней лигатуре страшных арок,
В следах от клея сорванных афиш —
Стоят глаголы, веди, ферты, азы.
Решётка сада тенью на песке.
Схожденье главных линий на руке.
Но нет её в корнях, ползущих вниз,
И в мокрых ветках, спутанных на миг, —
Всё тайнопись, всё скоропись, эскиз,
Живой, недолговечный черновик.
Тайцзы-июль
Змея замирает веткой, потом
Укус неожиданный, прыжок вмиг.
Осторожное движение с открытым ртом:
Боевое искусство собирать крыжовник.
В состоянии тигра раздвигать кусты,
Гневаться огненно фениксом, павлином,
Зорко высматривать сквозь листы
Ягоды полупрозрачные длинные.
Но только того ожидает успех,
Кто сдвинет мизинцем ветви шипящие,
Медленной силой отогнёт наверх,
Обнажая крыжовинки тяжёлые спящие.
Тренировка годами в том, как их тронуть:
Важно срывать их ветру подобно,
Не тревожа сон, уколовшись – не вздрогнуть,
Иначе прольются дождём дробным,
Закатятся вниз, в глубину куста —
К жалам, к корням, к началу утра,
И тогда черепахой придётся стать
С панцирем твёрдым и перламутровым.
Вишни
Гладит щёку ветка лапкой узенькой,
Шум листвы – сочувственный минор.
Собираю вишни – это музыка:
Красный ритм, виолончель и хор.
Что в апреле расцветало набело —
Обрело к июню тон, размер.
Лето лён ладонями разгладило,
Занимая птицами партер.
Крылья рукоплещут, если вишенка
Взята, словно нотка, свысока.
И, легко взлетая, еле слышная,
Дирижёра веточка тонка.
Ножи
Фруктовый ножик – пёрышко ацтека,
От ветра наклонённое слегка.
А если это ножик, а не стека,
Должно быть острым лезвие клинка.
Вот мясники – пародии на шашки,
С лицом широконосым и дурным.
Страшны их чистота и их замашки,
Бесстрашие пред мёрзлым и парным.
Французский нож с белёсым глянцем томным.
Гурман, эстет, каких он ждёт пластов?
Движением к себе, почти бездонным,
Разъять до дна и расслоить готов.
Готов разъять. О, это так немало,
Когда иным – остроту не черкнуть…
И потому-то профессионалы
Их точат ежедневно. По чуть-чуть.
Октябрь
До первых дождей всё было рисунком детским:
На яблонях-ёлках шары золотые и звёзды,
Песок, карамель, стрекозы в слюде и блеске —
И Happy New Year, и Sunday, и Happy Birthday.
Гуашь и акрил густой пастилою ложились,
Подмешанный к ним, был сок виноградный как чёрный.
Под вечер глаза открывала и пела жимолость,
Ей вторила грушевых горлышек глина печёная.
Рисунок подсох на сентябрьских шипах и жалах,
Но тут же холодным дождём был размыт и порван.
В шмелиные норы до края вода набежала,
Разлезлись паучьи шелка, обнажились опоры.
Размокли берёз пироги, расслоились, слетели
Со скользких изогнутых вертелов многорогатых.
А мы и попробовать их, как всегда, не успели.
А мы только беличьи кисточки вымыть хотели
От охры и кобальтов, на переливы богатых.
Мёд
На ручках дверных – мёд.
На платье, руках – мёд.
В маске, больших сапогах
К пчёлам отец идёт.
Дым и скулёж собак.
Злой за спиной дубак.
Дочка, беги домой:
Пчёлы вступают в бой.
Это священный пляс,
Танцы в Медовый спас.
Резкая боль и звон.
Матки неслышный стон.
В тканях, траве – мёд.
С лезвий ножей – мёд.
Глыбы тающих сот
Кто-то сквозь рой несёт.
Там пузырится мёд,
Золотом в сеть течёт.
Смелый стаканом пьёт,
Робкий за дверью ждёт.
Голубь
Заметно прибытие гостя по стуку и шороху:
Раз в десять часов, когда я просыпаюсь, и днём,
Когда я готовлю обед и видна через штору
Колдующей тенью над невероятным огнём.
Его не смущают ни пятый этаж, ни погода —
В свой час неизменно садится на скользкий карниз.
Брезгливо и жадно, как дети глядят на урода,
За мною следит и, пугаясь, срывается вниз.
И я ритуал молчаливый опять повторяю:
Окно растворяю, транжиря тепло батарей,
Своё самолюбие снова в зерно претворяю,
Себя представляя любимицей птиц и зверей.
Не знаю, куда мой нахлебник потом улетает.
Всё некогда остановиться и пристально вслед
Смотреть в голубое, холодное небо, гадая, —
Ведь в нём до утра ничего голубиного нет.
Концерт
Поклон. Виолончель напоминала
Два жареных каштана, скрипка тоже
Была как жёлудь старый и белёсый.
Пюпитр шатался, ось его стонала
От нот, на карты древние похожих.
Десяток свечек золотоволосо
Притягивали взгляды в тёмном зале.
Три мальчика симфонию играли.
Был пианист с кошачьими руками
Позёр немного. Виолончелист
Смеялся при любом скрипичном соло,
Придерживая ветхий нотный лист.
Они друг друга взглядом понукали,
Казались приключением весёлым
Серьезный зал, концерт, и журналист.
Но музыка ходила сквозь картинку,
И дула им на щёки, смех гася.
А в складках звуков то плечом, то в профиль,
То в отблеске с натёртого ботинка
Был виден композитор. Сцена вся
Собою представляла волны, строфы:
То три рёбенка,
То три музыканта,
Три альта,
Три мальчишечьих дисканта.
На цыпочках скрипач – вот-вот взлетит.
И виолончелист глаза заводит
И всё серьёзней ноты поправляет.
И всё верней упавший лист летит
В аллее, где в каштанах осень ходит,
Смычки деревьев ветром направляя.
Играют, их никто не заставляет.
Сидит в лесу шумящем композитор.
Он умер – и сейчас опять воскрес
С мальчишками, с каштанами в карманах.
Наполовину опустел пюпитр
И виден сквозь его жестяный крест
Финал – заснувший червь на листьях рваных,
Бемолем маленьким свернулся он.
Скрип стульев. Ливень. Голоса. Поклон.
Кошки
Всю ночь по мне ходили сотни кошек,
Ловили тени от ресниц и руки,
И если снился краткий сон хороший,
Его сметал пушистый хвост упругий.
И в этом гипнотическом кружении
Из незаметных домовых отверстий,
Невымытых зеркал без отражений
И выстланных кошачьей мягкой шерстью
Углов ещё ночных – в меня смотрели
Ночные кошки, сотня кошек быстрых.
Их спинки, как во сне, в глазах пестрели,
В их шёрстках пыльных пробегали искры.
Подольский архив
В военном архиве умеют читать между строк.
– Конечно, ваш Тихон Данилыч погибнуть мог,
Но не обнаружен стрелок
Между тысяч убитых. К счастью,
Возможно, он выжил, стонал и подобран санчастью.
Отправлен лечиться и там без сознания умер.
Возможно, ушёл к партизанам и там как герой он умер.
А может, попался в плен и от пыток умер,
Бывает, что сдался в плен, как предатель умер,
Подлеченный, воевал, под Берлином умер.
Был послан разведчиком, карту донёс и умер…
Не утешай меня, девушка-архивистка, что ты.
И так-то в священном ужасе я от твоей работы.
Больше полвека прошло, заглохнет
Даже исправный зуммер.
Где-нибудь он обязательно
Жил, воевал и умер.
Недописанный стих
Запрятанный от взглядов глубоко —
Под листьями блокнотными простыми —
Мой стих зевает буковками О
И шевелит неслышно запятыми.
Он, поджимая хвост, слегка дрожит,
Поэмой становиться не желая.
И под исправленной – строка лежит
Зачеркнутая, словно неживая.
Сжимаясь в точку, в слово, в пару фраз
И щупальца спряжений простирая —
Так дышит он. И каждый круглый глас
Старательно согласным прикрывает.
Но вижу я: весь этот ладный вид,
Девчоночий прикид – обман вития.
Строка незавершенная болит,
И где-то посреди – тахикардия.
Стеклянная лошадь
Скачи, моя лошадь стеклянная, тонким копытом
Едва прикасаясь к цветам, высыхающим нежно.
Я их собрала на границе июня и быта:
Как будто для чая, но чтобы вдвоём и неспешно
Гулять, обрывая шиповник полураскрытый.
Эгей, моя лошадь, подарок случайной минуты:
На старой скамейке среди хладнокровного мая
Была ты и хрупкой, и острой, причудливо гнутой,
Но вдруг, оживая и детские ноги вздымая,
Ты свет отразила округлым коленом. Кому-то
Блеснуло в глаза, и зажмурилась в счастье сама я…
Плыви, моя лошадь, по морю цветочному важно,
Ты в розовый тлен окунулась, сиреневой стала.
В коробке осталась обёртка – шуршащий бумажный
Коричневый кокон с копытца отметиной малой.
А ты поминутно меняться вперёд ускакала.
И, мир преломляя, ты стать не боишься невзрачной:
Ты чистому рада, и смутному, тёмному – рада.
Внутри, как вода, холодна, а на холке прозрачной
Расплавленных радуг горячие всполохи жгучи.
Тебе для прогулок не нужен шагающий рядом
Не пьющий, конечно, цветочного чая попутчик.
Железноводск
Без блеска санаторного и лоска —
А только грязь и сероводород.
Но я скучала по Железноводску,
Я знала, кто меня там верно ждёт
Внизу каскада и в тени каштанов —
Рыбак из бронзы с рыбою большой.
К нему текла вода из всех фонтанов,
По лестнице к нему курортник шёл.
Как много было влаги в это лето,
Переплелись фонтаны и дожди.
Рыбак блестящий с мышцами атлета
Тянул добычу к бронзовой груди.
И если вспоминала я бюветы,
Славяновской воды горячей соль,
Диеты, несолёные котлеты
И горькую печёночную боль,
Казалось мне, что смотрит он приветно
Из глубины каштановой, со дна,
И рыбья чешуя сквозь воды Леты
Была мне до щербиночки видна.
Не знаю, говорить ли вам, что ныне,
Закрашенный зелёной краской, он
Стоит в конце каскада, как в пустыне —
Заброшен, обезвожен, ослёплен.
Праздник святой Люсии
Шведы встречают праздник святой Люсии.
«Негде главу преклонити…» – мудрец сказал.
В гостеприимной и православной России
Храмом для них служит спортивный зал.
Только закрыв глаза, представляю: ниши,
Мутный витраж, мягкой свечи слеза,
Руки Мадонны, словно бутон, а ниже —
Строгий священник служит. Огромный зал
Пахнет мячом, и маты вместо скамеек,
Крест деревянный на парте школьной, над ним
И над святыми дарами, качнуться не смея,
Круг с баскетбольной сеткой – пойманный нимб.
Я попытаюсь не вспоминать хотя бы
Меткий бросок, мощный толчок ноги.
Рядом со мной – медленный, низкий, слабый —
Голос, поющий Санта Лючии гимн.
Лучше уж не отрываться от нотного стана
Сложной молитвы; вот и священник над ней
«Ave Maria… Amen…» твердит неустанно.
А на стене – «Быстрее, выше, сильней!».
Утром придут, выметут крошки причастий.
Девять кругов разминки, игра, жара…
Крику судьи будут ответом части
Шведских молитв, не долетевших вчера.
2010
Луковицы
Тобой наточены ножи. Тобой
Объяснены все хлопоты под вечер.
Зажжён огонь – клыкастый, голубой,
Разложен на столе укроп беспечный.
Вот-вот в оливки брызнет кислый сок,
Парного мяса ломтик отделится
И выгнется, как влажный лепесток,
Готовый пылью пряною покрыться.
В боках кастрюльных миллионы лиц.
За этой громкой радостью простою —
Двух луковиц, как двух отроковиц,
Пасхальный шёпот в сетке за плитою.
Их кольца тонкие, неотвратимость слёз,
Их шелуха, как мёд остекленевший,
Сегодня не нужны: они – всерьёз,
А я хочу вина и пиццы грешной.
Журавли
Журчащий клин пульсирует, сжимается,
Как сердце треугольное, тревожное.
Всё выше в тонком горле поднимается
Комочком горьким осень невозможная.
Даруй мне свет, уйми моё терпение,
От нежности мне помоги избавиться,
Пошли мне журавлиного прощения,
Прощания…
Кричит, слезами давится,
Крылом от нас, просящих, укрывается,
Летит по небу сердце, разрывается.
Старый город
Гибкой кошкой в доме незнакомом,
Равнодушна к непривычной кличке,
Жмурюсь в пыльном кресле тёплым комом:
Новый город – новые привычки.
Осторожны поздние прогулки.
Новый город – старые причуды:
Заводить знакомых в закоулках,
Старым мёдом врачевать простуды,
Путать цифры дома и квартиры,
Забывать маршруты и монеты,
Грязь подъезда брать ориентиром:
Новый город – новые приметы.
Старый город, старые ступеньки
В странное жилище неродное.
Старые на новых стенах феньки,
Старческое пенье за стеною.
Мне – сметать брезгливой чистой лапой
Прошлых жизней пёрышки и крошки,
Оставлять свои следы и запах:
Старый город – молодые кошки.
Письмо
Прижимаю слово к слову. Вложен
Лист письма (согнулось слово «ровен»)
В маленький конверт. А путь огромен,
Так воздушен, понебесно сложен.
Дома развернут, разлепят строчки,
Целовавшиеся всю дорогу.
На словах «скучаю, но немного»
Будет отпечаток «очень-очень».
Смытому дому
Сёстрам Елене и Людмиле
Там со стены глядело фото города,
И хрусткий тюль был недотроги строже.
Вились зелёных традесканций бороды
С кашпо плетёных до цветных дорожек.
Проигрыватель старый пел надтреснуто.
Среди деревьев тени были в силе,
Мы суеверно обходили место то,
Где пролески весной всегда всходили.
Как страшно всё представить: сквозь гостиную
И спальню, где из снов был воздух соткан,
Проносится вода с кисельной тиною,
Кусками стен проламывая окна.
За крышку от стола в безумном плаванье
Цепляется, рыдая, пёс соседский,
Вращаясь, проплывают с корнем яблони
И тень совы, зарытой нами в детстве.
Архангелу дошёл поток до темени,
Над мутною водой труба видна.
Нет ни прощенья, ни богов, ни времени —
Вина воды, одной воды вина.
И сколько ты мне тихо ни рассказывай,
Что новый дом светлей, чем старый, мой —
В сковороде, в забытой плитке газовой,
Глотает ил дрожащий домовой.
Армавир, наводнение 2002
Календулы
Сушу календул солнечных улыбки,
Вдыхая беспокойный запах клейкий,
И в музыке зелёной мяты зыбкой
Их лепестки – как перья канарейки.
И рядом – пижмы бархатные брошки,
Чабрец упрямо ровный и степенный,
Покорность земляничная на ножке,
Тысячелистник желтоватой пеной,
Медовой липы язычки и стрелки
И яблок полумесяцы кривые,
Лечебная любовь ромашки мелкой,
Смородин чёрных взгляды неживые,
И мудрых подорожников вниманье,
Румянец вялых роз, малины тайна
И рыжих рыльцев спутанная нить.
Ты будешь крепче спать от их дыханья,
А я, проснувшись в феврале случайно,
Из тёплой кружки летний воздух пить.
Офис
В утреннем офисе дождь. Стук жалюзи.
Шорох плащей, сыроежки старых зонтов.
Бог-из-кофемашины шипит в грязи,
Мир говорливый бурлит и любить готов.
Зёрнышком кофе касаясь холодных висков,
Утро приветствует. Ветер смывает цветки.
Свет из окна – волоски тоски. Волосков
Этих мучительны влажные завитки.
Апрель
Словно минута влюблённости, ливень прошёл.
Медленно солнце сгорело на стёклах дотла.
Льется дорога зелёная, всё хорошо,
Только душа отсырела, лежит тяжела.
Раны тюльпанные вскрылись: пагубен свет.
Рано сирень приготовила ветки на слом.
Вслушаться силясь в благоразумный совет,
Я не готова весной отвечать тебе злом.
Я малосильна, как эта трава под окном,
Я разливаюсь водой, размякаю в тепле,
Щурясь от света, бледнею застиранным льном.
Инеем, ночью, бедой прижимаюсь к земле.
Как не упустит случай ужалить оса,
Вор не пройдёт, не запрятав в кулак кураги,
Мучишь и ты, закрывая на слабость глаза,
Зная: в апреле женщины вам не враги.
Дом
Дом, где ты впадаешь в крайности,
По причине крайней дальности
Для меня как из стекла:
Я не вижу стен и лестницы,
Только тёмный стол мерещится
Да постель белым-бела.
И висят в прохладном воздухе
Приходящих в гости возгласы,
Силуэты, облака…
Я гляжу острее, пристальней,
Но тебя не вижу издали —
Я слепа и далека.
Помню только губы – розами,
И слова, как губы, – розовы:
Близорукий диалог.
А лица не вспомнить точно мне —
Вечно было нам то солнечно,
То вглядеться невдомёк.
Тональность
За тактом, первым тёмным тоном
Над рельсами вступил вокал.
Включился метроном вагонный
И восемь дней не умолкал.
Но альт еловых лап под Тверью,
Но солнечный мажор Ростов
Влетали в тамбурные двери,
Гудели лигами мостов.
Ночных попутчиков случайность
Вдруг перекрыл проём немой.
И возвращение домой —
Как возвращение в тональность.
Яблоки
Мой город особенный.
За городом сады.
По воздуху листья скользят, как ялики.
В плетёных корзинах
Дни и труды,
И большие женщины собирают маленькие яблоки.
На витринах города
Мир иной:
Вечные деревья, и цвет их ярок,
И нет ни времени,
Ни усилий, но
Есть маленькие женщины среди больших яблок.
«Болезнь прихлопнет мокрым ластом динозавра…»
Болезнь прихлопнет мокрым ластом динозавра,
Отбросит всякий стыд в ущелье с головой,
Там шелест кобры, ржава умбры, горечь лавра,
Язык сухой и древний, стон и вой.
Там каплет капельница, плёнка безволоса.
И тянется прозрачный стебель ввысь
Из раковины ухо-горло-носа,
Где мидии миндалин, камни, слизь.
Какая сила косточкой вертела,
Как вертелом, под простынёй в огне?
Так под покровом проступает тело —
Осадок, взвесь у озера на дне.
Свивается подкожно воедино
Из хрящиков, волокон, корок, слёз,
Твердеет, подсыхает пряной глиной.
Провал сочится, а пузырь белёс.
Вдохнёшь, моргнёшь, вплывёшь в Средневековье
На судне сквозь покои в свет палат.
А море неспокойное такое,
И снасти коек ночью дребезжат.
Где динозавр твой,
Где его пещера?
Склонись над краем моря бытия.
Там свежий шрам.
Начало новой эры
И тень полупрозрачная твоя.
Дербент
Путь к цитадели весёлыми вытерт ступнями,
Много раз повторился узорный след.
Девочка в чёрном. Что общего между нами?
Сладкое что-то. Пусть это будет Дербент.
Города стены – колотый сахар горячий,
Желтый ракушечник, звонкий иссохший бисквит.
В длинный рукав улица что-то прячет,
То ли закат, то ли щека горит.
Рыжий урбеч-вечер зальёт кварталы,
Чёрным льняным глушит и речь, и стук.
Все, от людей и до цикады малой,
Плавятся и превращаются в общий звук.
Серый «пежо» объезжает магал караулом
В коконе музык турецких, скользких, как шёлк.
Утро дохнёт низким шмелиным гулом,
Зашелестит платана зелёный мешок.
Голос высокий азана над городом спящим
Нежно тревожит чужих и щекочет сады.
Крепость до верха налита июлем кипящим.
С Каспия утренний ветер стирает следы.
«Припудрены пруды, отцвёл ничейный сад…»
Припудрены пруды, отцвёл ничейный сад.
Дремучим мхом колодец окаймлён.
Кипрея озерцо по ветру год назад
Рассеялось и затопило склон.
Боярышник пророс из чёрных окон дач,
Причал уплыл до зарослей осок.
И глушит лес струну электропередач,
И душит хвоя ржавый водосток.
Окраины миров, задворки хуторов —
Что видно сквозь вагонное окно.
Тутовника изюм подмешан в тьму дворов,
Как будто вымер мир давным-давно.
В жару застынут дни комариком в смоле.
Начнет трава гвоздиками пестреть.
И капли земляник придавят лист к земле.
Красиво, только некому смотреть.
Нигора
Страшно писать Нигоре, женщине незнакомой.
– Как ваш брат?
– Дишт.
Пака в коме.
Пака нет нечего новый
на лучший стороне…
(В аварии на Софийской
Не по его вине).
Мальчик сказал, что в давние времена
В небе вдруг раскололась на части луна.
Брызнули искры, звёзд нам теперь не счесть.
А полумесяц сверху упал на мечеть.
– Здравствуйте, брата на родину мы везём.
Толка серце биёт, и дишит, и всё.
Армавир
Я побывала в городе сладком,
Словно армянская пахлава.
После орехов, пропитанных мёдом,
На языке слова.
В доме монстера пылится в кадке,
Смотрит, завидуя, на сирень.
В небе слепящем звенит самолётом
Жёлтый прозрачный день.
Город – не летний, с плодом и соком:
Розовобокий июнь в пути.
Но и апреля белёных щечек
Влажных уже не найти.
Между травинок, тычинок, строк он —
Завязь – горохом с хрящом внутри.
Город – поставленный в печку горшочек.
Солнце горит. Вари.
Весело было пробовать сад мой
По лепестку (а пыльца – шафран):
Горькие – с яблони, с персика – мускус,
Самый сладкий – тюльпан.
Пир мотыльков покидать досадно
(Либо сжевать обратный билет).
Соков дорожных слащавый уксус,
Глина вагонных галет.
Как тут не вспомнить белую воду
В трещинах хрупкой суши земной,
Глядя на жухлые космы канавы
В чёрной воде торфяной.
Как тут не вспомнить щедрых от роду
Вишенных тонких ветвей кружевных,
Глядя на крылья хвойной отравы
Охристых сосен сплошных.
Дома целительна и роса.
Выспалась. На глазных белках
Стало чуть больше света.
Остался фиалковый корень ириса
И пахлава для сравнения с той,
Что покупает Елизавета.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































