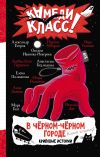Текст книги "Симон"

Автор книги: Наринэ Абгарян
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Он ушел и не появлялся почти месяц. Не дождавшись его в очередное воскресенье, она принялась корить себя за то, что испугала его своими откровениями, и уснула в слезах, а на следующее утро, с трудом добравшись до телефона, он поднял ее ранним звонком, чтобы предупредить, что попал в больницу с воспалением аппендикса и придет, как только снова научится нормально передвигаться после операции.
Это был самый долгий роман Симона. Он продлился почти полтора года и закончился безобразной сценой, учиненной Меланьей. Прознав об очередных шашнях мужа, она явилась на консервный завод и закатила скандал в кабинете директора, требуя устроить товарищеский суд над сотрудницей, ведущей порочащий советскую женщину образ жизни. Директор, заверив, что непременно позаботится об этом, выпроводил ее восвояси, а Сильвии ничего говорить не стал. Но она проведала о произошедшем от его секретарши и, сгорая от стыда, ушла домой, не отпрашиваясь. Узнал о случившемся и Симон – Меланья сама ему обо всем рассказала, дождавшись с работы. Выпустив пар в кабинете директора, она теперь говорила с мужем холодным отстраненным тоном: да, пошла к твоей зазнобе на работу, да, потребовала, чтобы ее опозорили на товарищеском суде, а что же ты хотел, чтобы я явилась на релейный завод и потребовала, чтобы тебя наказали?
Он перешагнул через расколотую посуду, которую она намеренно не убрала, и вышел. Она окликать его не стала, знала, что никуда не денется, трое сыновей держат его на крепкой привязи: тот, кто вырос без родителей, никогда от своих детей не уйдет.
Несмотря на всю недвусмысленность ситуации, Меланью терзали угрызения совести. Могла ведь сходить к Сильвии, поговорить с ней, в конце концов, учинить скандал в ее доме. Захотела ударить больней. Зачем? Кто-кто, а Сильвия этого не заслужила. Пожалуй, она была единственной, о ком бердцы не говорили с осуждением и не разносили сплетен. Именно потому Меланья так долго и пребывала в неведении – никто не торопился открывать ей глаза на новую связь ее мужа. Каждый, наверное, для себя рассудил, что Сильвия, при всей ее замкнутости и даже нелюдимости, заслужила свой кусочек женского счастья, и если даже для этого нужно было завести отношения с женатым мужчиной – то пусть. Меланью именно всеобщее заговорщицкое молчание и задело. Она впервые оказалась в роли не заслуженной страдалицы, которой сочувствовали и сопереживали, а стороной будто бы лишней и даже неуместной. Собственно, эта обида и стала причиной ее визита на работу Сильвии, ей хотелось не просто добиться справедливости, а прилюдно указать сопернице ее истинное место. Она отлично знала, что, поступая подобным образом, унижает не только ее, но и себя и мужа, но ничего не могла с собой поделать. И теперь, стоя над осколками перебитой посуды, она роняла злые слезы, ругая себя за трусливую мстительность. При всей своей порывистости и скандальности Меланья всегда оставалась человеком великодушным и милосердным, и именно это в ней в первую очередь ценил Симон.
Разрыв причинил Сильвии невыносимые страдания. В тот злосчастный день она заперлась у себя в комнате и, когда Симон пришел, попросила оставить ее в покое. «Мне нужно научиться жить без тебя», – сказала она. «Давай хоть попрощаемся по-человечески», – взмолился он. Она покачала головой, ничуть не заботясь о том, что он ее не видит. Наблюдала из-за шторы, как он уходил. Легла лицом в подушку и кричала, пытаясь приглушить нестерпимую душевную муку. Понимая, что не справляется, вышла из комнаты, споткнулась о небольшой сверток, который Симон оставил на полу, но разворачивать не стала, а, подвинув ногой, направилась в погреб. Принесла ополовиненную бутыль тутовки, выпила до последней капли, обжигаясь и задыхаясь от кашля. Ее моментально вывернуло, но облегчения это не принесло – она опьянела еще больше и, кажется, отравилась непривычным тяжелым спиртным. Провела половину ночи, сотрясаясь в приступах рвоты. Голова раскалывалась, тело сводило судорогой, спина и руки покрывались горячим потом, который мгновенно охладевал, но не испарялся, а держался ледяной липкой пленкой, сковывая движения. Нужно было вызывать скорую, но Сильвия не хотела, чтобы посторонние люди видели ее в таком состоянии. Она размешала в теплой воде несколько крупинок марганцовки, выпила ее махом, согнулась в новом приступе рвоты и, не удержавшись на ногах, рухнула на пол, где и пролежала долгое время, трясясь в ознобе. Когда рвать стало совсем нечем, она доползла до посудного ларя, с трудом приподнявшись на локте, сдернула скатерть, которую отложила для стирки, накрылась ею и забылась тяжелым сном. Разбудил ее настойчивый телефонный звонок, и она спросонья решила, что это звонит Симон, чтобы предупредить, что попал в больницу с воспалением аппендикса, и она даже улыбнулась тому, что знает все наперед, но сразу же заплакала, вернувшись в реальность. Телефон беспрестанно трезвонил, и она, с трудом поднявшись, поплелась поднимать трубку. Это была секретарша директора. Поздоровавшись и тактично не справившись о самочувствии (какой смысл спрашивать, когда все и так ясно), она предупредила, что предприятие выписало ей выходные до конца недели. Сильвия поблагодарила и отключилась.
Она долго скребла пол кухни, смывая следы раствора марганцовки. Затем вымыла и привела в порядок ванную комнату. Тщательно помылась сама. Выпила стакан подсоленного кипятка. Есть не хотелось, жить – тоже. Мысли о Симоне причиняли физическую боль. Однако она не запрещала себе думать о нем, осознавая, что тем и спасается. Долго сидела на веранде, вспоминая, как они просиживали там редкие вечера, которые выпадали на их долю, когда Меланья, забрав сыновей, уезжала на пару дней погостить к брату в Дилижан. Симон тогда ночевал у нее, и время, проведенное с ним, казалось ей вечностью. Первая близость случилась у них в одну из таких отлучек Меланьи. Сильвия долго не решалась, помня о своих приступах, но он сразу же свел все к шутке – не получится, и ладно, помрешь тогда девственницей. Она смеялась до икоты и долго не могла успокоиться, несмотря на всякие ухищрения: задержать дыхание до шума в ушах, выпить мелкими глотками воды, попрыгать на правой ноге, приподняв над головой левую руку. Он смешно комментировал ее попытки унять икоту, доводя ее до новых припадков хохота, а потом сгреб в объятия, прижал к себе крепко-накрепко – руки у него были неуемной, великаньей силы, и она моментально притихла. Он был ласков, и нежен, и совсем не требователен, и именно этой своей нетребовательностью и подкупал. Секрет их счастливых взаимоотношений был прекрасен и удивительно прост: чем больше он отдавал, тем больше ей хотелось вернуть в ответ. Они будто играли в поддавки, пытаясь превзойти друг друга в обоюдном желании угодить. Приступы, когда-то изувечившие жизнь Сильвии, не повторились, и она впервые позволила себе любить без оглядки. Она привязалась к Симону во всю глубь своего бездонного сердца и, расставшись с ним, осознала, что осталась без частички себя. Ей казалось, что Симона вырезали из ее сердца ножницами, и теперь оно уже не перестанет кровить.
О свертке, оставленном на пороге комнаты, она вспомнила поздно вечером. Разворачивала его долго и бережно. Под слоем простой бумаги обнаружилась книжка со стихами Терьяна – ее любимого поэта – и коробочка с золотым сердечком-кулоном. Она сразу же его надела и не снимала больше никогда.
Обычно Офелия заранее предупреждала подругу о своем приезде, но в этот раз не успела. Все случилось неожиданно – позвонила соседка, рассказала, что мать с сердечным приступом попала в больницу. Пришлось спешно отпрашиваться с работы и мчаться за тридевять земель. Приступ, к счастью, оказался легким, и к ее приезду мать уже сбежала из больницы домой. Офелия застала ее во дворе, с вилами на плече – пренебрежительно задвинув в дальний угол прикроватной тумбочки выданные врачом таблетки и капли, она направлялась на задний двор – ворошить расстеленное на просушку сено.
– Ты опять за свое? – с ходу напустилась на нее Офелия, швырнув под ноги дорожную сумку.
Мать даже бровью не повела:
– Взрослая уже баба, сорок семь почти лет, а здороваться до сих пор не научилась!
Офелия попыталась отобрать у нее вилы, но безуспешно – переупрямить мать было невозможно. Наспех переодевшись с дороги, она поспешила ей на помощь. За тем занятием ее и застала Косая Вардануш. Она вбежала на задний двор с такой прытью, словно за ней гналась свора собак. Скинув на ходу сандалии и промчавшись по подсыхающему сену, она, ничуть не удивляясь присутствию Офелии, а словно заранее зная, что застанет ее именно там, вцепилась ей в руку: «Пойдем со мной, Офелия-джан!»
– Куда? – опешила Офелия.
– Расскажу по дороге. Пойдем! – тянула ее за руку Вардануш.
– Да что же это такое! – рассердилась Офелия. – Ни секунды покоя! Одна после сердечного приступа вилами размахивает, другая не пойми куда меня уводит! Дурдом, честное слово!
Мать подняла бровь, незаметно кивнула на Вардануш:
– Ты бы аккуратнее была со словами, дочка. Или в городе тебя вконец отучили от учтивости?
Офелия набрала полные легкие воздуха, досчитала в уме до десяти – вычитала в научном журнале, что именно так нужно уходить от ссоры. Выдохнув и немного успокоившись, она заявила непререкаемым тоном:
– Первым делом закончим с сеном. Хочешь, чтобы я с тобой пошла, помогай, Вардануш. Мам, а ты обещай, что, пока не вернусь, ничего больше делать не станешь. Сядешь в кресло и будешь ждать меня.
Вардануш с готовностью кивнула и, заправив край юбки под пояс, принялась руками переворачивать подсыхающее сено. Мать молча орудовала вилами, не поднимая головы.
– Мам? – требовательно позвала Офелия.
– Там видно будет, – пожевав губами, примирительно бросила мать и добавила, меняя тему разговора: – Расскажи лучше, как мои внуки.
Офелию подмывало ответить колким «наконец-то вспомнила о внуках», но она, сделав над собой усилие и еще раз досчитав в уме до десяти, миролюбиво ответила: «Слава богу, хорошо. Гарик удачно сессию сдал, а Арам жениться собрался».
– На той тбилисской кекелке[7]7
Кичливая женщина, снобка (груз.).
[Закрыть]? Как ее звали? Анжела?
– Ну почему же кекелке? Хорошая умная девочка из интеллигентной семьи!
– Посмотрю, как ты через два года запоешь.
Офелия отвечать не стала. Характер матери с возрастом стал совсем невыносимым. Но это, конечно же, не имело никакого значения. Жива – и спасибо. Остальное несущественно.
С Багратом, правнуком старой Катинки, столкнулись на пороге – натягивая на ходу футболку, он выскочил из дому, крикнув куда-то в глубь комнат – буду поздно, так что ложитесь, не ждите меня.
– Вымахал в каланчу, – улыбнулась Офелия, отвечая на его смущенное приветствие, – как у тебя дела, в какой класс перешел?
– В десятый, – пробасил Баграт.
Она всплеснула руками – боже, как время летит, еще вчера был крохотным мальчиком, чудом спасшимся из болота. А теперь прямо жених!
– Пошли, Офелия-джан, – поторопила, легонько подталкивая ее в спину, Вардануш. Другой рукой она указала Баграту на калитку – иди уже, куда шел! Тот фыркнул – на Косую Вардануш, зная ее чудаковатость, никто не обижался. Блажит – и ладно, мало, что ли, в мире блаженных людей! Значит, зачем-то это нужно, если они такими рождаются.
Весь путь до Нижней улицы Вардануш упрямо игнорировала расспросы Офелии, отвечая односложными «там увидишь» и «сама поймешь». Уставшая после долгой поездки, Офелия еле поспевала за ней, мысленно ругая себя за то, что не решилась ей отказать. Однако возвращаться с полдороги, расстраивая заполошную, но безобидную Вардануш, она бы не стала, потому безропотно дала себя довести до дома старой Катинки. Ничего страшного, если даже эта дурочка что-то выдумала, поздоровается и уйдет. Заодно передаст каменную ступку, которую всучила ей в последнюю секунду мать: Катинка просила, обещала кого-нибудь из правнуков прислать, видно забыла. Офелия безропотно взяла.
На просторной кухне было людно – невестки старой Катинки готовились к приезду старшей сестры Баграта, с блеском защитившей дипломную работу на юридическом факультете. Предполагался большой стол с обильным угощением и множеством гостей. Офелия поздравила семью с радостным событием, передала ступку и извиняющимся тоном сообщила, что по своей воле не заглянула бы в столь суетный вечер, если бы не Вардануш.
– Теперь что она задумала? – со смехом поинтересовалась мать Баграта, Тамара. – Была уже сегодня у нас, рассматривала фотографии детей, а потом ка-а-ак выскочит из дому, ка-а-ак побежит!
Вардануш бесцеремонно подвинула ее в сторону и забрала с полки простенькое картонное паспарту.
– Смотри, Офелия-джан!
Дальнозоркая Офелия, сетуя, что забыла в сумке очки, отвела от себя ее руку, чтоб лучше разглядеть фотографию.
– Это наша Кира, а это ее соседка по комнате в общежитии, – пояснила ей Тамара, – хорошая девочка, иджеванская, считай – наша, почти тот же диалект, те же традиции и воспитание. Раньше жила со своей однокурсницей, но недавно съехала от нее в комнату Киры. Так они и познакомились.
Офелия шумно втянула ноздрями воздух, попыталась сосчитать до десяти, сбилась. Напустилась с какой-то радости на Вардануш (потом, отойдя от волнения, ужасно себя корила):
– Почему ты сразу не привела Сильвию? Не увиливай, не зыркай по сторонам глазами! Посмотри на меня!
– Испугалась. Вдруг это не она!
– Кто «она»?
– Как будто сама не знаешь! – Вардануш скривила рот и беспомощно заморгала.
– Дайте попить, в горле пересохло, – попросила Офелия. Невестки старой Катинки, сообразив, что она разглядела нечто, чего не увидели они, торопливо налили воды и, сгрудившись вокруг, уставились на фотографию. Офелия сделала глоток, вернула стакан. Спросила, тщетно пытаясь унять предательскую дрожь в голосе:
– Как, говорите, эту девочку зовут?
Тамара, растерявшись, не сразу вспомнила имя. Офелия не торопила ее. Она почти не сомневалась, что знает правильный ответ.
Вырванная из благостной полудремы переполохом, старая Катинка, водрузив на нос толстенные очки, внимательно рассмотрела фотографию и подтвердила догадку Офелии – девочка действительно очень похожа на Сильвию, но еще больше – на ее мать. Хотя всякое может быть, с сомнением добавила она, армяне так или иначе похожи друг на друга, вдруг мы ошибаемся.
– Иджеванская же! – взволновались невестки.
– Ну и что? Мало в Иджеване рождается девочек? Поди каждая вторая!
– Возраст подходит – двадцать два года! Опять же имя!
– И? Сколько у нас девушек с именем Анна?
Сокрушенно помолчали.
– Офелия, когда день рождения дочери Сильвии? – спросила старая Катинка.
– Точной даты не знаю, она ведь старается не говорить о дочери. Родилась в марте, а вот в какой именно день…
– Придумала! – встрепенулась Тамара. – Сейчас закажем межгород и поговорим с Кирой. Она уж точно знает, когда родилась ее соседка! Где там мой блокнот, никак не могу запомнить номер коменданта общежития!
Бабье лето растянулось до конца октября. Последние его дни выдались почти что августовскими – с сияющими восходами, жаркими полуднями и вдумчивыми закатами. Если бы не золотящиеся кроны деревьев да хлопья паутины, затянувшие морщинистой сеточкой гладкий лик дня, можно было подумать, что до осени еще далеко. Сильвия стояла на веранде и нервно теребила рукав нарядного платья, которое ей одолжила Офелия. Чтобы как-то отвлечься от взволнованного ожидания, она перебирала в голове события последних месяцев. Вспомнила сковавший сердце страх, когда обнаружила на пороге своего дома всполошенную женскую стайку: Офелию, Вардануш, старую Катинку и обеих ее невесток. Чуть поодаль стояла мать Офелии и, с трудом переводя дыхание, упрямо штопала, натянув на лампочку носок. Карман ее передника оттопыривался шкатулкой со швейными принадлежностями.
– Что случилось? Кто-то умер? – с усилием выдавила из себя Сильвия.
– Скорее, наоборот, – проскрипела старая Катинка и, перешагнув через порог, протянула ей картонное паспарту, – дочка, только очень тебя прошу, в обморок не падай.
В обморок Сильвия не упала. Она осела кулем на пол и, не отрываясь от фотографии, слушала, как Тамара, поминутно сбиваясь, передавала ей разговор со своей дочерью – девочка родилась двадцатого марта, твоя ведь тоже, кажется, двадцатого родилась, Сильвия-джан, выросла без матери, ей сказали, что она отказалась от нее. Отца зовут Ромик. В советское время жили обеспеченно, а после развала Союза остались почти что ни с чем…
– Это… кто? – спросила одними губами Сильвия.
Воцарилась оглушительная тишина.
– Зовут Анна, – подсказала наконец Офелия.
Небо, притушив птичий гомон и затаив дыхание, наблюдало за происходящим.
– И что же мне теперь делать? – дрогнула голосом Сильвия.
– А ничего не надо делать. Кира приезжает послезавтра, она привезет ее с собой. Мы попросили, чтобы ничего не рассказывала ей и не давала предупредить о поездке отца – он, наверное, не отпустит ее в Берд. Ты как, Сильвия-джан? Сильвия-джан?! Кто-нибудь, принесите воды!
Разговор Сильвии с дочерью облетел весь Берд. Люди цитировали его, волнуясь и ревниво поправляя друг друга – каждому важно было не переврать его.
Кира не сдержала обещания, проговорилась в дороге, что в Берде, скорее всего, Анна увидит свою мать. Рассказала ей о том, как все было на самом деле.
Сильвия пришла на автовокзал с самого утра и прождала там долгие шесть часов.
– Тебя любили? – спросила она у дочери, когда та, выйдя из автобуса, нерешительно подошла к ней.
– Очень, – ответила Анна.
– Не обижали?
– Никогда.
– Вот и славно. Не плачь, пожалуйста.
Именно этот диалог, поправляя друг друга, и пересказывали бердцы. И непременно добавляли, что все очень вовремя случилось, потому что уже этой осенью дочь Сильвии должна была выйти замуж за молодого человека, который собирался увезти ее в Воронеж.
– Если бы она уехала, они с Сильвией никогда бы уже не увиделись, – не сомневались бердцы.
На свадьбу дочери Сильвия упорно отказывалась ехать, объясняя это нежеланием видеться с Ромиком. Переубедить ее удалось директору консервного завода.
– У тебя ровно такие же права быть на этой свадьбе, как у отца твоей дочери. Тем более что Анна сама тебя приглашала! Уедет она в Россию, когда ты еще ее увидишь? Через год? Три года? Пять лет?
Сильвия опустила голову. Директор терпеливо ждал. Наконец она приняла решение:
– Поеду. Только мне машина нужна.
– Я тебе свою служебную машину отдам, отвезут и привезут как королеву!
– Мне большая машина нужна.
– В смысле большая? Мой старый «виллис»? Так он на ладан дышит!
– Еще больше.
В утро свадьбы, взвывая мотором, грузовик консервного завода въехал сквозь распахнутые ворота во двор дома Сильвии. Служебная машина, прижавшись к забору, осталась ждать на обочине дороги. Трое крепких мужчин, почтительно поздоровавшись, прошли в дом. В течение двух часов, кряхтя и потея, они выносили из гостиной бесконечные коробки, тюки, короба. Сильвия не мешала им, только предупреждала, если в ящике лежало стекло. Кузов грузовика понемногу наполнялся нераспакованной югославской мебелью, коврами, столовыми сервизами, скатертями и полотенцами, шерстяными одеялами и подушками на утином пуху, отрезами дорогой шелковой ткани и чугунными сковородами, звонкими фужерами и постельным бельем из тончайшего атласа. Бархатные коробочки с ювелирными украшениями Сильвия спрятала в сумку и всю дорогу держала на коленях. На заднем сиденье служебной машины лежала люстра с пятью хрустальными рожками, в багажнике, обложенные пледом, коробки с фруктовыми и цветочными вазами. Когда грузчики вынесли последнюю упаковку, в гостиной остались лишь дряхлые настенные часы, продавленное старое кресло и прямоугольное темное пятно на стене. Удостоверившись, что ничего не забыли, Сильвия села в служебный автомобиль и торжественно поехала на свадьбу. Следом тяжело трясся грузовик с эмблемой консервного завода на боку. Он вез приданое, которое, экономя на всем, пятнадцать долгих лет собирала для своей дочери Сильвия, не надеясь когда-либо увидеться с ней. Берд наблюдал эту картину в полнейшей тишине и перевел дыхание лишь тогда, когда грузовик скрылся за чертой города.
С того дня люди и стали звать Сильвию – за глаза и в глаза – Вдовой. Тем самым они подчеркивали свое отношение к ее бывшему мужу, которого вынесли из человеческих списков раз и навсегда. По-другому, кроме как Вдовой, они ее уже никогда не называли.
Духи

Элиза была младшей из трех сестер. Разница в возрасте между девочками случилась большая – восемь лет. Старшие, погодки Мариам и Нина, истрепали своим слабым здоровьем матери все нервы (излюбленное ее выражение), потому на еще одну беременность она решилась после того, как девочкам исполнилось достаточно лет, чтобы они могли позаботиться о себе.
Мать мечтала о мальчике и даже знала, как его назовет: Кареном, в память о своем брате, замерзшем насмерть в зиму двадцатого года. О той истории она не любила рассказывать и на все расспросы повзрослевших дочерей односложно отнекивалась или же отвечала расплывчато-несущественными отговорками. Элиза, самая участливая и впечатлительная из девочек, умеющая улавливать по малейшим изменениям в голосе собеседника скрываемую подоплеку, обиженно вздыхала и поджимала губы: «Мам, ну теперь-то ты могла бы рассказать!» Мать раздраженно отмахивалась – не придумывай сложностей там, где их нет! Но по тому, как она отводила глаза и нервозно скрещивала руки на груди, отгораживаясь от назойливого внимания дочерей, становилось ясно – то, что случилось в ее далеком детстве, гложет и не отпускает до сих пор. Старшие дочери со временем перестали третировать ее расспросами, благоразумно рассудив, что при желании она сама все расскажет, а если не станет – значит, так тому и быть. Элиза, в отличие от сестер, навсегда закрывших болезненную для матери тему, попыток разузнать правду не оставляла и часто, подлавливая ее на той или иной незначительной обмолвке, тщательно их запоминала, надеясь потом, додумывая отсутствующие эпизоды, собрать в целую историю. Ей почему-то казалось важным раскрыть секрет гибели двухлетнего младенца, потому что именно в его смерти она интуитивно угадывала причину множества болезненных проявлений, которые не давали покоя матери.
Отца своего Элиза не помнила – он умер от чахотки, когда ей едва исполнилось три года. Она его не признавала в худощавом смущенно улыбающемся смуглолицем солдате, каким он был запечатлен на фронтовых фотографиях. Глупо расстраивалась, когда не находила о себе упоминаний в десятке писем-треугольничков, от края до края исписанных его аккуратным мелким почерком. И, хоть разумом понимала, что отец не мог о ней справляться потому, что в ту пору ее просто не существовало, она все же ревновала его к матери и особенно – к сестрам. «Напиши, как мои ангелочки», «береги дочерей пуще жизни», «поцелуй от меня Ниночку и Мариамик, передай, что папа их любит»… Элиза невольно морщилась, перечитывая эти строки.
Единственное расплывчатое воспоминание, в котором присутствовал отец, сводилось к яркому солнечному пятну, в котором, наклонившись над кроваткой, стоял какой-то мужчина и нараспев приговаривал неразличимые, но определенно ласковые слова. Иногда он снился Элизе, и в этих снах он всегда стоял к ней спиной, а когда она пыталась обойти его, чтобы заглянуть в лицо, он или растворялся в воздухе, или же прикрывался руками. И вот эти руки – с широкими ладонями и большими, в темной каемке, ногтями, с остро выпирающими косточками на запястьях и чуть искривленными кончиками пальцев – она помнила наизусть и часто в бездумье рисовала на полях тетрадок, получая регулярные выговоры от учителей. Впрочем, оценок они ей за самоволие не снижали, и не по доброте своей, а потому, что было некуда – Элиза, в отличие от старших сестер, уродилась совершенно необучаемым ребенком. Держали ее в школе из жалости к матери, вынужденной, чтобы хоть как-то свести концы с концами, совмещать две работы: больничной санитарки и школьной уборщицы.
Старшие девочки, с отличием окончив семилетку, с разницей в год поступили в текстильный техникум, и мать ежемесячно высылала им немного денег и кое-какие скудные припасы, потому что их нищенской стипендии при суровой экономии хватало от силы недели на две.
На сборы посылки обычно уходил целый день: мать перебирала картошку, оставляя на краю овощной ямы чуть подпорченную – на скорую готовку, для дочерей же неизменно выбирала самые здоровые и крупные клубни. Она лущила кукурузу, пересыпала в холщовые мешочки полбу и пятнистую фасоль, заквашивала тесто на хлеб, вырезала из сот ромбики сладкого меда, скребла ложкой по стенкам глиняного горшка, перекладывая в отдельную плошку бесценное топленое масло. Десятилетняя Элиза любила, улучив минуту, когда никто не видел, расковырять край предназначенного для сестер узелка с едой и вытащить что-нибудь для себя: сваренное вкрутую яйцо, горсть сушеной сливы или же холодную котлету, фарш которой мать вымешивала на кукурузной муке и толченых картофельных очистках, отчего они получались тяжелыми и суховатыми, но невероятно сытными. Дождавшись, когда мать уходила на автостанцию, чтобы с кем-нибудь из пассажиров передать посылку и крепко замотанные в кулечек деньги – почти всегда это была половина ее зарплаты, Элиза забиралась с ногами на тахту, накрывалась шерстяной, пахнущей печным дымом и старой овчиной ветхой шалью, в которую ее, маленькую, когда-то заматывали крест-накрест, выпуская зимой поиграть на улицу, и, медленно, подробно жуя, съедала украденное. Удовольствия она при этом особого не испытывала, но угрызениями совести тоже не мучилась, потому что считала, что забрала то, что ей полагалось по закону семейного равенства: ведь если сестрам собиралась посылка, то и она имела право на свою долю. Под дровяной печкой, в плотно прикрытой от мышей тяжелой глиняной миске, лежала оставленная для нее котлета и горсть полбяной каши, но о них она даже не вспоминала. Доев выкраденное, Элиза сворачивалась калачиком и лежала, укрывшись по макушку шалью и чутко прислушиваясь к звукам дома: старческому оханью прокопченных балок, держащих на своих плечах низкий потолок, скрипу деревянных створок, кошачьей возне ветра – нанесши на чердак сухих осенних листьев, он играл ими, то закручивая в круговерть, то разбрасывая по углам. О несделанных уроках Элиза даже не вспоминала, она лежала, грея дыханием кончики вечно зябнущих пальцев до той поры, пока не приходила с работы мать. Но к ее возвращению, умаянная ожиданием, девочка уже спала, засунув руки под кофту, и тогда, наспех поев хлеба и запив его несладким чаем, мать закидывала в печь несколько поленьев, ложилась рядом и, крепко прижавшись, грела ее своим теплом.
Котлету с полбой они съедали утром, честно разделив пополам. На завтрак хлеба не полагалось, но мать отрезала от большого круга домашнего каравая ломоть и, припорошив его каменной солью, давала Элизе с собой в школу. Она съедала его по дороге, жадно откусывая и наспех жуя, давясь от спешки и волнения. В школе хлеб могли отнять: стайки шумных и безголовых подростков, не умея справиться с перепадами настроения (кто бы им объяснил, что в изменениях, претерпеваемых их взрослеющими телами, ничего постыдного нет), срывались на младшеклассниках, особенно – на девочках, задирая их на переменах и нещадно третируя. Конец произволу положил новый завуч, суровый и не терпящий возражений однорукий фронтовик, которого подростки по первости опрометчиво не приняли всерьез, за что потом и поплатились многочасовыми дополнительными занятиями. К концу второй четверти, благодаря его строгости, наконец-то воцарился порядок, но до этого еще нужно было дожить.
Школу Элиза ненавидела и относилась к ней как к неизбежному, но временному злу. Бесформенная сумка, которую мать сшила из всякого тряпья, свисала с худенького ее плеча и мерно стукала по колену учебником проклятой математики, в которой она ничего не понимала. Мир точных наук больно пихался колючими локтями знаков и угловатых чисел, и даже завинчивающаяся в талии женственная восьмерка не вызывала мало-мальского доверия. Стеклянную чернильницу-непроливайку приходилось нести в руках – в сумке она, невзирая на свою тщательно продуманную конструкцию, опрокидывалась и проливалась, пачкая книги. Уроков Элиза никогда не учила, домашнее задание наспех списывала, орошая страницы многочисленными чернильными кляксами, а на занятиях, подперев острый подбородок испачканной ладонью и прикусив от усердия кончик туго сплетенной косы, рисовала на полях тетрадей мужские кисти, с анатомической точностью передавая лучики сухожилий, тянущиеся от запястья к основанию пальцев, узловатые шишечки суставов и выпуклую поверхность ногтей. Мать было воспрянула, понадеявшись на художественный талант дочери, но учительница рисования, взявшаяся дополнительно заниматься с Элизой, огорошила ее известием, что ее дочь и здесь умудрилась оказаться совершенно необучаемой.
– Не понимаю, как при такой бестолковости она рисует руки, – не смогла скрыть своего удивления учительница и, спохватившись, участливо похлопала мать Элизы по плечу: – Ничего, умение рисовать – не самый важный навык.
При всей своей безграничной и болезненной преданности и привязанности к дочерям, мать была суровым и несправедливым человеком и за любую, даже самую незначительную провинность хваталась за розги. В тот день, вернувшись из школы, она, отходив до зудящих кровоподтеков Элизу, бросила ей в сердцах горькое и обидное, запавшее в душу на всю жизнь:
– Идиотка непроходимая! Вся в свою тупую кормилицу! Уж лучше бы не я, а она была твоей матерью!
Родилась Элиза сразу после войны, в сорок шестом году, и ждавшая мальчика расстроенная мать несколько дней отказывалась брать ее на руки и давать грудь, а когда, переборов себя, все-таки решилась на это, девочка, покатав во рту взбухший ноющий сосок, с отвращением его выплюнула и горько разрыдалась – за неполную неделю она привыкла к вкусу молока другой женщины. Та женщина жила в противоположном конце их улицы, и Элизу к ней пять раз в день носили на кормление отец или же кто-то из старших сестер. Чаще всего это была Нина, которая относилась к новорожденной как к живой кукле. Свою тряпичную, сшитую двоюродной бабушкой из разного ситца и набитую соломой, с деревянными истертыми пуговицами вместо глаз и сплетенной из шерстяных ниток косой, она оставлять дома не собиралась, из страха, что вредная Мариам перепрячет ее в какое-нибудь недосягаемое место. Потому куклу она просила примотать к спине платком, а крохотную, туго запеленатую сестру несла, крепко прижав к груди и передвигаясь осторожными коротенькими шагами. Спустя месяц Элизу перевели на козье молоко, а с полугода она сама отказалась от него насовсем, переключившись на картофельное пюре и каши. С тех пор она не ела молочного ни в каком виде, воротила нос даже от излюбленных армянами и обязательных для любого стола брынзы и супов на квашеном мацуне.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?