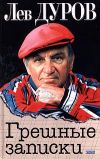Текст книги "Арена"
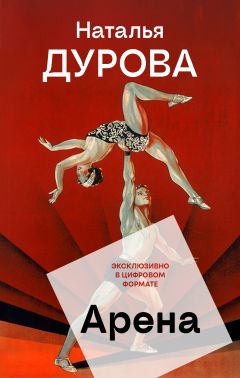
Автор книги: Наталья Дурова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Оставили в цирке реквизит, разошлись по домам.
Шовкуненко видел, как Надя с Люсей Свиридовой свернули от цирка в переулочек. Пошли рядом, оживленно жестикулируя в разговоре. Одна ладная, высокая, другая – гораздо меньше, в смешном берете с помпоном. Для Шовкуненко этот берет был как маяк. Он и сейчас пошел было вслед, остановился, с минуту постоял, потом повернул к гостинице.
В номере было холодно. Дуло от окна, дуло из коридора. Сбросив пальто, он, не раздеваясь, повалился на кровать, закрыл глаза. Мысли одолевали, не давая спокойно вздремнуть.
Шовкуненко встал с кровати, подошел к окну. Морозная узорчатая парча на окне развлекала недолго. Он несколько раз бесцельно прошелся из конца в конец. Гостиница не общежитие… Там тоска притуплялась, здесь, среди холодных предметов, стол письменный, кровать с тумбочкой, похожей на пень, этажерка с казенным номером и графин с казенным видом, тоска становилась обнаженней. Словно вещи эти были вечными шпаргалками. Забыл, не можешь найти верный ответ. Так вот он: одинарный номер – значит один ты в нем проживаешь. «Да, пусто!» – вздохнул он.
9
Бесконечная дорога. Она бежит за окном, мелькнет зеленым ельником в простынной белизне поля, уйдет проселочной тропой с замерзшими еще с осени колдобинами и опять бежит. Шовкуненко жил переездами, потому что в вагоне они с Надей были вместе. Ему хотелось, чтобы Надежда хоть немного думала о нем. Даже едва уловимые интонации ее настроения вызывали в нем мгновенный отклик. А ведь первое время она раздражала его, даже тогда, когда, как следует не зная цирка, вылезала на манеж, если там хоть один клочок пыльных опилок был свободен. И время, указанное на доске объявлений: «С одиннадцати до двенадцати – Шовкуненко», было для нее свято.
Он же был нарочито строг с этой присланной партнершей. Он давал ей понять, что искусство познается не в аплодисментах, его порой «разжевывают» со слезами. Но слез у этой востроносенькой не было. Съежится, подожмет упрямо губы и делает все, что он говорит. Терпеливая. И все же первые дни было раздражение, потом любопытство, потом… А что пришло потом – наваждение, любовь или тоска по ней, – он и сам не знал. Как Надя живет, о чем думает, чем дышит – он тоже не знал. Иногда в гардеробной он находил раскрытую книгу. Читает. Учебник по истории театра. И только. Поговорить с ней тепло, откровенно ему мешала та манера держать себя, которая появилась у него при первой встрече с ней, – он скрывал свое чувство.
Вскоре всю накипевшую боль Шовкуненко стал опрокидывать на дирекцию. Почему Надя, пришедшая дерзать в трудные дни, когда не приходится говорить об удобном реквизите, когда костюмы просто шьются собственными руками, – почему она должна переносить и пятьсот рублей зарплаты, которых едва хватало на двадцать дней, и убогое жилье на окраинах города? Шовкуненко страдал, страдал за нее и копил по крохам нежность к ней – рождавшемуся артисту. А артист все рос, становился тверже. Только раз он видел ее слезы. Да еще в Н-ске, где директором был его друг, тот рассказал. Надежда вошла к тому в кабинет. Вошла, помедлила, села в кресло.
Директор ждал. За свое двадцатилетнее директорство в цирке он изучил артистов как свои пять пальцев. Вот сейчас начнет, конечно, жаловаться и что-нибудь просить. «Все понимаю: разъезды, разъезды», – ответит он и тотчас, посочувствовав в глубине души, возьмет обязательно расписку. Расписки необходимы. Артист уедет, расписка останется.
– Что у вас? – уже с раздражением спросил он.
– Хозяйка отказала. Говорит, цирк третий месяц ей за квартиру не платит, – просто и тихо сказала Надежда. Слезы, навернувшись, переполнили глаза.
Директор смотрел на эти влажные глаза, смотрел, как, не выплескиваясь, в них дрожали слезы, и спросил:
– Ну так как же? Чем цирк будет платить, если главк не спустил смету? Должна ведь хозяйка понять. Потом получит крупную сумму.
Надежда заплакала бесхитростно, как и сказала, без просьбы, без претензии на вымаливание себе каких бы то ни было льгот. Она плакала потому, что плакать было легче, чем молчать.
Тогда, порывшись в кармане, директор достал платок и смущенно проговорил:
– Пожалуйста, возьмите, все будет в порядке…
Рука его привычно потянулась за бумагой для расписки, застыла, затем быстро начертала:
«Предоставить Сутеевой с 28/II койку в гостинице».
– Сегодня переночуйте в цирке. А завтра… – Он протянул ей бумагу, рукавом зацепил платок. Девушка взяла директорский бланк, кивнула головой и быстро вышла из кабинета.
Директор положил платок в карман, прищурился и захлопнул лежащую перед ним на столе деловую шестидневку.
Весь день у директора было хорошее настроение.
А Шовкуненко по-прежнему был слишком захвачен своим чувством. Теперь ему было достаточно пустяка, касавшегося Надежды, чтобы стать тревожно-взволнованным. Шовкуненко любил. И конечно, как это всегда бывает, сам узнал об этом последним, когда уже из цирка в цирк стала кочевать молва о них: о ней и о нем. Надя пугливо сторонилась его.
Чем и как завоевать ее доверие? Все решительно отвергая, Шовкуненко терялся. Ему хотелось постоянно видеть Надю, а если не видеть, то хоть поговорить о ней. Но слушателей было мало. У всех своя жизнь: хлопотливая, где учитываются каждая минута, пустяк и копейка. Жизнь, в которой Шовкуненко теперь чувствовал себя одиноким. Надежда тоже одна, но она совсем другая, разница у них в ее молодости, когда не боятся, что год за годом уходят, не думают, что ты один и не у кого согреть озябшее сердце. Она идет по жизни гордо, отбрасывая пошлость, и эта строгая ее юность еще больше притягивала к себе Шовкуненко. Ее глаза, слишком большие для тонкого девичьего лица и слишком серьезные для нее, заставляли задумываться. В них Шовкуненко видел все свои промахи, но иногда он чувствовал, что в этих глазах живет третий, который мешает ей понять его чувство.
Об этом третьем Шовкуненко только догадывался. Надежда ни от кого и никогда не получала писем. Родных у нее не было: погибли в Ленинграде. И все же интуиция подсказывала Шовкуненко: в ее жизни кто-то есть.
Тогда, при переезде из Иванова, им пришлось долго ждать отправки. Восемь часов до отхода поезда. И вдруг Надежда исчезла. Шовкуненко искал ее. Она вернулась за несколько минут до отправления поезда. Вернулась усталая, сосредоточенная. Ее провожал высокий ладный блондин. Он прошел вместе с ней в купе. И потом, ничего не говоря, молчал так же, как и Надежда. Молчал напряженно, в последнюю минуту сказал ей только одну фразу:
– Не думай ни о чем. Я все устрою.
Эта короткая фраза показалась Шовкуненко значительной и связывающей их навсегда.
Однако появление этого третьего вскоре перестало волновать Шовкуненко. Письма не приходили. Цирковой конвейер делал свое дело. Он рассылал людей в разные концы страны, и быстро соединить судьбы было иной раз невозможно, точно здесь действовал закон о двух параллельных.
Надежда была одна. Слишком быстро перемещались люди по конвейеру. Не сразу в цирке заводились друзья.
А Шовкуненко… С ним происходило что-то непонятное. Неожиданно для себя и для партнеров он частенько стал приходить подвыпившим на работу. Надя предчувствовала недоброе. И беда подкралась.
Два дня цирк не видел Шовкуненко. Волнение было за кулисами, в дирекции, гардеробной. Одни настаивали на товарищеском суде. Другие говорили:
– Что вы: это же Шовкуненко!
– Был когда-то, да с фронта вместо него один осколок приехал.
Но когда Шовкуненко вернулся к началу спектакля, его встретили молча. Что ж, пусть отработает, тогда поговорим…
Стараясь не смотреть на Тючина и Надежду, Шовкуненко вышел в манеж. Привычный свет, гул и непривычная зыбкость опилок. Перш на лбу. Тючин лезет вверх четко, точно шьет швейная машина. Хорошо. Теперь другой перш. Зубник. Шовкуненко держит пятиметровую палку в зубах. Верхний конец палки сделан рулем. Центр руля – бублик. В этом бублике должна покоиться голова Надежды, когда она вытянется в стойку. Улыбнувшись, Надежда вспрыгивает на плечи Тючина. Шовкуненко подают перш. Его глаза задерживаются на Надежде, и вдруг он замечает испарину, ту испарину, которая появлялась у нее на репетициях. Она больна. Надежда уже на перше. Что делать? У Шовкуненко дрожат руки. Стойка. Сейчас будет спуск. Надежда берется руками за перш, ноги обвили его. Летит быстро, едва касаясь перша. Шовкуненко перш давит на зубы. Липкая теплота во рту. Тючин подхватил Надежду на руки. Подхватил неловко и уронил, на секунду застыв с протянутыми, но пустыми руками, под которыми на ковре без сознания уже лежала Надежда. Когда у Шовкуненко взяли перш, зубник был весь в крови.
И вот они оба в гардеробной инспектора манежа. Она все еще без сознания. Молоденький цирковой врач в съехавшей с прически белой шапочке, разрываясь, суетится вокруг нее.
– Ничего у меня, доктор…
Маленькая, с застывшими чертами, Надежда лежала на топчане. Только блестки, переливаясь, жили на костюме своим блеском мишуры.
– Что с ней, доктор? – Шовкуненко припал к Надежде и как-то неумело, но громко заголосил: – Погубил! Погубил!..
В дверях толпились артисты. Тючин в сотый раз объяснял случившееся:
– Ничего не понимаю… Стойку она сделала. Взялась за перш. Начала спускаться. Смотрю, закрыла глаза. Ну, иногда же это бывает, что особенного, спускаешься с закрытыми глазами. А она как полетит, где уж тут равновесие, мера! Недаром у него кровь изо рта показалась – першем десны искалечило. Она-то уж как куль. Теперь пойди разберись, кто виноват… Я ловил. Я-то ловил.
Из гардеробной тянулся острый запах нашатыря, слышались всхлипывания Шовкуненко. Теперь уже из-за двери, ведущей за кулисы, в гардеробную без конца неслось:
– Что с ней, доктор? Вызвать «Скорую помощь»?
– Зачем? Не надо. Она уже пришла в себя…
Надежда сосредоточенно смотрела на дверь, и когда руки доктора снова быстрыми движениями стали касаться ее, она отстранилась, с трудом села и тихо, внятно сказала:
– Я беременна…
Но даже здесь, в своем несчастье, она оставалась все той же Надей. Ведь могла же она любить того, третьего, которого только раз видел Шовкуненко. Они ждали тогда отъезда, и Надежда ушла. Восемь часов. Если бы ему в жизни выпали эти часы, он, не задумываясь, ради них отдал бы годы. И все же горечь, обида, зависть захватили его. Сбитый с толку, пьяный от неудач, он легко поддался им, дав вовсю разгуляться отчаянию.
10
В тот скользкий день, начавшийся мелким, переходящим в слякоть дождем, он шел, чтобы упасть и не подняться. Сознание его было настолько болезненно-напряженно, что любая мелочь воспринималась по-новому. Когда-то он посмеивался над грозными словами «товарищеский суд». Но сегодня нервная дрожь заставила его искать в каждой табуретке скамью подсудимых. Виноват, да, но в чем? Надо уходить, порвать со всем. Цирк! Вот он, стоит, подмазанный пестрыми афишами, поношенный в свете дня. Стоит, точно старая кокетливая актриса. И Шовкуненко не может оторвать от него своих глаз. Они бесцельно застыли на рекламе. Набухшие дождем плакаты с отклеившимися углами. На одном из них он сам, Надя, Тючин. Плакат наполовину отклеился, угол завернулся, и видна лишь первая часть фамилии: «Шов…»
«Шов на здоровом теле. Силен! Искусство здоровое не нуждается в таких швах», – с этой мыслью Шовкуненко и вошел в цирк.
Товарищеский суд должен был происходить в директорской. Шовкуненко прошел туда. Расстроенная секретарша робко кивнула ему. Директор сделал вид, что занят. По конюшне бегал Бирюковский, профорг и музыкальный сатирик, скликая всех:
– Товарищи! Ну нельзя же так! Товарищи, ну что же это? Срываете, значит? Понимаете, нет? – говорил он каждому, доказывая необходимость идти в директорскую.
Плотный, похожий на боксера, с маленькой, юркой головкой, волосы на которой казались горячим дышащим дегтем, Бирюковский торопил всех, попеременно помогая своим речам руками. Он в избытке энергии хватался за голову, а потом осторожно, двумя пальцами вытаскивал не платок, а скомканный легнин[3]3
Легнин – специальная бумага для снятия грима.
[Закрыть], вытирал вазелин, который, как капли пота, стекал с волос на шею.
Народ собирался медленно. И когда из директорской клубами повалил папиросный дым, суд начался.
Шовкуненко следил за Надей. Она казалась безучастной, утомленной. Слова и намеки, колкие, обидные на языке Бирюковского, трудные, но справедливые у Шатрова, должны были задевать и ее, но они будто обходили ее стороной, оставляя наедине со своим раздумьем. Единственным, что врезалось в Надино сознание, были руки Шатрова, с такими же мозолями на ладонях, как у нее. Руки, которые жили ощущением высоты.
Это ощущение появилось у нее еще в детстве, когда Надя ходила в детский сад и целый день на крыше их громадного восьмиэтажного дома гуляла с другими малышами.
– Дичок! – говорила про нее маме воспитательница. – Норовит все к самому барьерчику пролезть. Ни песком, ни играми отвести нельзя.
Надя не любила строить песочные замки, водить ручеек. Ее глаза восторженно ловили птиц, пролетавших над крышей, и, подражая им, она бегала по крыше, размахивая руками. А птицы пролетали мимо. Наде становилось грустно. Дом был высокий, а деревья, на которые она смотрела с крыши, казались ей кустиками. Она ощущала высоту, и ей хотелось взлететь: не бежать по крыше, размахивая руками, а лететь, перегоняя стайки и показывая птицам язык: «Лечу – догоняйте! Что же вы отстаете – э!»
И вот это ощущение высоты и полета стало осязаемым, оно пришло в студии циркового искусства. Ощущение высоты, которое едва не исчезло, когда она узнала о гибели отца и матери в Ленинграде.
Потребность работы превратила это ощущение в чувство полета. Окончено училище. Цирк принял ее. Надя теперь артистка. Где-то в другом цирке работает человек, ребенок которого заставлял ее быть осторожной на репетициях. Она не получила от человека ни одного письма, но ждала. Даже в ожидании она могла быть неутомимой. Не пишет – значит не мог добиться, чтобы маршрут конвейера совпадал! Не пишет – значит тоже ждет решения! Когда ей становилось тяжело, она вспоминала его слова: «Ни о чем не думай, я все устрою». И каждый раз эти несколько слов она превращала в весточку, которую ждала.
Да, та встреча с Вадимом сообщила ее полету радость ощущения высоты. Прошел месяц, и радость стала осязаемой: ребенок, он точно должен был навсегда поселить счастье и связать их пока разрозненные судьбы. Ей думалось, все будет по-настоящему: семья, работа, цирк. Те восемь часов жизни вошли в Надино сознание чистым светлым чувством, пришедшим почему-то именно в ее первом, Ивановском цирке. Надя не допускала мысли, что Вадим обманул, передумал или просто забыл. Все это в сравнении с их встречей было мелким, ничтожно-мелким и невозможным. Но сегодня, неожиданно для себя, она почувствовала тяжесть молчания Вадима. Четыре мучительных месяца ожидания встали перед Надей, пытаясь убить яркость тех живых еще в душе восьми часов. Вдруг Надя отчетливо поняла: горе пришло к ней; если опять утрачены воздух, пространство, крылья, и земля кажется ей жесткой, суровой, пришло горе!
Шовкуненко молчал, боясь нагородить сгоряча лишнего. Ему было нелепо приятно, что его обвиняют в том, о чем он сам мог только мечтать. Ребенок его и ее, пусть будет так! Так лучше! Им незачем знать, что есть третий, тот, который дорог ей. Пусть его молчание припишут искалеченным в тот вечер челюстям: он не скажет ни слова. Он должен молчать, чтобы сберечь ее тайну.
Шовкуненко посмотрел на Надю. Ее потухшие сегодня глаза, сложенные на животе руки вызывали обиду и страх.
«Сейчас она встретится со мной глазами. Что я должен сделать, как передать ей ту решимость, которая заставила бы молчать и ее? А может быть, я не прав?» Шовкуненко вдруг захотелось найти в ней хоть одну задоринку, чтобы вместе со всеми упрекать или призвать к благочестию. Вот она стоит: худа, угловата и даже живот, едва обозначившийся, не выдает беременности. Стоит одна со своим горем среди людей, что в порыве оскорбления чистоты их морали слепы и глухи, стоит, ухватившись в безнадежности взглядом за чахлую зелень герани, торчащую в глиняной плошке.
Наконец губы ее дрогнули. Шовкуненко подался вперед. Она хочет говорить.
– Григорий Иванович ни в чем не виноват! – голос ее показался Шовкуненко чужим. Надтреснутый и далекий от волнения, он умолк и больше не раздался.
Да, обо всем, что касалось ее горя, Надя решила молчать. Только радость – вслух. А горе свое – надо про себя, чтоб не легло на другие плечи. И Надя молчала.
Суд кончился. А решение? Каково оно? С ним не так-то просто. Вот утром главк запросят. Завтра к вечеру, наверное, на доске приказов среди авизо[4]4
Авизо – распорядок репетиций.
[Закрыть] и разнарядок можно будет прочесть…
Усталые, недовольные, расходились артисты, вершившие суд.
– Неладно получилось! – еще говорил Бирюковскому Шатров. – Ты вот суд не так направил. Стоило некоторым выйти за дверь, и слышишь: суд-то сразу в пересуды превратился.
– Ах, бросьте вы! – раздраженно отмахнулся Бирюковский. – Ведь все из-за Шовкуненко. Боремся за каждого. Он допустил аморальность, а партнерша говорит – не виноват. Поди разберись теперь.
– И верно, тебе разобраться самому во многом нужно. Боремся за каждого, говоришь. А вот у меня такое чувство сейчас, будто я вместе с тобой выдал здоровому человеку справку: не годен по всем статьям.
– Что ж, выходит, я во всем виноват?
– Да нет, пожалуй, такая, как Надя шовкуненковская, не допустила бы даже в мыслях, чтоб ты стал отцом ее ребенка. Ведь сердца у тебя нет – это и есть вина твоя. Бездушие что подлость. Одно понятие. Гляди, как артисты расходятся. У каждого тревога, боль, а у тебя любопытство, и все…
– Ну, еще что? Если сейчас я буду отвечать вам, так знаете, Шатров, как бы второго товарищеского суда не было. Э, ну вас, работать нужно, а люди сами разберутся.
Бирюковский круто повернулся и торопливо засеменил к двери.
Шатров хотел было сказать вдогонку что-то, остановился и тоже круто повернулся, направляясь к директору. Шовкуненко уходил последним. Он знал свою дорогу. Дорога вела от цирка к пустырю, туда, где жила Надя, где цирк за десять рублей в сутки снимал ей угол. Только угол, а если угол был худ, если ливни заливали его, а домохозяйка всегда была чем-нибудь недовольна, Надя не жаловалась, оставаясь верной себе: угол – временно, дом – это пропахший животными цирк.
Те же чувства теперь стал испытывать Шовкуненко. И, бредя по пустырю, он думал только о ней. Почему вместо него на Надю был обрушен весь ушат холодного негодования? За что ей, труженице, досталось то, чем травят трутней? Он сам подвел ее, еще тогда, в конце лета, когда он пришел к Наде узнать, что с ней происходит, помочь ей. Сначала он шел, твердо решив высказать все. Потом ее не оказалось дома. Он ждал, сидя на крыльце. Перед ним лежал этот же пустырь. Увядшая зелень, ломкая и шершавая, как бумага от сильного ветра, стелилась по земле. Земля за лето от зноя потрескалась и выступала темными прогалинами лысин. Там, далеко, в начале пустыря, показалась ее фигурка. Она двигалась неритмично, смешно, точно прыжками.
«Чертовщина, и только. А красиво! Странное у нее чутье. Пустырь, а ведь нашла здесь красоту. И впрямь хорошо!»
Шовкуненко прищурился, на него прямо шла Надя. В руках она держала туфли, а босыми ногами осторожно перебирала, идя по трещинам, точно по проволоке. Ее белые ступни мягко ложились на землю, закрывая трещины. Солнце яркими бликами сопровождало ее. Надя ловила их и, точно ослепленная, шла. Шовкуненко тогда же и растерял все слова и мысли…
И только сейчас эти нужные в те минуты слова вырывались у него непроизвольно:
«Родная, хорошая девчонка – Наденька, Надюша: да разве есть на свете больше и огромнее чувство? Люблю! Люблю такой: босоногой, ступавшей по той растрескавшейся земле. Пусть даже я буду для тебя потрескавшейся землей! Пусть! Но ты пройдешь по ней, а это уже жизнь. Так хочется хотя бы прикоснуться к счастью…»
Да, он и теперь нужен ей, на этом же, пусть осеннем теперь пустыре… Надя сидела на траве, беспомощно уронив на колени еще загорелые руки. Глаза ее были закрыты. Шовкуненко опустился рядом. Надя по-прежнему была безучастна. Маленькая синяя жилка билась на ее худенькой шее. Шовкуненко смотрел на всю ее онемевшую фигуру и думал и мучился, не зная опять, как ей помочь. Вот она перед ним сидит… В девятнадцать лет должно быть столько сил, радости… Почему же в этой юности он видит свои сорок два?
Надя по-прежнему оставалась недвижимой. Шовкуненко неожиданно для себя плашмя распластался, вцепился в землю. И вдруг, не отдавая себе отчета, подхватил Надю на руки, понес свою ношу.
А она, едва сдерживаясь, чтобы не потерять сознания, прерывисто говорила:
– Не надо! Не надо! Я сама!
Чем настойчивей и бессвязней становился ее говор, тем сильнее он прижимал ее к груди.
Шовкуненко принес Надежду в гостиницу, уложил в кровать. Затем с лихорадочной быстротой зазвонил в больницы. Наде становилось все хуже, она теряла сознание и временами стоны, хриплые, надрывные, заставляли ее вздрагивать.
– Больница! «Скорую помощь»! Ей плохо… Что?! Не знаю… Беременна. Плохо ей очень. Только поскорее! Гостиница «Астория», номер семнадцать, Шовкуненко.
Время тянулось долго. И когда раздался тихий стук, Шовкуненко рванулся к двери.
– Тючин!..
Влетевший в комнату Тючин опешил, увидев побелевшее, растерянное лицо Шовкуненко, решительно прошел в номер. Здесь Тючин оживился, и вдруг будто его прорвало:
– Так вот оно что! Значит вот, все теперь ясно! А я не желаю из-за ваших… ваших… – не найдя нужного слова, он запальчиво выкрикнул: – Уходить из искусства! Завтра же напишу в главк. Пусть осуждают, но не меня. Я – сам. Я…
Шовкуненко подхватил его, как нашкодившего щенка, вышвырнул в коридор и осторожно подошел к Наде, но она не слышала и не видела. Надя была в забытьи…
– Где больная? – врач вымыла руки, присела на кровать. – Приподымите! Так… Вы проездом?
– Нет. Хотя да… Мы – артисты цирка.
«Скорая помощь», больница. Надя с пустыми глазами. Укоризненные взгляды врача, сестер, нянек и снова цирк. Утро в цирке и вечер в цирке. Даже ночью он не хотел уходить, оставался ночевать в гардеробной – наедине с ее костюмами. Артисты участливо предлагали помощь. Но Шовкуненко молчал. Он уходил в больницу ко времени первых передач и сидел вплоть до пяти часов дня, пока врач не передавал ему записку от больной. Разговор по запискам был труден, был невпопад, и тем не менее Шовкуненко не мог без этих коротких, вымученных ею слов. Он вполне отдавал себе отчет: их обоюдное молчание, его поведение в эти дни слишком осложняли дело, вынесенное на товарищеский суд. Артисты теперь недоверчиво косились на него.
– Да и сомневаться нечего. Он и есть отец ребенка, – говорили одни.
– Ребенок-то уж в прошлом. Давеча Шатров в больнице был, врач говорит, что в тяжелом состоянии. Так что Шовкуненко сейчас хоть горы сверни, а оправдания ему нет, – говаривали другие.
– И все же здесь что-то не так, – рассуждали третьи.
Но Шовкуненко не задевали разговоры. Его мучила навязчивая мысль: как вернуть Надю в цирк? Он ясно сознавал, что уйти из искусства она уже никогда не сможет, это ее жизнь. Но стены цирка сейчас будут ею болезненно восприняты. И вдруг раздумья у него вылились в решение, сначала показавшееся чудовищным. Уйти из цирка в передвижку, в маленький цирк на колесах.
Решив так, он подал заявление о своем уходе. Его расспрашивали, уговаривали, но он настаивал. И вот документы на руках.
«Ей пока ни слова!» – твердил Шовкуненко себе. Молчал до тех пор, пока не увидел ее, слабую, в девятнадцать лет женщину, которая была разбита гибелью ребенка и, не думая, безвольно, по инерции пошла за ним. Шовкуненко больше не сомневался: решение правильное.
Так он стал искать два места в мире. А люди ведь были всюду.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!