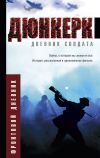Текст книги "Кожевники. Муки счастливого детства"

Автор книги: Наталья Юлина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Кожевники
Муки счастливого детства
Наталья Юлина
© Наталья Юлина, 2023
ISBN 978-5-0060-1223-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Война
Я родилась в феврале. В полгода я уже говорила (и хотелось написать писала, но это было бы враньем) и ходила, держась за руку, за лавку, за диван и за всё, что для этого годилось. Ползать мне просто не приходило в голову.
Но тут немцы начали бомбить мой город. В Москве больше не топили, и мне пришлось затормозить свое развитие.
Помню, все спускались в бомбоубежище с плохим настроением, кроме, конечно, меня. Каждого, на меня взглянувшего, я подбадривала ослепительно беззубой улыбкой.
И тут бомбежка кончилась сразу после того, как бомба попала в наш дом. Бабушка падает без памяти, потому что в квартире остался мой дядька Витька. Он всю ночь дежурил на крыше нашего дома, собирая фугаски, но вместе со звуком сирены его дежурство кончилось, и он ушел спать.
К счастью, бомба упала в середину дома, и наше крыло выстояло. И вот мы поднимаемся на наш четвертый этаж – дядька Витька спит сном праведника, прикрытый поверх одеяла настенными часами с маятником и боем. Ни боя часов, ни грохота от взрыва бомбы, сдернувшего со стены часы, он не слышал.
Я вполне обжилась в этих не простых, но упрощенного комфорта, условиях. Так как не было никаких натуральных продуктов, ни молока, ни сахара, то врачи рекомендовали маме кормить меня грудью столько, сколько она сможет. Я ела и пила до двух с половиной лет исключительно продукт, произведенный моею мамой: подбегала к ней и требовала грудь. Потом мама начала преподавать в школе, а нянькой пристроили дядьку Витьку. Чем он меня кормил, трудно сказать. Будучи неробкого десятка, к тому же с природной склонностью к экспериментам, (нечего и добавлять, что я унаследовала эти, неплохие, в сущности, черты), время от времени он сажал меня на абажур, чтобы поглядеть, как я буду добывать пищу. Даже такому неглубокому уму, как мой, быстро становилась очевидной ошибочность его действий, и я требовала компенсации.
Тогда дядька Витька клал меня в коляску, привязывал к ее ручке длинную веревку и отпихивал этот экипаж в дальний конец коридора. Коляска верещала ржавыми сочлененьями, уж не помню, смеялась я или плакала. Тут он выбирал петли веревки, я возвращалась к нему, благодарная за спасение, а он повторял аттракцион снова и снова.
Сказка ласки леденец
Мой дед, как теперь и я, не мог спокойно жить, если не узнал последние новости. В пять лет моей обязанностью стало после работы читать деду свежую газету. Учили меня читать или я сама овладела этим искусством, еще сидя в утробе мамы, трудно вспомнить.
Если у деда выдавался беззаботный часок, он становился моей куклой. Я собирала его мягкие, тонкие волосы в кисточку, заворачивала лентой и завязывала бантик, эта игра мне нравилась, а вот кукол тряпочных, целлулоидных и прочее барахло я презирала.
Я могла часами играть с большой коробкой карандашей. Каждый карандаш был членом многочисленной группы людей. Там было много детей, много взрослых, и все они увлеченно чем-то занимались. Подробнее про эту игру сказать ничего не могу, потому что я выросла и сделалась туповатой.
То, что хочу сейчас рассказать, произошло много раньше карандашей. Это было время, когда голову никак не тормозило тело, я просто не знала о его существовании, да, тело тогда еще не добавилось к моей голове.
Я просыпаюсь в полдень одна и иду по коридору в кухню. Я иду, а под ногами у меня солнечные пятна. И вот вхожу в кухню, а она вся – свет. До этого я, наверняка, видела солнце и раньше, и в кухне оно иногда лежало после обеда, но этот миг я запомнила, потому что он и был тем самым недосягаемым счастьем жизни.
Конечно, никто меня больше на абажур не посадит. Время моё прошло. Но немножко я продолжаю жить на абажуре. И не высоко, но сверху. А пока в квартире со счастьем живет еще одна семья и в ней мальчик Миша. У него большая голова и полное отсутствие интеллекта. Как только его выводят на улицу, он, не раздумывая, бросается под машину, и взрослые с трудом вытаскивают его из-под колес. Не думаю, что Миша так отважен, мол, выскочу и одержу победу над этим чудищем. Скорее он теряет голову от страха, поэтому бежит не от машины, а прямо на нее. Одно слово – мальчик.
Не подумайте, что я такая злая, и не люблю сверстников: у Миши была сестра Оля, на год меня старше, моя душевная подружка.
Любимой, тайной игрой у нас с Ольгой была игра в ёлку. Ставили в коридоре один табурет, на него другой, перевёрнутый, в него горшок с цветком, самый большой, какой могли поднять. Ёлка готова. Вернее, не ёлка, а её начало. Ёлка – это, когда наряженная.
Сначала всё это заматывается бельевой веревкой. Чем больше, тем лучше. На веревке можно вешать всё: носовые платки, фантики, платки другие, шапки, мамину старую шляпку, её прозрачную кофточку, а чтобы блестело, можно втыкать гвозди, засовывать стеклышки от секретов, ложки, скрепки, вилки. Мы работали с Ольгой уже два часа, но всё чего-то не хватало.
Вдруг Ольга оборачивается и кричит: «мама», так что я вздрагиваю. Ее мама с ней не живет, потому что она умерла. Они приехали из Средней Азии после землетрясения уже без мамы. Я поворачиваю голову и вижу очень красивую женщину. Она, ласково улыбаясь, смотрит на елку, потом в полной тишине начинает нам помогать. Как только Оля называет её мамой, она прикладывает палец к губам, как бы говоря: «тише, если будешь шуметь, я исчезну».
Ёлка переливается всеми цветами радуги, ёлка торжествует вместе с нами. И тут у мамы в руках появляется серебряная звезда. Она прикладывает ее к самой верхушке, и мы, не отрывая глаз, смотрим на звезду. В углублениях серебра вспыхивают красные огоньки и змейками выскакивают наружу. Оля плачет. Сначала про себя, потом появляется голос, и в этот момент мама со звездой исчезает. Она просто тает в воздухе.
Больше мы с Олей в ёлку не играли, зато рассказывали друг другу случаи из жизни.
Когда подружка пошла в школу, не очень я ей завидовала, потому что всё равно считала себя старшей. Помню, как Оля спросила меня, как пишется Онекдот или Анекдот, и я, надув щеки, обучила ее релятивистскому подходу к проблеме. Объяснила, что пишут, и так, и так – всё дело в том, про что анекдот.
Истории из жизни мы рассказывали друг другу в охотку и не часто, зато каждый день носились по коридору, придумывали разные занятья и еще выбегали из кухни на балкон посмотреть на трамваи. Это зрелище захватывало нас сильнее всяких сказок. Близко от нашего подъезда, на трамвайной остановке скапливался народ. И вот высокий домик с окнами, мелодично прозвенев, подкатывал, из него кубарем вываливались люди, как муравьи расползались в разные стороны, а в это время дребезжащее чудо, изобразив пылесос, уже всосало всю прежнюю толпу. Бесконечная повторяемость и неповторимость движений приковывали, это, как смотреть на огонь в печи.
Иногда со звоном проходил грузовой трамвай, где-то задетый бомбой и залеченный синей высокой фанерой, стоявшей вертикально по бортам. Во времена, когда я не могла в силу объективных причин выходить из комнаты, я рассматривала улицу, стоя на подоконнике. Тогда, за неимением жизненного опыта, я называла такие штопаные трамваи рваными.
Но вернемся к нашим с Ольгой играм. Балкон, с широкими выходами в небо между ржавых железных брусьев, был старым и каменным. Чтобы мы, разгоряченные игрой, прямо из кухни не выскочили с четвертого этажа, между брусьями навязывались проволочки, их легко можно было отвязать, но старшие запрещали это делать. То ли дед, то ли дядька Витька, то ли я сама, кто-то из нас выступил автором такого толкования: если отвязать даже одну проволоку, балкон сразу обвалится. Мы с Олей, находясь на первобытном уровне развития человека, боялись даже дотрагиваться до проволочек. В жизнь входило колдовство, тайна, не подчинявшаяся никакому разуму.
Ледоход в Кожевниках
А с мальчиками всё как-то не клеилось. Не могли они мне понравиться. Первый раз, конечно, Миша, брат подруги Оли. Второй раз случилось еще в доязыковый период, когда я не безмолвствовала, но объяснялась звуками и жестами.
Везла меня мама в трамвае. Сижу у нее на коленях, в руке держу любимый совочек. Не смогли его у меня вырвать после песочницы. А напротив нас сидит пренеприятный мальчик, его лицо мне принципиально не понравилось. Терпела, терпела, терпела, и тут терпенье лопнуло, и я совочком залепила в ненавистное личико. Младенец завопил, а моя мама, схватив меня в охапку, выскочила из трамвая.
И третий раз, это уже учусь. После уроков выхожу из школы в коллективе подруг, и тут едва замеченный мною мальчик, тоже в коллективе, только своем мужском, оттягивает резинку на рогатке, и металлический заряд летит мне в ногу. Боль сливается с яркой ненавистью не только к этому, но ко всем лицам мужского пола на Земном Шаре. Дед к тому времени уже умер, а дядька Витька уплыл за горизонт. Наступило время соприкосновения с неприятными людьми. Выросла я и научилась прощать, как теперь выражаются, стала толерантной, и пришло мне в голову, а чем черт не шутит, может быть, мальчик с рогаткой это тот самый, кого я так не мотивированно (с его точки зрения) атаковала, вооруженная совочком.
В развеселое дошкольное время папа был на фронте, а мое человеческое общество состояло из деда, бабушки, мамы, дядьки Витьки и соседки, ровесницы Ольги. Никаких садов-яслей не было, и первый мой выход в общество состоялся в туберкулезном санатории. Что такое этот санаторий? Пожалуйста. Передо мной ветка орешника – листья широкие большие, сзади меня такая же ветка, и невысокая трава в стороне. Всё. Это и есть санаторий, где я провела три месяца.
А в Москве в Кожевниках природы вокруг еще меньше. Любимая природа появлялась весной – ледоход. Наш дом отделялся от Москва-реки большим пустырем, местом моих юношеских подвигов. Там мы жили большой компанией, и я оказывалась, по слухам, не последним атаманом (до моего слуха это донес дядька Витька уже много лет спустя). Но ледоход… Я в школе, – перед школой мы уехали в сухопутное место, – хотела где-нибудь описать, рассказать, что такое ледоход, но всем было не интересно. И вот он, случай.
Приходишь на берег и тут же с большой скоростью начинаешь уплывать. Всё серое, вспученное, каменное, ледяное стоит на месте, а ты летишь мимо. Страсть к такому полету – это первое наркотическое переживание. Поймать кайф от затяжки сигаретой, разве не то же. Если б в детстве я не плыла перед ледяными завалами, то не была бы такой… глупой или инертной, или вообще была бы другой.
С тех пор я никогда не видела ледохода. Во… от, вот почему я становлюсь с каждым годом всё глупее.
Школа 629
И пришло время идти в школу.
30-го августа собрали класс. Чужая тетя учитель нарисовалась страшной угрозой.
Огромная – и я поняла свою крошечность. Усатая – и я осознала, что у меня совсем голое лицо. С агрессивным мужским голосом – и моя колоратура превратилась в писк.
Вернувшись после казни домой, я категорически отказалась хотя бы раз добровольно пойти в школу. Но угроза была ложной, наша учительница Анастасия Ивановна, старенькая, худенькая, с тихим мягким голосом, ничем не напоминала того усатого гренадера.
Тем не менее, в первый день от страха девочка Никифорова, высокая, как нам, колобкам, казалось, с напуганными глазами, похожими на спелую вишню, описалась посреди урока. Никто не смеялся, все смотрели на нее с ужасом. Если с ней это случилось, так что, и с нами может? А девочка Никифорова уже никогда не будет, как мы. Она будет великомученицей, снявшей с нас первородный грех недержанья.
В классе не было мальчиков. А я неделю назад победила Альку из квартиры под нами. Мы только переехали с берегов Москва-реки в новый дом на Мытной. Спустилась по лестнице, и тут вполне неизвестный мне Алька молча замахнулся на меня, я молча врезала ему, и больше он никогда ко мне не приставал. Я хотела побеждать еще, но в классе не было мальчиков. Пришлось их выдумать. Всех девочек класса я рассортировала на мальчиков, девочек и нейтральных персон.
Мальчики – это громкие, кривобокие пофигистки. Девочки – тепленькие мягонькие тихони. Все остальные – нейтралы.
С первых дней я произвела хорошее впечатление, и одноклассники доверили мне свои уши. Моя специализация называлась санитарка. Я ходила в школу с красным крестом на белой повязке повыше локтя. Мне вменялось перед уроками стоять у входа в класс и заглядывать каждой входящей в уши. Я ни разу не заметила грязи в ушах, за что меня уважали, но не любили, потому что любовь в этих сердцах проснется классу к пятому. Мы были стадом овечек, снимавших свои шкурки только при выходе из школы.
После первого класса, а также после второго, третьего, четвертого я вместе с колонной родственников по папиной линии отправлялась в Тарычево. Овечья шкурка так прилипла к моему тельцу, что кузина Лиза, на два года младше меня, считала меня барашком. Кем еще может быть существо, нырявшее с книжкой на целый день в заросли золотых шаров.
Первый класс, школа не могли стать причиной моего изменения. Дело было в другом – перед началом дачной жизни умер дед. Вот она старая фотография. Я стою ближе всех к гробу и с растерянным недоверием смотрю в лицо деда. Выглядит эта малютка не по годам юной. Больше четырех ей не дать. И вот смерть деда переломила младенчество.
Снова школа
Так шли наши годы, и вот кончился Тарычевский период моей жизни вместе с окончанием начальной школы.
После четвертого класса тихая добрая наша учительница выпустила нас в пятый. Брошенные на произвол судьбы, мы как будто сорвались с цепи. Литвишка, маленькая и безгласная, специализировалась на терроризме. Сидя на первой парте у окна, она, разломив пирожок, брала рис по крупинке и запускала в Мумию. Мумия – это престарелая бабушка учитель, такая ветхая, что казалось, ей нелегко усидеть на стуле. Она стряхивала рисинки, не отдавая себе отчета, что это не манна небесная. Взявшись учить нас истории, не понимала, что истории делаем мы сами сподручными средствами, ежеминутно и успешно. Однажды она спросила нас, может ли греческий герой Гектор появиться среди нас. Тут поднялась толстощекая Милка и, держась за парту, чтобы лжемальчик Карпухина не свалил ее с ног, ответила «Нельзя войти в реку два раза». Мумия подняла ветхие веки и вопросила: – Вы уже учились у меня в пятом классе? – Нет, – гордо отвечала Милка.
Нам, как коллективу, плевать было и на Милкину гордость, и на Мумию с ее доисторическими вопросами, ведь мы уже собрались на следующий урок – пение.
Звонок. Бегом вниз, там стоит сцена и в углу пианино. Мы торжественно выстраиваемся в два ряда. Петь сидя нельзя, как спать стоя. Нина Митрофановна, не молодая, не старая была нам в самый раз. Стоит перед нами и машет руками. Кто-то дерет горло, кто-то шевелит губами, вспоминая не доеденный дома бутерброд, а задний ряд занимается самовоспитанием. Играют в слова, дают подругам щелбаны, щиплют передним попки.
Ну, пение-то безобидная наука.
А вот и кое-что вредоносное: мы изучаем литературу. Ничего глупее человечество не придумало. Я читала наизусть стихи в полтора года, и помню их до сих пор:
Котик усатый по садику бродит
А козлик рогатый за котиком ходит
Лапочкой котик моет свой ротик
А козлик седою трясет бородою
И вдруг с первого класса басни Крылова. Я физически не могла запомнить эту абракадабру. Вставляла свои слова, переставляла всё, что удавалось переставить. Это было мученье. Со страха я дословно с первого раза запомнила какую-то узбекскую сказку «Голубой ковер».
В пятом классе начались СОЧИНЕНИЯ. Начинать следовало с ПЛАНА:
А Вступление В Главная часть С Заключение
В каждой части записываешь всё, что нужно сказать, вроде такого: Людмила – душа Татьяны. Татьяна – душа Людмилы. Меняются ведь не только квартирами.
И так далее. А что же там далее?
Я нашла выход. После заключения снова переписываешь все три части. Поставили отметку три, объявили, тема не раскрыта. Как не раскрыта, разве я вступила в противоречие с разделами А В С. Нет, толочь воду в ступе я не согласна. Если ПЛАН занял полторы страницы, то с его повтореньем уже три. И тема не раскрыта? Литература стала моим ужасом до самого окончанья школы. Мне кажется, литературу надо преподавать попугаям. Поставить учителей литературы в зоомагазины, и тогда его клиенты узнают от попугаев, что у Татьяны Лариной есть образ, а у них вот, как будто, и нет.
Преподаватели
Все преподаватели литературы остались в памяти воинами в шлемах с перьями. Последняя, о, незабвенная Серафима, входила в класс, медленно подпрыгивая поочередно на каждой ноге, маленькая, с жидкими косичками, уложенными между ушей, и с ложным сочувствием в воловьих глазах. Литераторши менялись каждый год, и только Серафима вынула перья и просто, не входя в раж, зачитывала тексты из учебника по литературе для педучилищ.
Такой же лежал передо мной на парте (это не трудно, если мама школьный учитель), и я водила пальцем по озвученным строчкам. Вот она увидела в книге МХАТ и пояснила: Малый Художественный театр. (Кто ее тянул за язык? Что заставило ее расшифровывать? Нет, добросовестнейшая женщина с повышенным чувством ответственности. Что поделаешь?) Когда Серафима в риторическом угаре на два шага отдалялась от стола, где лежал учебник, то начинался лирический, всегда неизменный, занос: «Как мы видим (пауза). Как мы знаем», после этого заклинания она с еще большим одушевлением возвращалась к столу и продолжала сеять среди нас чистое и доброе. Иногда лирика ее завершалась легким прикосновением к плечу Лидки Хазановой, сидевшей на первой парте.
Серафима – последняя моя наставница в литературе, а начинала в пятом классе Софья Владимировна. С первых уроков мы поняли, что война будет до последнего патрона. Что нас так от нее отвращало, не поддается анализу. Это была серьезная, строгая женщина, стремившаяся увлечь прекрасным этих бесовских созданий. Вот передо мной синий конверт. По заданию Софьи мы писали письмо Дефоржа своей матушке с описанием встречи с Дубровским. Я расстаралась написать адрес на конверте по-французски.
Но все мы воспринимали ее педагогические изыски, как издевательство над нами, и изводили ее по полной программе, так что к середине четверти донесся слух, что старшеклассницы занялись организацией Варфоломеевской ночи для нас, чтобы отомстить за любимую учительницу. Слава Богу, начальству удалось погасить конфликт.
Следующая литераторша, с самыми мужественными перьями в шлеме, обладая немалым опытом и проблемами со здоровьем, категорически не хотела нас учить. С ней ничего, кроме СОЧИНЕНИЙ. Если кто-то в тишине, нарушаемой кашлем простуженной Милки, поднимал руку, чтобы задать вопрос по теме, наш гуру Словесности, сидевший в середине среднего ряда, болезненно отвлеченный от своих занятий, произносил: «Ну, что тебе?» с такой отчаянной ненавистью, что любопытная ученица готова была провалиться сквозь землю. Кислое лицо этой грузной женщины остановило бег моих часов и запало куда-то глубоко.
Единственный серьезный учитель – это историк Павел Федотыч, или в просторечье Палфед. Самой большой язвой времени была полная деидеологизация и ее следствие: практика ведущих страну и ведомых ими выбрасывать в воздух пустой, но пафосный дискурс. В школе этому обучали на литературе, и, казалось, что Палфеду надо того же. И вот я начинаю тараторить на заданную тему и вдруг вижу, что учитель сморщился. Он прервал меня и, хотя его слов я не помню, но абсолютно точно усвоила смысл – не надо говорить бессмысленное. Этот урок показал мне, что любая гуманитарная «наука» порочна по построению. Ни в коем случае, хотя мама и папа хотели этого, нельзя иди туда, где пахнет идеологией. Какой бы ни был строй, какие бы ни были вожди, бессмыслица восторжествует среди гуманитариев.
Нет, были и веселые учителя, Софья Израилевна, например. Она много смеялась, всегда выглядела счастливой, а однажды во всю доску нарисовала футбольное поле и весь урок расставляла на нем игроков. Мы с большим интересом рассматривали, и поле, и учительницу, тем более что она рекомендовала себя, как носителя истинно немецкого языка, тогда как в Берлине, например, не умеют говорить по-немецки. Я верила ей на слово, но мы с подругой Лоркой два раза в неделю ходили на Полянку к Елизавете Викторовне. Я вспоминаю ее, прибалтийскую немку уже в возрасте, как самое ласковое, доброжелательное существо, встреченное мною в возрасте от 7 до 17 лет. В десятом классе я уже читала Goethe «Die Leiden des jungen Werthers», что нисколько не разбудило во мне девушку, а может быть и наоборот, я посчитала, что страдания – это некорректные странности.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?